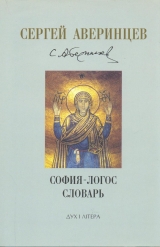
Текст книги "София-логос словарь"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 71 страниц)
СУДЬБА – понятие-мифологема, выражающее идею детерминации как несвободы. От понятия С. следует отличать два другие понимания детерминации, оставляющие место свободе: научное, т. е. каузальную детерминацию (причинность), и теологическое, т. е. смысловую детерминацию (Провидение, предопределение). Каузальное понимание допускает возможность выйти за пределы необходимости, проникнуть в ее механизм и овладеть им. При теологическом понимании человеку предлагается увидеть бытие как бесконечную глубину смысла, как истину, что опять-таки связано с идеей свободы: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ии. 8:32). В обоих случаях содержание понятий «познание» и «свобода» весьма различно, но связь между ними очевидна. Напротив, С. не только скрыта от человеческого ума (как многие каузальные связи), не только непознаваема (как и Провидение) – она «слепа» и «темна» безотносительно к познающему субъекту, по самому своему бытию. С. не просто скрыта в некоей темноте, но сама есть темнота, не высветленная никаким смыслом, – и притом именно в качестве несвободы. У С. есть (в глазах верящего в нее) реальность, но нет никакой «истинности», а поэтому ее можно практически угадывать методами гадания, ведовства, мантики, но ее немыслимо «познать», ибо в ней принципиально нечего познавать.
Идея С. связана с двумя различными измерениями человеческого существования: биологическим и социальным. Первое дает переживание слепой неотвратимости жизненного цикла: бессознательный ритм крови и пола, принудительность инстинктов, подневольный путь к изнашиванию тела, одряхлению и смерти, только на исходе которого человек наконец оказывается «на своем месте», как говорит древнеегипетская погребальная песня арфиста (см. М. Э. Матъе, Древнеегипетские мифы, М.-Л., 1956, с. 78). Внеисторичность характерна для внешнего облика идеи С, поскольку история предполагает момент свободного человеческого действования, а С. отрицает его. Однако на более глубоком уровне идея С, т. е. несвободы, как и соотнесенная с ней идея свободы, насквозь социальна; мало того, природная несвобода в большой степени служит для человеческого сознания лишь символом социальной несвободы. Характерна этимология русского слова «судьба», находящая аналогии во многих языках: С. есть «суд», «приговор», но не в смысловом аспекте справедливости (как, скажем, Суд теистического Бога), а в иррациональном аспекте принуждения, суд, увиденный глазами человека, которого «засуживают» (срв. «Процесс» Кафки). В символике суда и приговора социальная природа идеи С. выступает с полной ясностью: С. – это вещно-ненроницаемое, неосмысленное и неотвратимое в отношениях между людьми. В силу своей социальности идея С. исторична и претерпевает изменения в связи с метаморфозами идеи свободы.
Первобытное общество предполагает тождество свободы и несвободы для своих членов (ибо каждый из них еще не отделяет своей внутренней сущности от родового бытия). С. для человека этой эпохи тождественна другим типам детерминации, не отличаясь от естественной каузальности и воли духов. Лишь становление государства и цивилизации постепенно разводит эти понятия. Для греческой архаики и ранней классики (VIII—V вв. до н. э.) бытие человека извне и изнутри органически определено его «долей» – местом в полисном укладе, которое он наследует при рождении так же непосредственно, как и свои природные задатки (С. как «доля» – таково значение терминов «мойра», «айса» и «геймармене»). То, что С. не сваливается на человека извне, а развертывается из него самого, определяет «физиогномический» стиль классической греческой концепции С, выявленный в сентенции Гераклита (frg. В 119, Diels), согласно которой «этос» человека, т. е. форма его существования, и есть его «даймон» – инстанция, определяющая С. Герои трагедий Эсхила, сколько бы ни был страшен их удел, не могут пожелать себе иной С, ибо для этого им пришлось бы пожелать себя самих иными, а на это они безусловно неспособны. В греческой жизни огромную роль играли различные методы гаданий и предсказаний С, существенную связь которых с античным мировоззрением подметил Гегель (см. Соч., т. 3, М., 1956, с. 68-69). Характерно, что С. может улавливаться лишь в бессознательном состоянии; по словам Платона (Tim. 74 Е), «божество сделало мантику достоянием именно неразумной части человеческой природы». С. выражает себя для грека в природных событиях (гром и молния, полет птиц, шелест священного дуба); чтобы голос С. мог подслушать человек, необходимо, чтобы он на время перестал быть личностью. В этом отношении поучительно сопоставить дельфийскую Пифию, говорившую от имени С, с ветхозаветными пророками, говорившими от имени Провидения. Если для «предстояния» библейскому Богу нужны твердость и ответственность мужчины, то для пассивного медиумического вещания С. пригодна только женщина (срв. в Библии одиозный образ Аэндорской волшебницы). Если пророки остаются в народной памяти со своим личным именем, то жрицы-пифии принципиально анонимны. Наконец, если библейские пророчества всегда явно или неявно имеют в виду мировую перспективу, конечные цели бытия человечества, то речения оракулов исчерпываются прагматической ситуацией, по поводу которой они были запрошены. Идея С. исключает смысл и цель. «Почему в бесконечной игре падений и восхождений небесного огня – сущность космоса? Ответа нет, и вопрошаемая бездна молчит» (Лосев А. Ф., Античный космос и современная наука, 1927, с. 231). И все же концепция С. как «мойры» не чужда этического смысла: С. есть все же справедливость, – хотя и слепая, темная, безличная справедливость: она не заинтересована ни в каком частном бытии и спешит снова растворить его во всеобщем, осуществляя некое «возмездие». По словам Анаксимандра, «из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются, согласно необходимости; ибо они за свое нечестие несут кару и получают возмездие друг от друга в установленное время» (frg. 9, Diels). Складывается устрашающий, но не лишенный интимности образ: всеобщая Матерь – Адрастея, слишком обремененная детьми, чтобы возиться с каждым в отдельности, тяжелой рукой водворяющая порядок, а под конец всех одинаково убаюкивающая на своих коленях. Беспощадна античная С. даже к богам, что, в конце концов, утешительно, ибо подданные Зевса знают, что и для его произвола есть предел (срв. трагедию Эсхила «Прометей Прикованный»).
С кризисом полисного уклада идея С. претерпевает существенную метаморфозу. Вместо «Мойры» на первый план выходит «Тюхе» (букв, «попадание»), С. как удача, случайность. Человек эллинизма ожидает получить уже не то, что ему «причитается» по законам традиционного уклада, но то, что ему «выпадает» по законам азартной игры: обстоятельства делают солдат царями, ставят жизнь народов в зависимость от пустяковых придворных событий, переворачивают общественные отношения. Государство отчуждается от микросоциума полисной общины, власть уходит в руки чиновников, в мировые столицы; соответственно и «Тюхе» отчуждена от человека, не связана с его формой существования, не органична для него. Однако заманчивым утешением оказывается подвижность такой С, неисчерпаемость и незамкнутость содержащихся в ней возможностей. Поэтому Тюхе (у римлян – Фортуна) все же осмысляется как «Добрая Удача», как богиня, которую пытаются расположить в свою пользу – усерднее, чем старых полисных богов. Конец эллинизму кладет Римская империя. С торжеством ее и подчинением всего одному принципу С. осмысливается как всеохватывающая и неотменяемая детерминация, отчужденная от конкретного бытия индивида, но, в отличие от Тюхе, обретающая в самой себе последовательность и необходимость – «фатум». От «фатума» так же невозможно уйти, как от администрации мировой державы, и так же мало, как власть цезарей, он считается с внутренней формой существования человека или народа. Индивид оказывается расщепленным на то, что он есть внутри себя, и то, чем он принужден быть по воле С. Эта ситуация служит темой «Энеиды» Вергилия: Эней постоянно делает обратное тому, что для него естественно делать (герой, он покидает гибнущую родину; влюбленный, он бросает любящую и любимую женщину; миролюбец, он ведет нескончаемые войны), ибо он – исполнитель исторической миссии. По афоризму Сенеки, С. ведет послушного и силой влечет непокорного. Идея С. со времен Посидония приобретает космологические измерения и все чаще окрашивается в тона астрологии: человеческая несвобода доходит уже не до рубежей империи, но до звездных сфер. В то же время унифицированность и неотступная последовательность фатума придают ему черты как бы Провидения, ибо трудно представить себе, что столь логичное движение бессмысленно (здесь играла роль и официозная идеология цезарей, желавших представить весь мировой процесс как дорогу, ведущую к ним). Так в поздне-античную эпоху идея С. была доведена до предела и одновременно начала выявлять противоположные своей сути возможности.
Вызов культу С. был брошен иудейско-христианским теизмом. Библия представляет мировой процесс как открытый диалог Творца и творения, в котором нет места С. Талмуд многократно осуждает веру в С. (Т. J. Sab. VI, § 8, 1.8 15); по иудаистской легенде, гороскоп праотца иудеев Авраама гласил, что у него не будет детей, так что само рождение Исаака и происхождение «избранного народа» уже было прорывом роковой детерминации (Sab. 156a fin,). В этом же смысле ранние христиане верили, что вода крещения смывает полученную при рождении печать созвездий и освобождает из-под власти С. Там, где торжествовал теизм, С. должна была уйти из сферы мифа и философских умозрений в мир житейских понятий и народных суеверий. Христианская совесть противостоит языческой С. Все существенное в жизни человека христианской культуры происходит по ту сторону С, как это можно проиллюстрировать на примере гётевской Гретхен: безвольная вовлеченность в ряд преступлений есть С, но по-настоящему решающий момент в тюрьме, когда Гретхен отказывается бежать и выбирает казнь, уже не имеет никакого отношения к С.
Однако поскольку иррациональность человеческих отношений и магия власти, осужденные христианством, сохраняли реальную силу, идея С. не умирает. Несмотря на все нападки теологов, в течение средневековья держится авторитет астрологии: эта форма веры в С. оставляла больше всего места личностному элементу, предполагая взгляд на всю жизнь человека как на единое целое. Ренессанс со своим тяготением к натуралистическому магизму оживил астрологические интересы. В Новое время развитие естественнонаучного мировоззрения, ищущего каузальную детерминацию, оттесняет идею С. в сферу обывательских представлений; когда же получила распространение идея общественного прогресса и надежда на сознательное устроение социальной реальности, С. оказалась потревоженной в главной сфере своей власти. Эту веру новоевропейского человека в преодоление С. рисует Р. Вагнер, заставляющий мироустрояющего Вотана обращаться к С. (Эрде): «Мудрость праматерей / Идет к концу: / Твое знание исчезает / Перед моей волей /... Кань же, Эрда! / Страх праматерей! / Празабо-та! / Отойди к вечному сну!» (Wagner R., Gesammelte Schriften imd Dichtungen, Bd 4, Lpz., [s.a.], S. 202, 203, 204). Однако реальность буржуазного общества активизировала идею С, переместив ее до конца в сферу социального (срв. слова Наполеона «политика – это судьба»). Ранг серьезного философского понятия С. дало позднеромантическое неоязычество, развившееся преимущественно на немецкой почве и потребовавшее не закрывать иррациональности бытия ни религиозными, ни рационалистическими иллюзиями (Ницше, философия жизни). Соединительное звено между астрологической традицией Ренессанса и XVII в., с одной стороны, и посленицшевским умонастроением, – с другой, образует Гёте, говоривший о «...таинственной загадочной силе, которую все ощущают, которой не в состоянии объяснить ни один философ и от которой религиозный человек старается отделаться несколькими утешительными словами» (Эккерман И. П., Разговоры с Гёте, М.-Л., 1934, с. 564). Через посредство символов астрологии Гёте стремится вернуться к исконно греческому физиогномическому пониманию С. как имманентной всему живому алогической витальной задаиности (см. «Орфические нервоглаголы», в кн.: Избранная лирика, М.-Л., 1933, с. 255). Для Ницше «старый Бог умер», а закономерность природы разоблачает себя как иллюзия; предоставленность человека самому себе и есть его С. Особое значение идея С. имеет для Шпенглера, перенявшего у Гёте виталистскую идею первофеномена, но распространившего принудительность жизненного цикла на бытие культур. С. в системе Шпенглера – эквивалент таких понятий, как «жизнь», «становление», «время». «В идее судьбы раскрывается устремление души к миру, присущее ей желание света, подъема, завершения и реализации своего предназначения... Причинность есть – если позволительно так выразиться – ставшая, умершая, застывшая в формах рассудка судьба» (Spengler О., Der Untergang des Abendlandes, Bd 1, Munch., 1924, S. 153, 154). В отличие от Гёте, Шпенглер придает идее С. характер агрессивного отрицания индивидуальной совести и доброй воли; в отличие от Ницше, он глумится не только над христианской или гуманистической этикой, но и над всякой верой в свободное человеческое делание. Как и у мыслителей эпохи Римской империи, у Шпенглера культ С. совпадает с абсолютизацией государства. Слово «С.» становится паролем для беспочвенного, не укорененного ни в религии, ни в рациональном знании императива активности (т. н. героический пессимизм): все бессмысленно, и все же ты обязан действовать. Это умонастроение претерпело свою предельную вульгаризацию в идеологии нацизма, низведшего понятие С. до инструмента официозной пропаганды.
СХОЛАСТИКАСХОЛАСТИКА (лат. scholastica от греч. – школьный), тип религиозной философии, характеризующийся принципиальным, подчинением примату теологического вероучения, соединением догматических предпосылок с рационалистической методикой и особым интересом к логической проблематике; получил наиболее полное развитие в Западной Европе в эпоху зрелого и позднего Средневековья.
Генезис С. и периодизация ее развития. Истоки С. восходят к позднеантичной философии, прежде всего к неоплатонику V в. Проклу (установка на вычитывание ответов на все вопросы из авторитетных текстов, каковыми были для Прокла сочинения Платона, а также сакральные тексты античного язычества; энциклопедическое суммирование разнообразнейшей проблематики; соединение данностей мистически истолкованного мифа с их рассудочной разработкой). Христианская патристика подходит к С. по мере завершения работы над догматическими основами церковной доктрины (Леонтий Византийский ок. 475-543, Иоанн Дамаскин ок. 675-749). Особое значение имела работа Боэция (ок. 475-525) по перенесению греческой культуры логической рефлексии в латиноязычную традицию; его замечание, сделанное по ходу комментирования одного логического труда (In Porph. Isagog., Migne PL 64, col. 82-86) и отмечающее как открытый вопрос о том, являются ли общие понятия (универсалии) только внутриязыковой реальностью, или же они имеют онтологический статус, породило длившуюся веками и конститутивную для С. дискуссию по этому вопросу. Те, кто видел в универсалиях реальности (realia), именовались реалистами; те, кто усматривал в них простое обозначение (nomen, букв, «имя») для абстракции, творимой человеческим сознанием, назывались номиналистами. Между чистым реализмом и чистым номинализмом как двумя полярными возможностями оставалось мыслительное пространство для умеренных или осложненных вариантов.
Ранняя С. (IX—XII вв.) имеет своей социокультурной почвой монастыри и монастырские школы. Она рождается в драматичных спорах о месте т.н. диалектики (т.е. методического рассуждения) при поисках духовной истины. Крайние позиции рационализма (Беренгар Турский, ок. 1010-88) и фидеизма (Петр Дамиани, 1007-72) не могли быть конструктивными для С; средний путь был предложен восходящей к Августину формулой Ансельма Кентерберийского (1033-09) «credo, ut intelligam» («верую, чтобы понимать» – имеется в виду, что вера первична как источник отправных пунктов, подлежащих затем умственной разработке). Мыслительные инициативы дерзкого новатора Абеляра (1079-1142) и других теологов XII в. (Шартрская школа, Сен-Викторская школа) способствовали развитию схоластического метода и подготовили переход к следующей эпохе.
Высокая С. (XIII – нач. XIV вв.) развивается в контексте системы основываемых по всей Европе университетов; фоном служит активное участие в умственной жизни т.н. нищенствующих орденов – соперничающих между собой доминиканцев и францисканцев. Важнейшим интеллектуальным стимулом оказывается распространяющееся знакомство с текстами Аристотеля, а также его арабских и еврейских комментаторов. Однако попытка ввести в оборот школ те аристотелевские и аверроистские тезисы, которые были несовместимы с основами христианской веры, подвергается осуждению (случай Сигера Брабантского, ок. 1240 – ок. 84). Господствующее направление, выразившееся прежде всего в творчестве Фомы Аквинского (ок. 1225-74), стремится к непротиворечивому синтезу веры и знания, к системе иерархических уровней, в рамках которой вероучительные догматы и религиозно-философские умозрения оказались бы дополнены ориентирующейся на Аристотеля социально-теоретической и естественнонаучной рефлексией; оно находит себе почву в рамках доминиканского ордена, в первый момент встречает протест со стороны консерваторов (осуждение ряда тезисов епископом Парижским в 1277 г., за которым последовали аналогичные акты в Оксфорде), но затем все чаще, и уже на столетия, воспринимается как нормативный вариант С. Однако авторитарный плюрализм, заданный параллельным сосуществованием в католицизме зрелого Средневековья различных орденов, создает возможность для разработки прежде всего внутри францисканского ордена альтернативного типа С, представленного ориентированной на августиновский платонизм мистической метафизикой Бонавентуры (ок. 1217-74), перенесением акцентировки с интеллекта на волю и с абстрактного на единичное (haecceitas, «вот-этовость» у Иоанна Дунса Скота, ок. 1265-1308) и т. п.
Поздняя С. (XIV-XV вв.) – обильная кризисными явлениями, но отнюдь не бесплодная эпоха. С одной стороны, доминиканцы и францисканцы перерабатывают творческие почины соответственно Фомы Аквинского и Дунса Скотта в поддающиеся консервации системы томизма и скотизма; с другой стороны, раздаются голоса, призывающие перейти от метафизического умозрения к эмпирическому изучению природы, а от попыток гармонизации веры и разума – к сознательно резкому разведению задач того и другого. Особую роль играют британские мыслители, оппозиционные к спекулятивному системотворчеству континентальной высокой С: Роджер Бэкон (ок. 1214-ок. 1292) призывает к развитию конкретных знаний, Вильям Оккам (ок. 1285-1347) предлагает чрезвычайно радикальное развитие скотистских тенденций в сторону крайнего номинализма и теоретически обосновывает притязания империи против папства. Стоит отметить протокапиталистич. ревизию схоластич. понятия «справедливой цены» у нем. оккамиста Габриэля Биля (ок. 1420-1495). Определенные аспекты мыслительного наследия этого периода пересмотра и критики прежних оснований С. были впоследствии усвоены Реформацией.
Схоластический метод. Подчинение мысли авторитету догмата – по известной формуле, восходящей к Петру Дамиани (De divina omnipotentia, 5,621, Migne PL 145, col. 603), philosophia ancilla theologiae, «философия служанка богословия», – присуще ортодоксальной С. наряду со всеми другими типами правоверно-церковной религиозной мысли; специфично для С. то, что сам характер отношения между догматом и рассудком мыслился при несомненной авторитарности необычно рассудочным и ориентированным на императив внутренней и внешней системности. Как Священное Писание и Священное Предание, так и наследие античной философии, активно перерабатывавшейся С, выступали в ней на правах грандиозного нормативного сверхтекста. Предполагалось, что всякое знание имеет два уровня – сверхъестественное знание, даваемое в Божьем Откровении, и естественное знание, отыскиваемое человеческим разумом; норму первого содержат тексты Библии, сопровождаемые авторитетными комментариями Отцов Церкви, норму второго – тексты Платона и особенно Аристотеля, окруженные авторитетными комментариями позднеантичных и арабских философов (характерно распространенное в зрелой С. обозначение Аристотеля как praecursor Christi in naturalibus, т. е. «предтечи Христова во всем, что касается вещей естественных»). Потенциально в тех и других текстах уже дана полнота истины; чтобы актуализировать ее, надо истолковать самый текст (исходный для схоластического дискурса жанр lectio, букв, «чтение», имеется в виду толкование выбранного места из Библии или, реже, какого-нибудь авторитета, например, Аристотеля), затем развить и вывести из текстов всю систему их логических следствий при помощи непрерывной цепи правильно построенных умозаключений (ср. характерный для С. жанр суммы – итогового энциклопедического сочинения, предпосылку для которого дает жанр сентенций»). Мышление С. остается верно гносеологии античного идеализма, для которого настоящий предмет познания есть общее (ср. платоновскую теорию идей и тезис Аристотеля: «всякое определение и всякая наука имеют дело с общим», Metaph. XI, с. 1, р. 1059В, пер. А.В. Кубицкого); оно постоянно идет путем дедукции и почти не знает индукции, его основные формы – дефиниция, логическое расчленение и, наконец, силлогизм, выводящий частное из общего. В известном смысле вся С. есть философствование в формах интерпретации текста. В этом она представляет контраст как новоевропейской науке с ее стремлением открыть доселе неизвестную истину через анализ опыта, так и мистике с ее стремлением узреть истину в экстатическом созерцании.
Парадоксальным, но логичным дополнением ориентации С. на авторитетный текст был неожиданно свободный от конфессионально-религиозной мотивации подбор авторитетов «естественного» знания; наряду с античными язычниками, как Платон, Аристотель или астроном Птолемей, и мыслителями исламской культуры, как «Аверроэс» (ибн-Рушд, 1126[?8]) в канон зрелой С. входил, например, испанский еврей ибн-Гебироль (ок. 1020 – ок. 1070), известный как «Авицебронн» (причем цитировавшие его христианские схоласты помнили, что он не является христианином, но забыли за ненадобностью сведения о его национальной и религиозной принадлежности, выясненной лишь исследователями XIX века). В этой связи заметим, что т.н. теория двойственной истины (один и тот же тезис может быть истинным для философии и ложным для веры), решительно отвергаемая томизмом, но приписываемая, например, Сигеру Брабантскому и являющаяся логическим пределом многих тенденций поздней С, является в определенной мере следствием схоластического авторитаризма: Библия и Отцы Церкви – авторитеты, но разноречащие с ними Аристотель и Аверроэс также были восприняты именно как авторитеты. Далее, С. не была бы творческим периодом в истории мысли, если бы она находила в данностях авторитетных текстов готовые ответы, а не вопросы, не интеллектуальные трудности, провоцирующие новую работу ума; именно невозможность решить вопросы при помощи одной только ссылки на авторитет, обосновывающая самое возможность С, многократно становилась предметом тематизации. «Auctoritas cereum habet nasum, id est in diversum potest flecti sensum» («У авторитета нос восковой, т.е. его возможно повернуть и туда, и сюда»), отмечал еще поэт и схоласт Алан Лилльский, ум. 1202 (Alanus de Insulis, De Fide Cath. I, 30, Migne PL 210, 333 А). Фома Аквинский специально возражает против установки ума на пассивно-доксографическое отношение к авторитетам: «Философия занимается не тем, чтобы собирать мнения различных людей, но тем, как обстоят вещи на самом деле» (In librum de caelo I, 22). Мыслителей С. привлекало рассмотрение особенно сложных герменевтических проблем; особым случаем было вербальное противоречие между авторитетными текстами, недаром акцентированное еще в заглавии труда Абеляра «Да и нет» («Sic et non»). Схоласт должен был уметь разобраться в подобных казусах, оперируя категориями семантики (многозначность слова), семиотики (символические и ситуативно-контекстуальные значения, приспособление формы теологического дискурса к языковым привычкам слушателя или читателя и т.п.); теоретически формулируется даже вопрос аутентичности сочинения и критики текста, хотя подобная филологическая проблематика на службе у богословия в целом остается нетипичной для Средневековья и составляет характерное завоевание новоевропейской культуры.
Влияние С. на современную ей культуру было всеобъемлющим. Мы встречаем схоластическую технику расчленения понятий в проповедях и житиях (очень ярко – в «Золотой легенде» Иакова Ворагинского), схоластические приемы работы со словом – в латиноязычной поэзии от гимнографии до песен вагантов и других сугубо мирских жанров (а через посредство латииоязычной литературы – также и в словесности на народных языках); схоластическая аллегореза живо ощущается в практике изобразительных искусств.
Ориентация на жестко фиксированные правила мышления, строгая формализация античного наследия помогла С. осуществить свою «школьную» задачу – пронести сквозь этнические, религиозные и цивилизационные перемены средневековья преемственность завещанных античностью интеллектуальных навыков, необходимый понятийно-терминологический аппарат. Без участия С. все дальнейшее развитие европейской философии и логики было бы невозможно; даже резко нападавшие на С. мыслители раннего Нового времени вплоть до эпох Просвещения и немецкого классического идеализма включительно никак не могли обойтись без широкого пользования схоластической лексикой (до сих пор весьма заметной в интеллектуальном языковом обиходе западных стран), и этот факт – важное свидетельство в пользу С. Утверждая мышление в общих понятиях, С. в целом– несмотря на ряд важных исключений – сравнительно мало способствовала вкусу к конкретному опыту, важному для естественных наук, зато ее структура оказалась исключительно благоприятной для развития логической рефлексии; достижения схоластов в этой области предвосхищают современную постановку многих вопросов, в частности, проблем математической логики.
Гуманисты Возрождения, теологи Реформации и особенно философы Просвещения в своей исторически обусловленной борьбе против цивилизационных парадигм Средневековья потрудились, чтобы превратить само слово «С.» в бранную кличку, синоним пустой умственной игры. Однако развитие историко-культурной рефлексии не замедлило установить огромную зависимость всей философии раннего Нового времени от схоластического наследия, преемственную связь контрастирующих эпох. Достаточно вспомнить, что выдвинутый Руссо и сыгравший столь очевидную революционизирующую роль концепт «общественного договора» восходит к понятийному аппарату С. Парадоксальным образом романтически-реставраторский культ Средневековья, оспоривший негативную оценку С, во многих вопросах стоял дальше от духа С, чем критики С. в эпоху Просвещения (например, Ж. де Местр, 1753-1821, ярый апологет монархии и католицизма, иронизировал по поводу присущей просвещенческому гуманизму абстракции «человека вообще», вне наций и рас, одним этим движением опрокидывая заодно с идеологией Французской революции также и все здание традиционно-католической антропологии, и впадая в недопустимый «номинализм»).
В замкнутом мире католических учебных заведений С. в течение ряда веков сохраняла периферийное, но не всегда непродуктивное существование. Среди проявлений запоздалой С. раннего Нового времени необходимо отметить творчество испанского иезуита Франсиско Суареса (1548-1617), а также – ввиду цивилизационного значения для восточно-славянского ареала – православный вариант С, насаждавшийся в Киеве митрополитом Петром Могилой (1597-1647) и оттуда распространявший свое влияние на Москву.
Интерес католических ученых к С. стимулировал после разрыва традиции в пору Просвещения, в контексте романтического и постромантического историзма XIX в., историко-философские штудии, публикации текстов и т.п.; проект модернизирующей реставрации С. в виде «нео-С», которая давала бы ответы на современные вопросы, при этом предполагался, а в 1879 г. был поддержан папским авторитетом (энциклика Льва XIII «Aeterni Patris», ориентирующая католическую мысль на наследие Фомы Аквинского). Сильным стимулом для этого проекта оказалась в XX в. ситуация противостояния тоталитаристским идеологиям – национал-социализму и коммунизму; такое противостояние создавало потребность в апелляции к идеалу «вечной философии» (philosophia pereimis), а также в синтезе между принципом авторитета, способным состязаться с авторитарностью тоталитаризма, и противопоставляемым тоталитаризму принципом личности, в примирении христианских и гуманистических нравственных принципов. Именно 1-я пол. и сер. XX в. – время, когда наследие С. могло казаться для авторитетных мыслителей (Ж. Марешаль, 1878-1944; Ж. Маритен, 1882-1973; Э. Жильсон, 1884-1978, и др.) сокровищницей методов для преодоления сугубо современных проблем (ср., например,/. Maritain, Scholasticism and Politics, L, 1940, 2nd ed. 1945). В «послесоборном» католицизме (после II Ватиканского собора 1962-1965) нео-С. не исчезает как возможность, но границы ее идентичности, как и признаки ее присутствия в современной культуре, все очевиднее перестают быть осязаемыми.








