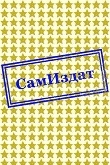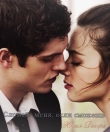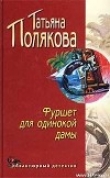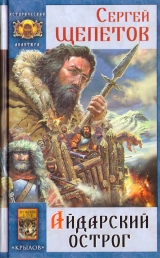
Текст книги "Айдарский острог"
Автор книги: Сергей Щепетов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
– Ничего святого, – констатировал Кирилл, перебрасывая крест обратно владельцу. – Зовут-то как?
– Морозкой, знамо дело! – усмехнулся служилый и помахал пятерней с отмороженными пальцами. – Али запамятовал?
– Вот теперь, Палёный, я тебя вспомнил!
Да, Кирилл действительно вспомнил тот давнишний эпизод из своей острожной писарской практики. Как-то раз по окончании рабочего дня он, по своему обыкновению, лежал на тюках с казённым добром и размышлял о возвышенном – принесёт сегодня Настасья пожрать или нет. За щелястой стеной, где помещалась охрана, послышался шум и гомон. Кирилл без труда уяснил, что пришли какие-то мужики и просят охранников допустить их к писарю. Просьба, вероятно, была подкреплена кое-чем материальным – на дворе стояла поздняя осень, и запасы ягод на бражку у служилых ещё не иссякли.
Разговор постепенно сделался более оживлённым и дружеским, а потом посетители были запущены во внутреннее помещение. Кирилл, «держа марку», сначала послал их куда подальше, но, получив в виде аванса полуведёрный жбан вонючей жидкости, согласился-таки «справить дело».
Дело же это было следующим. С командой капитана Петруцкого в Коймский острог прибыл «неволей взятый» (то есть приказом назначенный) обольский казак Семён Морозко. Сюда же по осени пришли годовальщики – положенный год (а на самом деле 3-4) отслужившие казаки из Айдарского острога. Им предстоял путь в «родные» селенья – как бы на отдых, как бы к хозяйству и семьям. Один из этих годовальщиков – Лука Палёный – за определённую мзду (две лисы сиводушчатых, пять рыжих да два соболя) согласился «поменяться службой» с Морозко. Данная сделка – вполне легальная – должна быть закреплена на бумаге. Более того, поскольку происходит передача матценностей из одних рук в другие – по сути свершается акт купли-продажи, – должен быть уплачен соответствующий налог в государеву казну.
Что в таких случаях полагается писать, Кирилл, конечно, не знал, но Морозко, видать, не первый раз откупался от немилых сердцу назначений и смог продиктовать положенный текст. Потом служилые заспорили, кто из них должен платить «десятину» и какой ей быть – лисицей рыжей или неполной шкуркой соболя. Дело происходило при свете жировой плошки, поскольку дефицитные свечи писарю выдавались лишь для «дел государевых». Кирилл и буквы-то на бумаге различал с трудом, не то что лица посетителей – только голоса и слышал. После их убытия он обнаружил, что принесённую бурду пить не может – ягодную бражку чёрт знает чем «крепили», да и уксуса в ней оказалось больше, чем спирта. В общем, свой гонорар он сменял у охраны на две копчёные гусиные ноги и очень жалел потом, что продешевил.
– А хоть и Палёный, – усмехнулся казак. – Всё нутро уж промёрзло!
– Ладно, одевайся!
– Угу... Дык эта... Авуспр юмо нивер! Не с киру емн зеб оп лезем итьхо...
– Что?! – вскинул голову Кирилл.
Далее последовала короткая немая сцена: сидя на корточках, учёный пытался понять смысл этих звуков, а голый казак стоял напротив и как бы целился ему в лицо «вилкой» – растопыренными средним и указательным пальцами левой руки. «Данный жест не опасен, – сообразил Кирилл, – поскольку для тычка в глаза слишком далеко. Между пальцами что-то темнеет – татуировка, наверное. Скорее всего, именно её служилый мне и демонстрирует». На этом сцена кончилась.
– Да ни чо... – с некоторым разочарованием произнёс пленный. – Справу мою верни! Не с руки мне без неё по земле-то ходить...
– Обойдёшься пока, – усмехнулся Кирилл. – Что же ты в Икутск-то не пошёл, а? Ждут тебя там, наверное? Ой, ждут не дождутся, да?
– Знамо дело, ждут, – кивнул служилый и добавил тоном, даже не претендующим на искренность: – Жена, детишки, хозяйство опять же – всё догляду требует. Да, вишь, дело-то какое: весточку я получил, будто целовальник должок требует, а я без прибытку. Ить заберёт нехристь коровёнку, а то и избу в казну отпишет – как жить-то? Вот и удумал я послужить ещё малость – авось поправлюсь!
– Детей-то у тебя пять или десять? – в тон ему поинтересовался Кирилл. – Одевайся, поехали!
Он надеялся, что правильно разгадал не меньше половины увиденного и услышанного. В частности, понял смысл шрама на лбу у казака. «Как хотите, господа судьи, но на пожаре такую травму получить невозможно, даже если на голову упадёт горящая балка с крыши. Это похоже на действие сильной кислоты или расплавленного металла – свинца либо олова. Зачем и почему? А потому... Скорее всего, таким варварским способом уничтожено клеймо – буквы, татуированные глубоко в кожу. Штуки, которыми клеймили преступников, я видел в музее и, пожалуй, знаю, что это были за буквы. Их всего три: ВОР».
* * *
Дорога в дефиле – труднопроходимой узости – заняла ещё часа полтора. Можно было пройти и гораздо быстрее, но Палёный сказал, что с упряжными оленями обращаться умеет, и Кирилл передал ему «бразды правления». Получалось у служилого довольно плохо, но учёный терпел – уж очень ему не хотелось поворачиваться спиной к новому знакомому. Наконец, ущелье кончилось, и первое, что Кирилл увидел на заснеженном просторе, – маленький табор из грузовых и беговых нарт. Олени были распряжены и копытили снег – все, за исключением того, который был забит и освежёван. Как вскоре выяснилось, таучины решили организовать ритуальную трапезу – этакую тризну по погибшим соратникам.
– Это чтобы мне, значит, в «верхней» тундре хорошо пилось и елось, да? – догадался Кирилл.
– Конечно! – подтвердил Чаяк. – Чтобы тебе и Ымгычу было на ком ездить и во что одеваться. Но ты решил остаться с нами, и это – хорошо!
– Да, наверное, неплохо, – согласился Кирилл. – А что случилось с Ымгычем? И где остальные нарты?
– Дух моря забрал их к себе... Взял половину нашей добычи.
– Так это, значит, он провалился? Я видел след...
Сразу выспрашивать подробности подобных происшествий у таучинов не принято – должно пройти некоторое время. Впрочем, представить всё было нетрудно – тяжело груженная нарта ушла в воду и утянула за собой переднюю, к которой был привязан олень. Парень-таучин в зимней одежде и кожаных доспехах вряд ли смог бы выплыть, даже если б захотел.
– Где мы будем делать тхуту-кай этого менгита? – сменил тему Чаяк. – Он должен стать хорошей жертвой!
Кирилл покосился на пленного – кажется, лицо казака при этих словах... Ну, не побледнело, конечно – чему там бледнеть под бородой, усами и загаром? – а как бы напряглось, одеревенело. «Он что, по-нашему понимает?! – удивился учёный. – Вряд ли, скорее просто знает обозначение таучинского ритуала пыточной казни. Ну-ну...»
– Оставим его до возвращения домой, Чаяк, – плотоядно улыбнулся Кирилл. – Он может пригодиться нам здесь. Только помни сам и предупреди людей – этот менгит очень опасен. Мне кажется, он не соблюдает никаких правил чести – даже своих, менгитских. Нельзя допустить, чтобы он видел нас всех спящими одновременно.
– Может, подрезать ему жилы?
– Наверное, так и придётся сделать, – кивнул Кирилл, – но не сейчас. Пока просто присматривайте, а я попробую узнать у него что-нибудь важное.
После обильной трапезы (пленный рубал сырую оленину за милую душу) сам собой организовался военный совет с очень простой повесткой дня: как действовать дальше? Очень быстро выяснилось, что решить ничего нельзя, пока не будет известно, что собираются делать русские. В частности, попытаются они отбить назад свой боезапас или нет. Посему старшие решили отправить молодёжь обратно к морю – посмотреть, что там и как. Самим же оставаться пока на месте, так как двигаться куда-то с грузом нет смысла: в открытой тундре мавчувены легко догонят караван на своих беговых нартах. Здесь же для нападения им придётся сначала протиснуться сквозь каньон, в котором ничего не стоит их задержать даже такими малыми силами.
Парни поставили походный полог для своих предводителей и уехали на двух упряжках, отпустив пастись остальных оленей – корма им здесь, кажется, хватало. Кирилл поспал часа полтора, после чего занялся расспросами пленного. В первую очередь его, конечно, интересовали возможные планы Петруцкого. К сожалению, ничего утешительного не выяснилось.
Как оказалось, российский воинский контингент изначально был направлен из Обольска не в Коймский острог, а в Айдарский. Маршрут между этими пунктами хорошо освоен: двигаться надо сначала вверх по Койме, а потом на восток – водой или сушей. На пути этом живут в основном ясачные мавчувены, у которых всегда можно «подхарчиться» и «взять подводы». То и другое иноверцев, конечно, не радует, но бунтовать они давно уже не решаются, так что дорога почти безопасна. Когда выяснилось, что Петруцкий ведёт войско в другую, считай, сторону – на север и северо-восток, – народ чуть не возроптал, но убоялся, поскольку капитан – человек армейский – казачьи вольности на дух не переносит и чуть что «берёт в батоги», а то и штрафует в счёт будущих «премиальных».
– В общем, «...куда идёт король – большой секрет, а мы всегда идём ему вослед...» – подвёл итог Кирилл.
Ближе к ночи вернулись дозорные, которые рассказали, что враги всё ещё занимаются сбором разбежавшегося обоза и «кормового» стада. При этом два десятка лёгких упряжек было отправлено вдогонку за диверсантами-грабителями. Преследователи бодро доехали до «плохого» льда, где как бы потеряли след. Они долго его искали, причём некоторые ездили возле самого берега, но почему-то подниматься по ручью не захотели.
– Неужели съезда не заметили?! – удивился Кирилл. – Слепые, что ли?
– Мавчувены, в отличие от русских, хоть и плохие, но всё-таки люди, – поучительным тоном сказал Чаяк. – Они хоть и глупые, но хитрые. Конечно же, они не увидели наших следов – не захотели увидеть. Зачем?
– Наверное, ты прав, – признал Кирилл. – Но мне очень не хватает информации.
– Чего тебе не хватает?!
– Знаний, сведений об этих менгитах. Чего хочет их главный начальник, куда пойдёт?
– Может быть, оставшись без «огненного грома», он вернётся обратно в деревянное стойбище?
– Не исключено, – признал учёный, – хотя, по-моему, это маловероятно. В общем, не знаю!
Кирилл говорил правду: он не знал, хотя и владел информацией о прошлом этого региона в собственном мире. Маршрут первого большого похода русских против таучинов так и остался неясным – участники оказались не в состоянии дать географические привязки событий, поскольку шли по «земле незнаемой». Более того, большинство исследователей склонялись к мысли, что и сам поход в значительной мере был организован по инициативе командира, а не по прямому приказу «сверху».
* * *
Ночью Кирилл спал отвратительно – решение всё никак не принималось. К тому же за меховыми стенками полога начала портиться погода – похолодало, поднялся ветер, правда несильный. Утром учёный испытал изрядное облегчение, услышав, что его «друг» Чаяк совершенно точно знает, что делать дальше: нужно отправиться на место вчерашней битвы. Аргументы Чаяка были просты.
Менгиты напали на таучинов, а те их побили – во всяком случае, заставили отступить. Это – победа, это – праздник. А какой же таучин не любит праздников?! Кроме того, к победе этой мы неслабо руку приложили – за то нам полагается немалая толика почестей, и надо их принять. Да и добычей похвастаться не помешает – богатство для того и нужно, чтоб им хвалиться! Тем более что там, на берегу, собрались люди из многих посёлков и стойбищ, так что каждое слово, сказанное им, вскоре будет известно всей тундре.
Пока молодёжь сворачивала лагерь, Чаяк развлекал Кирилла рассуждениями о том, как лучше им ехать. Возвращаться по ущелью обратно на морской лёд довольно хлопотно – спуск с грузом и по ровному-то месту обычно труднее подъёма. Кроме того, там можно нарваться на менгитов или их прихлебателей-мавчувенов. Лучше двигаться вверх по долине вглубь берега – может быть, там удастся перебраться через речку, перевалить через горный хребет, совершить ещё кое-какие мелкие подвиги и в итоге подъехать к стойбищу с юга. Это совсем недалеко – при благоприятном раскладе завтра к вечеру будем на месте.
Кирилл согласно кивал и мысленно усмехался: «Мели Емеля – твоя неделя! Отсюда до цели по прямой и двадцати километров не наберётся, а он задумал объезд в добрую сотню километров. Спрашивается зачем? А всё за тем же – богатые становятся трусливыми, поскольку им есть что терять. Случись боестолкновение с кем-нибудь, нам придётся расстаться с добычей, а этого ой как не хочется! По-хорошему надо бы посмотреть, что там делается на море... А, ладно – никто никуда не денется, только время зря потеряем!»
Места эти Чаяку были известны – в том смысле, что данным маршрутом он раньше хоть и не ходил, но в окрестностях бывал, рассказы людей слышал и, соответственно, как и куда надо двигаться, представлял чётко. Кирилл этому уже не удивлялся – таучины, как и большинство кочевников, в пространстве ориентируются прекрасно. Другое дело, что угадать, какая по пути будет снеговая обстановка, в точности не может никто – слишком много факторов на это влияет. В общем, для Кирилла большая часть пути выглядела бесконечным и как бы беспорядочным блужданием по лабиринтам скал и снежных наносов – солнце скрылось за тучами, так что составить представление о времени и общем направлении движения было невозможно. В конце концов, они куда-то выбрались – на открытое и довольно ровное пространство. Усталый, но довольный, Чаяк сказал, что стойбище находится вон там – от силы полдня пути. Многочисленные следы на снегу это подтверждали – в том направлении недавно прошло много людей и оленей.
Путники расположились на ночлег, и Кирилл вновь обнаружил, что не может уснуть – как-то уж очень тревожно завывает ветер, слишком громко всхрапывает Чаяк, подозрительно ворочается на своём месте Палёный, не слышно шагов Тгаяка, которому выпало дежурить первому... В общем, всё как-то не так. Учёный долго размышлял над этим «всё» и пришёл к выводу, что дело в нём самом – что-то он сделал неправильно, какую-то допустил ошибку. Или, может быть, только собирается допустить?
Утром Кирилла разбудили тревожные голоса. Он торопливо оделся и выбрался из полога – к их стоянке приближалась толпа...
По широкой долине, по истоптанному снегу брели люди – группами или в одиночку, с грузом на плечах или налегке. Кто-то тянул за собой нагруженные нарты, кто-то понукал запряжённого оленя. Холодный, пронизывающий до костей ветер дул им в спины, прямо над головами гнал низкие тяжёлые клочья не то облаков, не то тумана. «Господи помилуй: женщины, дети, подростки... Мужчин нет... Что? Что случилось?! Спокойно, Кирюха, спокойно – ты ведь уже догадался, правда?»
Они приближались, но ни радостных криков, ни просто приветствий – как слепые или уже мёртвые. Кирилл накинул капюшон, затянул ремешки ворота и стоял лицом к ветру и этим людям. Стоял до тех пор, пока один из них не подошёл совсем близко и, покачнувшись, не сел на снег. Учёный шагнул навстречу, опустился на колено и стал всматриваться в бурое морщинистое лицо с жидкой седой бородкой. А старик посмотрел на него:
– Не знаю тебя... Ты кто?
– Люди зовут меня Кирь. Со мной Чаяк, его сын Тгаяк и... – Кирилл перечислил имена спутников.
– Чаяк... Знаю Чаяка – бродяга... И отец его был таким же... – Старик вдруг поднял веки и уставился на учёного раскосыми выцветшими глазами. – Помоги мне... Кирь! Помоги: такова... моя... воля! Или пусть Чаяк... Не могу сам...
– Мы поможем тебе, воин, – твёрдо заявил подошедший Чаяк. – Мы поможем. Только скажи нам, что случилось с вашими людьми в «нижней» тундре? Мы ехали к вам в гости!
– В гости... Вернись на свой след и забудь сюда дорогу!
– Говори, друг, говори! – потребовал Чаяк. – Менгиты? Расскажи о них!
– Да... Пришли по морю – много, очень много. Думали, кочуют. Однако воевать начали. Через воду прошли. В ряд встали, огненным громом стреляли. Люди бились с ними. Обратно в воду прогнали – менгитов прогнали, мавчувенов прогнали – хорошо бились люди! Ночью воды не стало – лёд один. Мавчувены пришли. Кричат, русские воевать не будут больше. Подарки принесли – котлы железные, ножи, бусы... На землю сложили, кричат: приходите к менгитам, что хотите берите. Кричат: воевать не будут больше, всё отдадут, что людям понравится. Только на берег их пустите, не убивайте всех.
– Вы им поверили?! – не удержался Кирилл.
– Люди смеялись. Пятерых ченгучей (рабов – самых малоценных членов общества) к русским послали. Ченгучи вернулись, подарки принесли. Сказали, что вкусно ели, горькую воду пили и веселились сильно.
– О, боги мои!..
– Тогда люди к ним пошли. Все «сильные» пошли. Бегом бежали – кто первый, кто возьмёт больше... До плохих времён я дожил, до плохих, – грустно вздохнул старик. – Раньше люди сначала врагов убивали, потом их вещи брали, добычу брали, а теперь...
– Ну, дальше! Потом что было?! Впрочем, почти уже ясно...
– Менгиты ножи длинные достали. Наших «сильных» большими ножами рубить начали... Всех изрубили! Потом на берег пошли. Опять один к одному встали, опять огнём стреляли. Люди своим сказали: вещи берите, детей берите, быстро домой уходите – мы сражаться с менгитами будем. Сражались... «Сильных» совсем мало осталось – кому сражаться?! Менгиты стрелять перестали, копья взяли, ножи длинные достали... Мавчувены оленей ловить поехали... Детей хватали, женщин хватали... Старых убивали сразу... Кто успел, сам ушёл в «верхнюю» тундру – ушёл и детей увёл. Кто в «нижней» остался, те идут куда-то... Зачем? Помогите мне люди – скучно здесь стало!
Старик встал на колени, опустил голову и протянул к слушателям руку ладонью вверх – словно просил подаяния. Кто-то из стоявших рядом коснулся этой ладони костяным наконечником копья. Старик обхватил его и приставил к левой стороне груди. Чаяк подошёл сзади и придержал его за плечи, чтоб тело не качнулось в момент удара...
Кирилл отвернулся, чтобы не видеть финала. И встретился взглядом с Палёным, который стоял сзади. Лука криво ухмыльнулся:
– Побил-таки наш капитан твоих таучинов! И поделом – дураков-то учить надо. Раскатали губу на дармовщинку!
Учёному очень захотелось вышибить пленному немногие оставшиеся передние зубы, но он сдержался:
– По-таучински понимаешь?!
– Не, по-мавчувенски малость разумею, да говор-то сходственный.
– Та-ак... – протянул Кирилл. Что-то внутри у него натянулось, заледенело и вскипело одновременно. – Давай-ка в сторонку, дядя.
Они отошли на несколько шагов, и он продолжил свистящим шёпотом:
– Уж извини, Лука, только дело круто повернулось. Не до тебя нам сейчас – кончать придётся. Тебя как: сразу зарезать или помучиться желаешь?
– Да помучаюсь, пожалуй, – ответил служилый и поднял глаза к небу. Впрочем, Кириллу показалось, что он не о Боге вспомнил, а просто оценивал состояние погоды. Это состояние было многообещающим: природа, не таясь, предупреждала о приближении чего-то серьёзного.
– Ладно, – закончил разговор Кирилл, – смотри, не пожалей только.
– А ты не пужай, Кирилл сын Матвеев, – усмехнулся служилый. – Не пужай – пуганый я.
Учёный почти сразу забыл об этом разговоре – подступили другие проблемы. Его спутники не сомневались, что будет снежный буран. Его нужно переждать в укромном, защищённом от ветра месте. Как помочь «беженцам», если у самих лишь походный минимум снаряжения? Чаяк вовсе не был уверен, что этих людей надо спасать: по таучинской этике женщинам и детям не очень прилично оставаться в живых после гибели отцов и мужей – кто их будет кормить?! У всех, конечно, остались какие-то родственники, которые не дадут умереть с голоду, но до них ещё нужно добраться... В общем, Кириллу пришлось сначала уговаривать своих соратников, а потом чуть ли не насильно загонять «беженцев» в узкий скалистый распадок, заставлять строить из снега и немногих имеющихся шкур укрытия от ветра и холода. Дело пошло на лад лишь после того, как Чаяк смирился с очередной «причудой» своего молодого друга и принялся активно помогать ему. При всём при том Кириллу оставалось лишь надеяться, что «армия» Петруцкого останется на берегу, а не двинется вслед за уцелевшими таучинами вглубь материка.
* * *
Они лежали в душной тесной берлоге. Спали урывками – нужно было менять позу, переворачиваться замёрзшим отсыревшим боком вверх, надеясь, что одежда хоть немного просохнет. Ничего тут, конечно, не сохло... Нужно было хоть как-то развлекаться – разговаривать, но спутники Кирилла слишком давно знали друг друга, чтобы сообщить что-то новое. Отчасти положение спасал пленный – Кирилл принялся его расспрашивать, время от времени переводя что-то на таучинский.
– Что же реку так странно назвали – «Айдар». Кажется, такая есть где-то на юге...
– Во-во, истинно – есть! Видать, в честь неё-то ребятушки наши нову речку и прозвали. Небось, поместному звучит сходственно.
– Это что же за честь такая?
– А ты не знаешь? Во времена давни на том Айдаре волюшку казацкую холуи царёвы добивали. Кто головушку буйну уберёг свою, те в бега подались. Да не осталось на Руси-матушке боле волюшки, а Сибирь, хоть и мачеха, всё ж вольнее. Видать, кто-то из тех беглецов до здешней речки и добежал.
– В Сибири-то какая ж воля? – в тон подначил Кирилл. – Кругом леса и болота непролазные, а где жить чуть вольготней, там остроги да зимовья поставлены. А в них воеводы, приказчики, целовальники и прочие приказные...
– Эт верно, – признал Лука, – Верно, да не совсем. Дракону Московскому меха надобны – ему людей православных без соболей жрать несолоно. А соболь тот, видать, от людей Драконовых бежит куда далее. Вот и подаётся народец за ним вслед в земли незнаемые. Чем грехов больше несёт, тем дальше идёт – там соболей больше. Зверушкой этой народ пред государем грехи свои заслуживает. Ты вот на лоб мой дивился, а когда мы на Лопатку шли, нас, считай, половина таких было. А у кого и ноздри рваны!
– Каторжники!
– За Илей-рекой и не таких в казаки верстали – только ступай землицы новые проведывать. Всё одно сгинешь, а так, может, прибыток какой государю учинишь. А не учинишь, так обратно в железа али сразу на виселицу!
– Так ты что же, на Землю Лопатку ходил?!
– А то! Считай, пять годов там парился.
– Ну а здесь-то ты как оказался? Ты ж с Айдарского острога в Коймск прибыл!
– Знамо дело – как. Срок мой вышел. На Лопатке-то жизнь вольготная. Тоже, конечно, не сахар, но ежели по Сибири взять, так лучше и не бывает. Уходить-то я не хотел: по первому разу хворым сказался, а далее никак – понудил приказчик. Хорошо, хоть Хототский этап пропустил – через Айдарск послали. А в Айдарском остроге такой змей сидит – святый Боже! В обчем, пришлось до Коймска идти. Только там службой и сменялся.
Кирилл помолчал, а потом сказал в темноту:
– А почему мавчувенскую речь понимаешь? Где выучил?
– На Лопатке, знамо дело, – с готовностью ответил Лука. – Баба у меня там была – ясырка мавчувенская. От неё и познал!
– Ты, дядя, коли врать начал, так хоть не завирайся – за базаром следи! – отказался верить Кирилл. – Вот надо тебе было иноземской бабы язык учить!
– Гы-гы-гы! – тихо засмеялся Палёный. – Младой ты ишшо, вот и не разумеешь! На Лопатке, опять же, не живал! В той земле кто обитает-та? Лопатники! Оне ж по рекам в острожках сидят и рыбу промышляют, травой, корьём да кореньем питаются. Сих инородцев трясти – дело не хитрое, потому как народец они хоть и множественный, но мирный. А на полночь по горам да тундре там мавчувены кочуют. Оленей у них превеликое множество. Только злые они да двуличные: ввечеру накормят, а в ночь и зарежут. За ясаком к ним хаживать дураков мало находится. А мне с языком ихним – ничо! Тут, паря, считай, тройной прибыток: со служилого получишь, чтоб, значит, заместо него по ясак идти, с тойона мавчувенского подарки возьмёшь по дружбе, значит. Ну, и ясак с поклонными да нащёчными – всё моё, с толмачом делиться не надо!
– Во-от оно что! Только ты, небось, про четвёртый прибыток сказать забыл. Неужели не торговал? Нешто не таскал своим мавчувенам ножи, иголки и прочую мелочь – и всё втридорога?
– Почто ж втридорога? – хихикнул Палёный. – Втридорога мы сами у купчишек на Лопатке товар берём, а уж иноземцы платят сколь скажешь – и пять, и десять. Опять же, ныне ты ему нож али топор всучишь, а соболей да лис он на след год отдаст – сколь скажешь. Так и живём...
– ...хлеб жуём, – машинально закончил Кирилл старинную поговорку.
– Какое там! – хмыкнул Палёный. – Хлеб на Лопатке и приказчик-та не по всем праздникам пробует, а народ одной юколой пробавляется.
– Ну, с юколой – это понятно... А вот как хлеб туда доходит? Ведь доходит же? Купцов, опять же, ты поминал...
– Да то ж всем ведомо! Али ты от веку с таучинами сидишь? Однако ж грамотный...
– Обо мне мы потом поговорим. Поведай-ка лучше, как товар на Лопатку идёт, как ясак вывозят, – потребовал Кирилл, невольно перенимая манеру собеседника говорить. – Что там да как – расскажи по порядку от начала до ныне.
– От Сотворения, что ли?!
– Угу, – усмехнулся учёный, – от Присоединения.
– Будь по-твоему... Чай, ведаешь, сколь лет народ по Сибири байки про речку Погычу рассказывал. А ныне уж не сказывает, потому как нашли ту Погычу – Лопаткой зовётся. В земле она течёт, что промеж двух морей возлежит. Соболя в той земле больше, чем белок по Иле-реке: незнатный промышленный два сорока за сезон возьмёт и не устанет. А лисы всех родов вкруг изб шастают – юколу воруют да с собаками из-за корма дерутся.
– А по речкам в лето столь рыбы с моря идёт, что и дна не видать – аж вода с берегов выходит! – в тон продолжил Кирилл.
– Истинно! – подтвердил собеседник. – Одно худо: мокрость в воздухе изрядная да мух тьма водится. Вот и гниёт юкола на вешалах – червь её точит.
– Про горы гремучие, что огнём да дымом плюются, рассказывать не надо, – предупредил слушатель. – Про земли трясение и дожди чёрные нам тоже всё ведомо. Ты расскажи, как там людишки живут-могут? Мыслю я: по государевой службе пришёл на Лопатку народ весёлый – клейма негде ставить.
– А то! – с какой-то даже гордостью подтвердил Палёный. – Чай не один приказчик по воле нашей Богу душу отдал! Опять же лопатников тамошних смирять надо было – чем не веселье?
– В общем, принялись царёвы люди иноземцев обирать и притеснять всячески. Пушнину те, правда, сперва не добывали, но делали на зиму запасы – рыбу сушили. Вот её-то и отнимали казаки, чтобы самим не работать. Так?
– Чо ж не взять-та с иноземца, коли можно? – цинично ухмыльнулся Лука. – А кто не доволен – в рыло! Опять не доволен? – в ножи! А того слаще, как они бунтовать вздумают – гы-гы-гы! С острожка в острожек ездют, по углам шепчутся – сговариваются, значит, всем скопом собраться да людей православных извести вовсе. А чо таиться-та, коли бабы ихние до наших удов охочи! Её помять хорошенько, так она про своих всё расскажет – и вопрошать не надобно. Ну, правда, по множеству своему, бывало, и жгли иноземцы остроги-та наши...
«Ага: Стеллер и Крашенинников не врали», – мысленно усмехнулся Кирилл и спросил напрямую:
– У тебя сколько лопатников в холопах было?
– С дюжину – более мне не потребно, – солидно ответил Лука.
– Да-а... – вздохнул Кирилл. – Сквозь горы и тундру пришли на Лопатку люди русские – голодные да холодные, нагие да босые. Иной отродясь не только золота, но и серебра в руках не держал, не воеводе, а и десятнику в землю кланялся, перед псом хозяйским шапку ломал. В земле новой последние стали первыми – рабы сделались господами и сами завели себе рабов. Прям-таки рай земной: лежи на печи да покрикивай, чтоб старались нехристи, чтоб дрова да корм заготавливали, чтоб одёжку-обувку шили – да понарядней! А самому и до нужного места дойти лень...
– Да ты, видать, бывал на Лопатке, Кирилл Матвеев! – рассмеялся в темноте Палёный. – По что ж спрашиваешь, коли сам знаешь?
– Не был я там... давно, – буркнул в ответ Кирилл. – И многого не знаю. Вы и правда под себя гадили?
– Гы-гы-гы, ты чо, Кирюха?! Ну, если по пьяни тока... А так – уж всяко холопы до нужника донесут!
– По пьяни?! Что ж вы там пили? Бражку из жимолости или рябины?
– По началу, сказывают, так и было. Только много ль той бражки наваришь – с ягоды-та? Казачки наши добрее удумали. Растёт по Лопатке трава сладкая – где мало, а где хоть косой коси да в стога греби. Той травы листовые стебли лопатники спокон веку как сласть потребляли. Ежели стебли травы сей на солнце подвялить, а потом в чане заквасить, то брага крутая родится, но к питию не весьма пригодная. Ту брагу в котёл, котёл на огонь, а поверх его крышку...
– А змеевик из чего?
– Кто чего? Змей?!
– Да не змей, а труба такая... Ну, откуда водка капает!
– Во-он чо! То ж служилому не задача! Фузея-то на что?
– Ружьё?! Как это?
– А так: сымаешь ствол и к крышке котла глиной примазываешь – любо дело! А трава сия и вкруг Айдарского острогу растёт. То-то людишкам там радость была, как прознали от лопаткинских про вино-та! Иноземцы, опять же, до него зело охочи – всё отдать готовы, только наливай!
– Местных спаивать?! Молодцы... После нас хоть потоп!
– Ты, что ль, святой, Кирилл Матвеев? – слегка оскорбился Палёный. – Молодой ещё, молоко мамкино на губах не обсохло, а по тебе уж не кнут, а топор, поди, плачет!
– Это с чего же ты взял?! – изумился учёный.
– А с того! Мню я, верно сказывают: с таучинами ты скорешился, чёрту душу запродал и народу православного сгубил несчитано!
– Оговор и наветы всё, – усмехнулся Кирилл. – Отродясь христианам зла не чинил!
– А шишаковских казачков не ты ли кончал?
– Я о христианах говорю, а ты про эту нечисть, – притворно обиделся Кирилл. – Скажи лучше, казну пушную с Лопатки не ты ли пограбил?
Историю эту Кирилл несколько раз слышал в Коймском остроге: на Лопатке скопился ясак за несколько лет, а когда его стали вывозить, конвой был перебит взбунтовавшимися мавчувенами, и меха бесследно исчезли. Вообще-то, никаких оснований для подозрений у Кирилла не было – с таким же успехом можно было заподозрить собеседника в организации библейского Всемирного потопа. Тем больше было его удивление, когда оказалось, что он попал, пожалуй, в «яблочко» – Лука поперхнулся, засопел, заворочался... И не выдержал:
– М-м-м... Кто?
– Сорока на хвосте!
– Сорока?! На куски порежу гада!!
– Уймись, дядя! – успокоил его учёный. – Не в деле я... Наугад ляпнул, а ты и раскололся. Говори уж теперь – чего там!
Довольно долго Палёный сопел, а потом начал торопливо шептать, словно боялся, что их подслушают.
Огромный полуостров – Земля Лопатка – землепроходцы освоили очень быстро. Здесь был довольно мягкий климат, обилие «кормов» (рыбы и съедобных растений), многочисленное оседлое население и, самое главное, великое множество ценных пушных зверей, в частности соболя. Социальное состояние туземного общества было чрезвычайно удобно для его покорения: и без того невеликую свою воинственность лопатники использовали для разборок друг с другом – род с родом, одно поселение («острожек») с другим. Поначалу служилые просто помогали местному населению сокращать свою численность, а потом занялись этим самостоятельно. Казаки и промышленники сознательно провоцировали туземцев, специально устраивали «беспредел» – массовое избиение лопатников при усмирении бунтов сулило служилым более быстрое обогащение, чем планомерная их эксплуатация. Залогом благополучия конквистадоров были дальность расстояния и трудность пути с материка на полуостров и обратно: санный путь из Айдарского острога занимал больше месяца, а до Икутска не всегда удавалось добраться и за один год. В общем, как говорится, до Бога высоко, а до начальства далеко. Видно, сибирское начальство такая ситуация не устраивала – центр требовал от него поступлений пушнины. В этой связи близ приморского Хототского острога была построена примитивная верфь, на которой из местного леса стали сооружать суда для плавания через море в «столицу» Лопатки Быстрорецк. Из Икутска до Хототска караван вьючных лошадей шёл чуть больше месяца, а зимой с санями – и того быстрее.