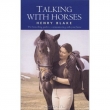Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 87 страниц)
Весь Дамаск говорил, смеялся, размышляя над небывалым в истории города случаем: едва со всех сторон обговорили, обсмеяли, обмыслили нового правителя, как его рано поутру завернули в ковер и вынесли вон за ворота.
Кара-Юсуф у себя в тихой келье еще болел ранами, когда дошла до него весть о ниспровержении Султан-Хусейна в веселом пересказе перса-хозяина.
Кара-Юсуф, дослушав перса, решил:
– Мне надо уезжать.
– Зачем? – удивился перс. – Мы здесь можем теперь жить спокойно.
– Спокойно?
– Ведь нам дали клятву. Нашествие нас не тронет.
– Он с вами играет, как с детьми. Показал издали игрушку, а как подойдет поближе, схватит вас – и в мешок.
– А клятва?
– Схватит вас – и в мешок…
– Разве он такой?
– Я его не первый год знаю. Мне надо уезжать.
– Надо долечиться.
– Нет, не успею.
– Он стоит далеко. Строит себе город. Хочет с нами жить в добром соседстве.
– Он уже идет сюда.
– Как идет, когда стоит и строит город?
– Строит, и это тоже хитрость. Перед Халебом он ставил стан, какой строят на зиму. А нынче там остались только рвы. Да и те уже не рвы, а могилы. Если б Дамаском правил царевич, дело было б вернее – заложник. А он дамаскинов перехитрил, выманил внука. Теперь он волен, руки развязаны. Я его нрав знаю.
– Отлежись. Долечись.
– Нет, отец. Поеду в Бурсу. Там моя семья. У Баязета спокойнее.
– Тебе виднее.
Через несколько дней, завьючив запасных лошадей, запасшись припасами, воины Кара-Юсуфа выехали за ворота Персидского хана.
Кара-Юсуф в своем пристанище, где болел и мечтал, прощался с хозяином.
Перс Сафар Али привык к своему гостю и подарил ему на память редкий ковровый чепрак.
Кара-Юсуф отдарил тем, что уцелело в его беженском хозяйстве. И, совсем уже попрощавшись, запахивая халат, учуял под ладонью Тимурову пайцзу.
– А вот! – доставая пайцзу, улыбнулся Кара-Юсуф. – Вам, отец, она понадобится. На выход через караулы завоевателя.
– Экая бляшка! Возьму на память, но завоевателя сюда не жду.
Они расстались в то раннее утро, и туркмены, следуя за беком на золотом коне, ушли из Дамаска, путем на Бурсу. И над всей их дорогой сияли погожие дни.
Перед Худайдадой ковер развернули, и к соотечественникам оттуда вывалился Султан-Хусейн, со связанными руками, с расплетшейся косой на макушке, и остервенело оглядел окружающих.
Окружающим было весело глядеть на такой переход от восседания на троне к возлежанию на пыльном ковре. Худайдада заботливо предложил:
– Оделся бы.
Кроме ночной рубахи, на царевиче не нашлось ничего. Дамаскины вслед за ним принесли всю одежду, вчера облачавшую дамасского правителя, его арабскую одежду. Другой здесь не оказалось, и Худайдада не предложил ему из своих запасов.
Так, в длинной голобии, накрывшись розовым бурнусом, он послушно забрался в седло, и его повезли к дедушке.
За эти дни достроили дворец Тимуру. Достроили и дом Худайдаде. Вокруг нового города станом стояли войска.
Задолго до того, как показались валы, окружавшие стан, везде виднелись многочисленные табуны, пасшиеся под надежным присмотрим на обширных выпасах. Лошади из охраны Худайдады звонко, с игрой в голосах перекликались с лошадьми из табунов, и это ржание наполняло всю дорогу, пока посольство добиралось до нового дворца.
Султан-Хусейн и просил, и требовал у Худайдады какую-нибудь, воинскую ли, простую ли, самаркандскую одежду, но старик, сокрушенно кивая головой, всю дорогу отнекивался:
– Не взыщи, царевич. Нету. По старости лет не смекнул взять. Откуда было мне знать, что свою одежу ты скинешь. То мне и на ум не пришло. В другой раз как скинешь, так я тебе на смену прихвачу другую. А нынче не смекнул.
Так и ехал в арабском наряде, как белый грач среди черной стаи, в розовом бурнусе и под бурнусом тоже весь в арабском шелку, то неистовствуя, то смиряясь, Султан-Хусейн. Монгольская коса, спускаясь с макушки, одна напоминала, из какой стаи выдался сей грач.
Таким Худайдада поставил внука перед дедом.
Поставил и, ни слова не сказав, отошел в сторону.
Но Тимур, оглядев внука, подозвал Худайдаду:
– Вынь-ка нож.
– Вот он, амир, нож.
– Не идет коса к такому убранству.
– Как повелишь, амир.
– Срежь с него косу.
Таким бесчестьем карали предателей, отторгая их от воинского братства.
Султан-Хусейн заскрежетал зубами, склоняя голову перед Худайдадой.
Ловко, одним махом, как мог бы срезать и голову, Худайдада срезал толстую косу с царевича.
Держа ее в левой руке, Худайдада задумался.
– Куда ее деть?
Тимур кивнул:
– Кинь за дверь. Кому она нужна без головы?
Худайдада с сожалением посмотрел на недавнюю воинскую красу.
Тимур повторил:
– Косу брось, а насчет его самого соберем совет.
Султан-Хусейна отвели в юрту, где он увидел другого царевича, Искандера, доставленного из Самарканда в Карабах в караване Мухаммед-Султана и потом перевезенного в стан к дедушке. Искандера Тимур еще не допустил к себе.
Оба долго сидели в темноте, не зная, о чем заговорить, и медля при свете взглянуть брат на брата.
Наконец слуги, не испрашивая соизволенья, сами внесли светильник и простую будничную еду.
Искандер сказал:
– Видно, ленивы брадобреи в Дамаске – голову брили, а щетину от косы оставили.
– Подумал бы, крепко ли держится твоя коса.
Больше за весь вечер они ничего не сказали, с тем и легли спать.
Еще затемно, чтобы с Повелителем отстоять первую молитву, малый совет собрался перед дверью Тимура.
Хмуро поглядывали барласы, уставшие за ночь и ожидавшие смены. Серебряным клювом чистил ржавые крылья беркут, привязанный к шесту. Близилось то смутное мгновенье, когда ночь переходит в утро и молитвой надлежит встретить его начало.
Однорукий Тимур не мог охотиться с беркутом, но давно, когда была цела другая рука, он любил эту охоту, стремительный гон с птицей на рукавичке, ловко направляя коня наперерез убегающей лисе или корсаку. С тех пор за ним возили беркутов или соколов, и часы одиночества он подчас коротал возле той или другой птицы. Ему порой казалось, что птица понимает его лучше, чем люди, спрашивал ее молча, стесняясь стражи, всегда находящейся где-то неподалеку.
Тимур вышел. Кадий прошел вперед. Помолились.
В мареве разгорающегося утра все сели в неизменном порядке, как следовало сидеть на совете, будь он большим ли, малым ли.
Не в первый раз приходилось Тимуру спрашивать соратников о проступках своих наследников. То о сыне, о Мираншахе, то теперь о внуках, Искандере и Султан-Хусейне.
Тимур сидел сурово, опустив глаза: тягостен стыд за свое потомство. Он выдвигал, возносил, облекал властью простых людей, отличавшихся в битвах, проявлявших ум и смелость, достигавших успеха в трудных делах. Но был требователен, жесток с потомками древних родов, если замечал их надменность: чем чванились, если получили свое не разумом, не доблестью, а по праву наследников! Он их щадил, пока они выполняли его волю, но не миловал, если у него за спиной они презирали его за простое происхождение и только ждали времени, чтобы самим завладеть властью по праву происхождения. Ему казалось, что они втайне потешаются над ним. Если они улыбались, говоря с ним, он думал, что это означает их насмешку; если они смотрели на него без улыбки, ему казалось, что они презирают его. Он истребил всю царскую семью Куртов. К последнему из этой древней династии он подослал убийц на пиру, где юноша беззаботно смеялся, радуясь празднику. Он свернул шею двум самодовольным бездельникам из Караханидов. Еще недавно жил чернобородый, густобровый, но бледный, худосочный книголюб, единственный из потомков древнего Сиявуша. Тимур возненавидел его за пристрастие целые дни читать и рассматривать книги, за то, что хил и немощен, что выродился в затворника, хотя предки его были воинами и властными людьми. Тимур послал людей задушить того Сиявушида. Тимур внушал сыновьям убеждение, что правитель должен быть силен и суров. Из всех сыновей только Джехангир был таким, но умер, прожив всего двадцать лет.
И вот в одном из внуков возобладали не разум и доблесть, но только алчность и зависть. В другом, без спросу напавшем на монголов, сильнее разума взыграла удаль, словно не в поход пошел, а на охоту выехал.
Как всегда, ныла больная нога, и ныла в нем тревога за будущее своего рода, своего наследства, всю жизнь расширяемого, все более и более нуждавшегося в твердой руке.
Поздним вечером приходил Шахрух заступиться за племянника, за Искандера. И ночью Тимур не раз, просыпаясь от досады, думал: «Вот и Шахрух… Мягок! Будто племянник муллы, а не сын Повелителя!»
Досадуя, он внимал на совете соратникам, не решавшимся к ослушникам, своевольникам выказать строгость, с какой относились к воинам.
Тимур, не поднимая глаз, сказал:
– Когда изменяет воин, ему срезают косу, выводят в поле и пронзают стрелами. Султан-Хусейн перешел на сторону врага, надел его доспехи, вооружился его оружием. Говорите свое слово.
Люди совета тоже опустили глаза и молчали.
Тимур не торопил их, ждал.
Султан-Хусейн, обнаженный по пояс, стоял на коленях перед сиденьем Повелителя.
Но, как ни медлили, говорить надо, и Худайдада встал.
– По заветам хана Чингиса это называется суюргал. За такой проступок не казнят смертью. Казнят плетьми или палками. Надо сохранить жизнь. Жизнь для искупления вины.
Шейх-Нур-аддин:
– Не смерти воин страшится, идя биться. Про нее не помнит. Не ран страшится, когда врагов рубит. Павшим честь. Раненым слава. Но нашему воину страшней смерти, больнее ран бесчестье. По старому завету все мы носим косу. То знак воина. Взять косу воина – значит обесчестить его. Вот стоит царевич. А коса где? Срезана. Спрошен ли был совет, когда это сделали? Нет. А что ж теперь говорить, когда самая страшная казнь свершена? Про себя скажу: убей меня! Я готов, на то я и воин. Секи меня саблями, прочь не побегу. Секли, бывало, а не отступался. Но косу мою не тронь! Куда мне без нее? Вот и говорю: казнь свершена, а нынче к тому наш совет ничего не прибавит. Казнь свершена. И довольно.
Поднялся Шахрух:
– Он мой племянник. Моя кровь. Наш род. Что же будет, если начнем карать друг друга? Его позор станет всей нашей семьи позором. И за что? Он ушел в Дамаск. А мы осаждаем этот город? А мы воюем с дамаскинами? Нет. Не воюем. Подарками с ними поменялись, пленника им отдали. С кем воюют, тем пленников не отдают. Значит, не воюем, значит, против нас Султан-Хусейн не воевал, значит, это не измена, а так, одна шалость либо дурь. За что ж казнить?
Говорил и смотрел в лицо отца печальными внимательными глазами.
Тимур не сдержался:
– Ты добр. Что ночью мне говорил, а я не стал слушать, теперь перед всем советом сказал. Моих слов не послушал.
– С тех пор целая ночь прошла. После того люди и помолились, и успокоились. Можно снова подумать.
– Дак ведь ты после молитвы то же твердишь, что и прежде!
Но Тимур скрывал от них и себе не признавался, какое облегчение душе исходит от таких защитников: можно ли казнить смертью родного внука! Как повсюду заголосят враги о его жестокости! Какой позор ему из того провозгласят! Но и снисхожденья оказать нельзя: как быть строгим со всеми, если со внуками стать жалостливым? Нельзя. Но верно они говорят, не убивать же!
После всех говорил кадий Тимуровых войск Абду-Джаббар. Он напомнил, что сам аллах милостив, милосерд. Он прочитал стих из Корана, где пророк учит мусульман проявлять милосердие к мусульманам и щадить их жизнь. Он говорил долго, растянув, как напев, стих Корана.
Тимур, подождав, пока все успокоятся и смогут внимательно слушать, спросил виновника:
– Просишь пощады?
Султан-Хусейн вскинул лицо и строго ответил:
– Когда ж я ее просил, дедушка? Вы приказывали, я исполнял. Как скажете, так и должно быть.
– Сорок палок выдержишь?
Султан-Хусейн ждал худшего, но сорок палок – это еще раз позор. Зато жизнь дарована! Он проворчал:
– Стерплю.
Тогда, не сдержавшись, вскочил на ноги Шахрух. Но раньше его успел крикнуть Худайдада:
– По заветам хана Чингиса можно дать не более тридцати!
– У Чингисхана ни сыновья, ни внуки из его воли не выбивались. Соблюдали каждый его завет.
Но Худайдада повторил:
– Не более тридцати.
Тимур снова спросил виновника:
– Тридцать пять. Стерпишь?
– Вашу волю, дедушка, всю жизнь терплю.
– То-то! – сказал Тимур. – Тридцать пять. Приведите другого.
С коленопреклоненным Султан-Хусейном рядом поставили Искандера.
Тимур опять спросил у совета:
– А этому что?
Шахрух:
– Он от монголов вернулся с победой, какой никто над ними не одерживал. Вернулся с добычей, какой никто никогда у монголов не забирал. Показал нашу силу.
– И это ты мне говорил. И опять свое твердишь. Сердце твое мягко. Хочешь стать сильным, ожесточись. Иначе не управишься. А я, уходя из Самарканда, велел блюсти порядок, чтобы никто, прознав про наш уход, не кинулся на нашу землю, оставшуюся без войск. А он что? Никого не спросясь, крадучись, сходил в поход, растрепал монголов, ожесточил их. Теперь они нам не соседи, а враги. Думают, как им вернуть, что потеряли. В Китае нечестивый царь издох. Ныне у монголов с востока грозы нет. Соберутся, да и пойдут на Самарканд. А там защитников не хватит. Надо думать, не уйти ли отсюда, не завершив всего дела. А уйдем, так тут на наше место набегут всякие Кара-Юсуфы, всякие султаны, будто мы от них сбежали, не выдержали. Все, что взято, они назад возьмут, будто нас тут не было. Да и навряд ли мы сюда в другой раз соберемся. Надо в Китай сходить, а не то Китай на нас надвинется. Не было б этой заботы, кабы не ослушник, победитель. Мы бы поспели сами взять монгольские сокровища в свое время, когда здесь, везде у нас за спиной было бы спокойно, твердо. А теперь… Нельзя так сразу отсюда уйти. Боязно и там оставить Самарканд без защиты. Вот чего натворил. А ты мне о победе! Победа хороша своевременная. Иная победа – шаг к беде!
И повернулся к Искандеру, стоявшему на коленях, как и Султан-Хусейн. Голый до пояса, с обнаженной головой, откуда свисала его коса, Искандер не потупил лицо, не опустил глаза.
– Походом ходил?
– Ходил, дедушка.
– А спросился?
– Некогда было. Да ведь я знал, дедушка тоже походы начинал без спросу, набегом, быстротой. Раз! И победа. Я мысленно спросился: как бы поступил дедушка? Вот по вашему примеру и… И великий Искандер Македонец тоже вставал перед врагом внезапно.
– Такого не было примера.
– Вы спрашивались? Кого же, дедушка?
– Ты эту отговорку уже сказывал Мухаммед-Султану в Самарканде. Он мне о том писал. А только я, прежде чем идти, спрашивался.
– У кого же.
– У ветров. У того, что дул с севера, где Тохтамыш на нас злобится. У восточного, где монголы сильны и завистливы, а там и Китай с их лихим царем. У западного: не нападет ли на нас Баязет-султан либо лукавый Бурхан-аддин. У южного: персы не поднимутся ли на нас. Отовсюду соберу проведчиков, всех послушаю, тогда и решаю. А ты?
– Я ведь хотел победить. Хорошее сделать. И сделал.
– Что сделал, про то уже сказано. Ты ослушник. И совет нам скажет, чем наказать воина, выпустившего стрелу прежде, чем его войско изготовилось к битве. А, Худайдада?
– Тридцать палок, но если та стрела обратила врага в бегство, воина награждают. И если та стрела пронзила вражеского полководца, награждают.
– Я спрашиваю не о победителе, а об ослушнике.
– Я дал бы тридцать палок, но не забыл бы и о полете стрелы: куда была нацелена.
– А я Шахруху сказал: та стрела пущена на восток, а ударила по защитникам Самарканда, ибо, пуская стрелу, проверь, куда дует ветер. А если войско притаилось в засаде, а один воин возьми да и встань, что тому воину следует? Когда он засаду всего войска выдал?
Шейх-Нур-аддин опять вмешался:
– Надо дать тридцать. Без оговорок. А когда есть оговорка, довольно двадцати.
– Значит, двадцать? – спросил Тимур, которому нравился удалой Искандер.
Тимур, нетерпеливо дослушав еще одну звучную выдержку из Корана, едва Абду-Джаббар дочитал, распорядился:
– Отведите их и днем исполните.
Закончив совет, Тимур, дотоле сидевший понуро, потупившись, распрямился и смотрел, как резвые слуги стелют скатерти перед людьми совета, как ставят перед гостями горки горячих лепешек.
Когда вносили горячую обильную еду, он, по обычаю, сам распоряжался, какое блюдо отнести тем или другим гостям. Он называл имена тех, кому предназначались блюда, и названные кланялись щедрому хозяину.
Долго длилась эта трапеза, и вскоре, едва гости ушли, подошло время казни.
Надо было идти туда. Он пошел в широком распахнутом халате, тяжело хромая, не взглядывая ни на кого, и, едва добрался до приготовленного ему места, сел. Вспомнил, что сутулится, и торопливо выпрямился.
Вокруг небольшого поля стояло плечом к плечу войско, до того дня подчиненное Султан-Хусейну. Стояли полторы или две тысячи воинов, побывавшие в Дамаске.
Позади Тимура стеснились его недавние гости, его малый совет. Ближе других стал Шахрух.
Вперед вышли трубачи с огромными медными трубами, сверкавшими на полуденном солнце. С трубачами вышли барабанщики.
Вышли двое палачей, отобранные для этого дела из пленных, давно служивших в войске.
Тимур негромко приказал:
– Худайдада, исполни.
Худайдада вышел на расшатанных ногах и досадливо махнул трубачам.
Барабаны глухо загудели. Взревели трубы.
Окруженные воинами, вышли двое царевичей, обнаженные до пояса, со связанными впереди руками.
Воины толкнули обоих, ставя на колени среди сухой травы.
Палачи засучили рукава, подняли с земли гибкие прутья и обтерли их полами халатов.
– Тридцать пять! – негромко сказал Тимур.
Султан-Хусейна положили животом на колючую траву.
Трубы ревели.
– Исполняйте! – сказал Тимур и отвернулся, зачесав щеку.
Худайдада молча махнул палачам.
Палачи, стоя по обе стороны от осужденного, грубо сдернули его штаны.
Хлестали поочередно, старательно, опасаясь, что кто-нибудь упрекнет их за слабость удара.
Негромко считавший удары Худайдада, едва досчитав до тридцати пяти, вдруг нетерпеливо и зычно крикнул:
– Стой!
Палачи отступили на шаг.
Султан-Хусейн неподвижно лежал, облитый кровью.
Воины уже подходили, чтобы его поднять, когда он сам, упершись руками в землю, приподнялся.
Его лицо тоже оказалось в крови от искусанных губ.
Тимур прерывисто приказал:
– Срезать косу.
Худайдада подошел к царевичу, провел ладонью по его макушке.
– Срезана.
– Отведите! – приказал Тимур.
На Султан-Хусейна накинули халат, и бережно, мелко переступая, воины увели его с площади.
Тимур:
– Двадцать два.
Люди совета затоптались, переглядываясь. Шахрух подступил к отцу.
– Двадцать ведь!
Тимур, кивнув Худайдаде, повторил:
– Двадцать два.
Худайдада крикнул гневно и громко:
– Двадцать два!
На чистой траве неподалеку от забрызганного места Султан-Хусейна распластали Искандера.
Все повторилось.
Когда палачи отошли, Искандер, тоже уже окровавленный, упруго сам встал и твердо сказал:
– Дедушка, спасибо за науку.
Тимур отвернулся.
Искандер пошатнулся, но устоял и ушел с площади, опираясь на плечо воина. Коса осталась неприкосновенной – дедушка пощадил его честь.
Вечером оба лежали в прежней юрте.
Лекарь, наложив свои снадобья на спину Султан-Хусейна, лежавшего, казалось, в забытьи, сел на корточки около Искандера.
Буроватая смесь мумиё и каких-то истолченных трав слегка защипала раны Искандера, когда вдруг Султан-Хусейн твердо сказал:
– А вот Искандера Македонца палками не наказывали. А тоже был победитель.
«Опять завидует!» – подумал Искандер, но промолчал.
Султан-Хусейн больше ничего не говорил ни в тот вечер, ни в последующий день, погрузившись в сонное забытье.
Искандер переносил болезнь легче и попросил перенести его постель за порог, на ветерок. Там он крепко заснул, а проснувшись, встал на ноги, но кружилась голова, и стоял он покачиваясь.
Тимуру в его новом мраморном дворце не жилось: казалось холодно. Его накрыли теплым одеялом, стеганным по верблюжьей шерсти. Сердце ныло, словно в предчувствии беды. Это была досада, охватившая его всего. Она бурлила в нем, будто вода в котле. Тимур глушил досаду, как тяжелой деревянной крышкой накрывают кипящий котел. Но оттого вода вскипает яростней и вздымает крышку.
Он велел позвать чтеца, и тот явился с большой книгой.
Тимур попытался вспомнить предыдущее чтение – главы из истории Рашид-аддина. Того Рашид-аддина, чью могилу разорил Мираншах.
Историк, писавший просто, показался витиеватым, и некоторые места приходилось выслушивать снова, повторяя чтение.
Чтец терпеливо читал снова, но вскоре Тимур понял, что в этот вечер не может вдуматься в слова историка. Отпустил чтеца, не дослушав главу, и послал за внуком, за Халиль-Султаном.
Халиль-Султан, неутомимый охотник, бывал душой любой охоты, когда выезжал на нее. Он не задумывался об опасности, нередко охотился даже на глазах у врагов в промежутках между битвами. Его соколы вызывали зависть у соколятников. Его лошади не уступали в прыти лошадям самого Повелителя.
Халиль-Султан замешкался, и уже ночь подошла, когда он пришел.
Тимуру невыносимо было долгое ожидание. Но, увидев Халиля, он повеселел:
– Ты сокола мне проспорил.
– Вы, дедушка, велели его вам на охоте дать.
– У тебя ордынский кречет хорош.
– Постарел. Ленив стал.
– Хороший кречет не стареет. Он у тебя попросту зажрался. Оттого и ленив.
– Я не закармливаю. Клок дичины на целый день.
– Клок клоку рознь. А на кого приважен?
– Косуль бьет.
– Какие тут косули? Разве что лисицу вспугнешь.
– А у меня есть сокол, диких ослов бьет. У монголов куплен.
Напоминание о монголах снова шевельнуло притихший было гнев, хотя и не сразу это связывалось с набегом Искандера на монгольские улусы.
– Вот и поохотимся. Надо размяться. Пора отогреться от этих мраморов.
Он неприязненно кивнул на стены нового дворца, словно его силой сюда посадили.
Мысли об охоте утишили его досаду, хотя, однорукий, на охоте он мог лишь мчаться наравне со зверем. Но оттого и вся охота бывала ему видней, и охотничий запал острее.
– Вот и вели кречетов готовить и лошадей пригнать. И чтоб моих тоже пригнали.
– Каких, дедушка?
– Пусть Чакмака готовят. Давно его не седлал.
– О нем у дяди Шахруха надо спросить.
– Нечего спрашивать. Он в моем табуне, а не у твоего дяди.
– Я пойду спрошу.
Тимур насторожился:
– А ну-ка сходи спроси.
– Он, видно, уж спит.
– Почему это видно?
– Да ведь время за полночь.
– А ты сходи.
Едва Халиль вышел, Тимур послал за Шейх-Нур-аддином.
Этого не пришлось долго ждать.
Когда он показался в дверях, Тимур спросил:
– Где мой табун?
– Как где, о амир? Угнали.
– Куда?
– Когда под Сивасом…
– Ведь их вернули.
– Но ваш табун, о амир, не удалось отбить.
– Кто ж его взял?
– Да проклятый этот Кара-Юсуф.
– Кара-Юсуф?
– Он и остальных лошадей у нас угнал. Тех отбили. А ваш табун весь увел. Ведь небось царевич Шахрух объяснил.
– Ну, а Чакмак?
– На Чакмаке злодей сам уехал.
Лицо Тимура пожелтело при той вести.
– Как же он… Как он его увел?
– Битва была. Он бежал.
– Догнать, что ль, не могли?
– Там горы. Скакать не расскачешься.
– Ступай. Спи. Время за полночь.
И опять остался один, долго ожидая Шахруха, с тревогой твердя:
– Кара-Юсуф… Опять Кара-Юсуф…
В этом неугомонном туркмене – вечная опасность: едва, завоевав земли туркменов, Тимур уходил, невредимый Кара-Юсуф являлся и опять там становился хозяином, будто и не было Тимуровых побед. Так бывало не раз. И снова досадная тревога: не случится ли такое и со всеми другими завоеваниями? Едва отворотишься, как вернутся всякие тамошние Кара-Юсуфы, и все усилия и удачи всей жизни забудутся, как в погожий день забывается минувшая гроза. Само имя ненавистного Кара-Юсуфа звучало как предостережение из грядущих лет.
И ему представился Кара-Юсуф на золотом Чакмаке. Как небось потешается, что сидит на знатнейшем из коней Тимура!
Тимур притих. Пожелтел. Осунулся. Поник. Скрипнул бы зубами, но зубов осталось мало, всего с десяток.
Он размышлял по-своему, своими словами, припоминая то одно, то другое из пережитых событий, о себе, о судьбе, о своем воинском рассудке, как называл он свой воинский талант, свой дар полководца.
Чего же стоит жизнь полководца, его воля, преодоление опасностей, невзгод, болезней, если вернется такой хозяин своей земли и от удач и успехов завоевателя не останется и следа, кроме ненависти к нему в народной памяти на многие века! Значит, надо сперва понять, на какое дело, куда ведет тебя твой талант, и тогда решить, всегда ли надо следовать за своим талантом…
При таких раздумьях то в гневе, то в тоске он понимал свое бессилие от него не зависело перевернуть ненависть в любовь, в признательность, в благодарную память. Как легко покоренный народ забывает о нем, как легко свой восторг обращает к тому, кто приходит на смену завоевателю!
Тут, мягко, неслышно выступая, вошел Шахрух.
Не дав сыну переступить порог, Тимур крикнул:
– Заврался?
– О отец! Как это?
– Где мои лошади?
– Но ведь я столько лошадей, столько скота отбил!
– Я про свой табун. Думал отмолчаться?
– Да как бы я смел!
– Я думал, сын смышлен, добычлив, а у сына одно на уме, как отца обхитрить!
– Да ведь он бежал. А от таких стад как уйти в погоню? К тому ж дождь.
– Дождь?
– Ливень.
– Боялся обмочиться?
– Он кинулся…
– Не побоялся дождя.
– Но он же спасался. У него иного пути не было.
– Он злодей, а лих. А вы – как куры. Небось под кожухи попрятались? Уходи. И скажи там, никакой охоты не будет. На что она мне, ваша охота!
– Про охоту я не слыхал.
– Уходи!
Шахрух было пошел, но вернулся.
– Ведь у него была ваша пайцза, отец! Он показал ее караулу…
– Пайцза?
– Десятник караула сам ее читал.
– У Кара-Юсуфа?
– Какая дается вашим проведчикам.
– Где ж он ее получил?
Тимур задумался, вспоминая. Их всего было дано в верные руки менее ста. Все наперечет, все надежны. Никто среди проведчиков не попадался Кара-Юсуфу, не мог предать. Было б страшно, если б и среди проведчиков оказались предатели.
И опять остался один среди светильников.
Велел гасить светильники, ожидая от темноты облегчения. Но тьма оказалась нестерпимей света. Приказал снова зажечь огни.
Так досадовал всю ночь. Только перед рассветом тяжело заснул и проспал первую молитву.