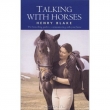Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 81 (всего у книги 87 страниц)
Он схватил за руку одного из воинов и, высоко задирая острую бороду, подпираемую большим кадыком, повел завоевателей от двери к двери, от замка к замку, поднимая из связки ключ за ключом.
Воины увидели, что все двери от Константиновых ключей уже выбиты, выломаны.
Константина отпустили. Едва он отвязался, как не мешкая ушел неприметными переходами. Затерялся среди столбов, стен, ниш: мечеть велика.
Но где бы он ни притулился, отовсюду слышен был город. Повсюду не смолкали вопли и крики убиваемых, пытаемых, разлучаемых, уводимых в неволю.
Сначала гибли дамаскины из христиан – марониты, армяне, греки: кто казался зажиточнее других, от тех добивались добычи.
Но вскоре людей хватали без разбора, от каждого ища себе корысти. В спешке выпытывали, где скрыты их припасы. Ничего не узнав, за это их убивали. А выпытав, взяв сокровища, убивали, не зная, зачем оставлять им жизнь, ибо победителям жизнь поверженных казалась лишней обузой.
К вечеру крики истощились.
Уцелело не более трети дамаскинов: двое из троих либо пали, либо пошли в неволю.
Купеческая слобода оставалась нетронутой: Тимур ждал третью часть откупа – последние сто тысяч динаров.
Дамаск горел.
Порой над руинами взлетало пламя. Белое, прозрачное или голубое со странным лихим свистом, словно то пламя взметнулось над углями, где оружейники, бывало, закаляли сталь.
К вечеру большое зарево высоко полыхало над городом.
В багряном золотом небе в безветрии прямо, слегка покачиваясь, высились рыжие столбы дыма.
Тимур, всхрапывая, спал в мечети Омейядов.
Ибн Халдун, толстыми стенами мадрасы Аль-Адиб заслоненный от буйствующего пламени, затворился в низкой келье и, уже не диктуя, своей рукой писал дорожник по Магрибу. То, прищуриваясь, мыслями уносился в непроглядную даль, то, сдвинув брови, склонялся над страницей.
Когда затих яростный порыв вторжения, пора стало осмотреться.
Большое войско ушло из города в стан: в разоренном Дамаске на всех не хватало места. Осталась только стража, умело расставленная по всем слободкам.
При въезде в купеческие слободы поперек улиц нагромоздили перехваты и стражам указали не впускать, не выпускать никого, будь это даже свои полководцы. Тимур ждал от купцов остальное золото, чтоб взамен либо дать им пайцзу на выход из Дамаска, либо оградить их дворы на то время, пока здесь хозяйничают завоеватели. Выходило, что цена медной караванной пайцзы достигла ста тысяч золотых динаров.
Лекарь, сгибаясь под низким сводом кельи, положил Тимуру на незаживающую рану на колене жвачку из кореньев, приглушающую боль. Никакому иному леченью этот давний свищ не поддавался. Перебинтовали узкой шерстяной тесьмой, чтоб грела и вытягивала гной.
Едва боль понемногу затихла, Тимур собрался в Каср Аль Аблак. Но прежде чем покинуть двор мечети, он указал сподвижникам на неотложные дела.
Надо было пока на глазок прикинуть, какова добыча, каковы пленники, велики ли потери.
Тимур, опустив больную ногу со скамьи на скамеечку, которую тотчас подставили под нее, сам сидел на поджатой левой ноге, запахнув простой, невзглядный халат.
А на ковре, по сторонам от его скамеечки, разместились вельможи. И как всегда, чем менее они были грамотны, тем сильнее хотели казаться величественнее, чем менее были значительны, тем более высокомерны.
Как и во всех прежних своих нашествиях, он расспросил о местных мастерах, знатоках своего дела. И о ремеслах, какие тут славнее и добротнее, чем в иных краях.
Шах-Малик, пригнувшись грудью к ковру, запрятав свое лицо в пушистую светлую бороду, прислушивался к ответам, но, не дослушав, перебил говорящего:
– Первейшие оружейники здесь. А нам не гончары нужны, наши гончары не хуже; нам не седельники нужны, у нас свои седла неплохи. А оружейников, равных здешним, нигде нет.
– Оружейники! – подтвердил Тимур. – А кто еще?
Один сподвижник, худощавый, сизый лицом, облизывая толстые влажные губы, хрипло сказал:
– Искусники по драгоценностям. Исстари. Тут они умеют! Редкостно.
– Было б золота вволю! – ответил Тимур.
Он велел забрать и спросить старосту оружейников о всех мастерах, их учениках и о семьях их – велико ли число всех.
– Их там каравана на три! – хозяйственно объяснил Шах-Малик, всегда успевавший раньше других разузнать о главных новостях в городе.
Тимур приказал окружить оружейные ряды на базарах со всеми оружейнями. И собрать всех мастеров со всеми подмастерьями.
Он приказал наладить немедля три каравана на Самарканд. Дать главе каравана большую пайцзу на сквозной путь через все завоеванные земли, чтоб пошел караван не только с оружейниками, а и со всем их снаряжением и заготовками. А у кого есть семьи, чтоб везти их с семьями. И чтоб единого дня не медлили. А ряды со всеми горнами захватить сейчас.
– Пока там не попрятались! – объяснил он. – Живо!
О том, как распределить пленников, как разделить обычную добычу между воинами, как передвинуть стан за городом на более здоровое место; о том, где пасти табуны несметного множества лошадей и верблюдов, – коротко, ясно он спрашивал о том, и ему отвечали.
Полководец не может только руководить битвой, ему надо быть хозяином, чтоб в силе и в холе находились те, кем он руководит, – и воины, и кони.
Он было присел на камень под навесом для недолгого разговора, а времени прошло много, пока наконец он дал знак, чтобы ему помогли надеть поверх будничного халата столь же ничем не приметный чекмень и посадили на носилки.
Носилки крепкие, высокие, обитые красным сафьяном, привозным сафьяном от татар с Волги, называвшимся по старой памяти булгарским. Тимуру такой сафьян нравился. Он приказывал обивать им седла, шить мягкие туфли, красные или зеленые, а также красно-зеленые – из узких лоскутков вперемежку. Туфли получались пестрые, и он надевал их, отправляясь в баню или в гарем.
В тот день на нем были тоже мягкие глубокие сафьяновые полусапожки, не стеснявшие больную ногу.
К краям кресла сафьян прибили гвоздями с большими золотыми шляпками. Червонное золото поблескивало на солнце. Тимур, сев среди такого блеска, казался темней, беднее.
Вельможи расступились, склоняясь в знак повиновения и преданности, когда воины ловко, легко подняли кресло и понесли к широко распахнутым воротам.
– Сумели ворота открыть! – сердито сказал Тимур. Сказал никому, сам себе, и потому никто ему не ответил.
За воротами Тимура ждала свита, чтобы парадно и достойно проводить Повелителя через город во дворец Аль Аблак.
Пойти пришлось не кратчайшей дорогой, а в обход развалин, пожарищ, еще дымящихся, чадящих угаром и мертвечиной.
У кладбищенских ворот, где бился Содан, когда войско Тимура ворвалось в Дамаск, родные искали тело Содана среди павших. Он был росл и черен, приметен. Но тело его не нашли. Оттого ли, что много павших, оттого ли, что в последние минуты Содан успел скрыться. Для новых битв.
Когда пересекали широкую ровную улицу – Прямой Путь, которую называли и Большой Дорогой, а запросто говорили еще проще – на Прямой, – Тимур заметил, сколь она изменилась.
Обгорелые, почернелые стены караван-сараев, их сводчатые ниши, бойницы над воротами, словно каждый такой постоялый двор мог стать крепостью внутри города, – все было закопчено, разбито, затоптано.
У входов уцелевших рабатов толпились воины, понуро стояли ряды заседланных лошадей. На месте иных рабатов торчали балки или нависшие над развалинами остатки кровель.
На месте, где теснились ряды лавок, тоже громоздились рухнувшие кровли, провисшие потолки, обгоревшие стены. Остатка сгоревших товаров нигде не было видно: сгорели лавки, начисто опустошенные, – все, что можно было взять, все было взято, а что замечали невзятого, воины бесстрашно выхватывали из огня.
В двух или трех местах среди недогоревших досок и опаленных камней виднелись останки книг.
Книги не только вмещают человеческие мысли и раздумья – они делят и судьбу мыслителей. Завоеватель равнодушно взирает на их гибель, а чаще нарочито бросает их в огонь.
Книги горели, когда богословы и проповедники, уничтожая язычество, положили на костры вдохновенье языческих поэтов.
Книги горели, когда человечество встало на защиту разума и выбросило в огонь богословие и схоластику.
Китайцы жгли книги и рукописи, врываясь в древние монастыри Тибета и разоряя города уйгуров в Кашгаре.
А когда на Китай с севера обрушились маньчжуры, они пустили по ветру письмена китайских ученых и поэтов.
Когда орда Тохтамыша подступила к Москве, в спешке были совсюду свезены в Кремль бесчисленные книги, писания, свитки и накиданы до самых сводов в каменном соборе. Их дотла сжег Тохтамыш, ворвавшись в Кремль, пока Дмитрий Донской собирал войска в Костроме. И как после ни клялся Тохтамыш Москве в любви и братстве, Москва об этом доныне не забыла.
Когда знаменосцы новых вер добирались до огнива и кресала, первый огонь во славу новой власти они зажигали из книг, созданных до их прихода.
Ибо книги хранили человеческий разум, знания и мечты, столь ненавистные неучам, когда неучи овладевали властью, когда неучи спешили утвердить свою власть над народами мыслящими и мечтающими.
Тимур знал, сколь дорога книга. Знал, что одни книги содержат истину и добро, а другие тешат дьявола. Но не умел отличить одну от другой. Воинства же его, завоевывая вселенную, не делили ничего на добро или зло: добро это были они, зло – все, что им противостояло. И Тимур порой отворачивался от дел, сотворенных его соратниками, как здесь, на Большой Дороге, отворачивался от этих углей, еще хранящих облик книг, очертания переплетов. Так завоеватель хитрил сам с собой.
Один из караван-сараев удивил Тимура: сарай не был сожжен, у ворот не толкались воины, ворота не были сорваны, а лишь гостеприимно приоткрыты. Тут стоял в порыжелой шапке согбенный старик, обглоданный испытаниями, изнуренный возрастом, при том легко, как мальчик, забавлялся какой-то медяшкой – подкидывал и ловил, высоко подкидывал и ловко ловил.
Пробираясь через руины базара, Тимур оказался в рядах оружейников.
Воины уже оттеснили мастеров к неровной глухой стене, а в незатейливых оружейнях возле очагов и по всем щелям и чуланчикам все было обшарено и пусто.
Старцы и отроки, первейшие мастера и те, что лишь пробуждают в себе знания, перенятые от предков, – вместе стояли они, толпясь, одетые в тяжелые черные шерстяные бурнусы, накрывшись глубокими черными колпаками. Оттесненные к стене, покрывшейся поверх грузных камней, как древняя серебряная чаша, золотисто-серебряным загаром.
Нынче уведут отсюда стариков. Заберут как добычу. Юношей тоже, ибо, как наследники мастеров, они, даже еще не овладев опытом, уже имели навык.
Один, по имени Самиг абу Кахр, был удивительно кудряв. Кудри скрутились вперемежку – один завиток красновато-черен, другой бел, как иней. Он упрямо сидел на корточках перед очагом, где между тлеющими углями теплился огонек. Как ни оттаскивали отсюда его, как ни пинали, он вставал на ноги, возвращался и снова приседал перед углями, словно на привычном месте хотел что-то додумать.
Тимур приметил немолодого оружейника с зеленоватой кривой бородой. Слева эта борода была сожжена. Видно, в увлечении он слишком низко склонился над жаровней либо ослабел глазами и, разглядывая клинок, не разглядел жара под клинком.
Жар в очагах. В иных между углями еще теплились, вспыхивали голубые либо зеленые огоньки. Очаги, где не остывали угли десятилетиями, а то и дольше. Розоватый млеющий жар, над которым было столько сотворено и отковано булатов, протянуто тончайших стальных нитей, тонких, как девичьи волосы, длинных, как косы красавиц, серебристых, как волосы старух. Стальные пряди, коим суждено было соединиться в единый клинок и с лихим свистом рассекать воздух, единым взмахом пересекать шелковую шаль, подкинутую кверху.
Дамаскины умели из стальных волос выковывать мечи и сабли.
Но они умели это здесь, на очагах, сложенных отцами и праотцами во славу Дамаска.
А таким ли будет огонь на чужой земле, над иными углями? Над новыми жаровнями вспомнится ли прежнее мастерство?
Как их ни оттесняли к стене, как ни заслоняли от них черные стены оружеен, они смотрели, не отводя глаз, на то, что существовало перед ними всю жизнь, на что теперь смотрят в последний раз.
Тимур запомнил их такими: неподвижными, безмолвными, сплошь в широких черных одеждах, под островерхими куколями, надвинутыми ниже бровей; а вокруг них бесновались воины в стальных переблескивающих кольчугах, в панцирях, в стальных скользких шлемах.
Среди того беснованья оружейники, отстранясь от всего, стояли крепче, были увереннее в себе, чем воины, суетливо спешившие чем-нибудь показать себя при проезде Повелителя. Но сумели выразить усердие, лишь кинувшись без причины нагайками хлестать оружейников: вот, мол, как мы тут строги!
Тимур их окрикнул:
– Эй, не сметь! Берегите их!
И воины присмирели.
Лишь годы спустя объявилось, сколь бесплодно было это переселение. Мастера ли, ученые ли, оторванные от родины, в дальних краях не прославили чужой Самарканд. Не заблистало там оружие, каким славили оружейники родной Дамаск; нет книг, написанных учеными, свезенными в Самарканд, а слава их была высока в просвещеннейших городах Индии, Ирана, Армении, Аравии, на их родине.
Тимур проехал через весь длинный оружейный ряд, когда оказалось, что старанием мирозавоевательного воинства выход из узкого ряда завален отвалом стены, дабы пленные не ухитрились скрыться с той стороны через им одним ведомые щели и закоулки.
Пришлось Повелителю возвратиться. Он рассердился: не возомнили бы оружейники, что он сюда из любопытства заехал, полюбоваться на них!
И снова, пересекая Прямой Путь, Тимур увидел каменный караван-сарай и старика в изношенном персидском кафтане, безбоязненно подбоченившегося у приоткрытых ворот.
– Какой это рабат? – спросил Тимур. – Почему свободен?
Никто ему не ответил, но тут же послали разузнать об этом постоялом дворе, караван-сарае, или, как это назвал Тимур, рабате, а по-арабски такие гостиницы зовут – хан.
Это подворье из владений перса Сафара Али оказалось не заселено воинами. Во дворе неприкосновенно стояли никем не отнятые верблюды. Кормов, им припасенных, в избытке хватило бы на целый караван. Слуги сонно шлялись по двору, увязая в соломе, словно никто не завоевал Дамаск, словно за воротами, как бывало, шумит мирный базар и по всей вселенной протянулись дороги от этих ворот, а со всей вселенной – к этим воротам.
И как прежде по тем дорогам приходили отовсюду сюда гости, так доныне, доселе доходили сюда вести. Порой даже нельзя было вспомнить, кто донес ту или иную весть, а она уже вот она, тут и, как воробей на ветке, чирикает о том о сем.
Сафар Али, не отходя от ворот своего хана, знал, что незачем стало ходить в Иран: изранен Иран тем же Тимуром и не оправится, не заторгует, доколе топчет его чужой сапог. Незачем и в Индию ходить: не стало дел в Дели, раздеты, как дети, жители Дели. Памятна резня в Хорезме. Пепелища и смрад в искалеченном Ургенче, а, бывало, и там жировал базар.
Остались дороги на Смирну, на Анкару, в города султана Баязета, но воробьи чирикают, будто туда-то и собрался отсюда Тимур и уже Баязет точит сабли для битвы. А Тимур пока ходит, как тигр, вокруг да около дичи, опасаясь выйти на нее с поветерья, ладя застать дичь врасплох.
Выходит, путь караванам на заход солнца – в Миср, на Каир, на Магриб, на далекую Кордову, куда уже, не как неприметные воробьи, а быстрыми громогласными журавлями насквозь над горами, над морями летят отсель вести и трубят о падении Дамаска. О гибели Дамаска летят во все концы вести и трубят не славу Тимура, а горестную беду дамаскинов.
Раздумья и лицезренье страданий не сломили старого перса. От раздумий Сафар Али стал смешлив.
В его хан вошли любознательные проведчики разузнать, как это караван-сарай хоронится от разорения, неизбежного при гибели города.
Сафар Али едва взглянул на спесивых соглядатаев: за свою жизнь насмотревшись на людей, он знал, сколь несовместима спесь с мудростью. Взглянул и беззаботно рассмеялся:
– Прибыли? Приют нужен? Притулиться?
Прибывший медлительно осмотрел перса и царственно отозвался:
– Приглядеться, каков тут хозяин и почему он тут.
– А где же хозяину быть, когда тут всему он хозяин?
– Чьим дозволеньем?
– Пятьдесят лет с дозволенья аллаха.
– А тут нам поставить бы лошадей, да и воинства две сотни.
– Тесновато будет. Нельзя. У нас другие заботы.
– Это какие же? Кто дозволил?
Прибывший смотрел, грозно сощурившись, а юркий переводчик насмешливо пригнулся перед персом.
Сафар Али, тоже очень не спеша, осмотрел их – приметил возрастающую злобу в прищуренных глазах супостата и уже без улыбки вскинул перед соглядатаями потемневшую медяшку, приговаривая:
– Вот она! Вот она!
– А ну-ко, ну-кось! – забывая о достоинстве, засуетился проведчик.
– Гляди! Нет, нет! В руки не дам, из моих рук гляди. Каким караваном занят весь двор, понял?
Запахнувшись в халат, осклабившись без улыбки, проведчик отступился.
– Счастливо вам быть! Не выходить у аллаха из милости. Я понял, понял. Благоденствуйте!..
Они ушли, молча между собой переглядываясь: перед ними раскрылась со своими знаками и угрозной надписью медная пайцза Повелителя Вселенной, Меча Аллаха, с которой везде путь открыт и которая, как оберег, носимый на себе человеком в защиту от порчи, обид и бед, как амулет, заслоняет человека на всем пути. От напастей при переходе застав. От мздоимств, насильств, тягот. С такой пайцзой путник и на постое столь же строго неприкосновенен, как и в пути. Неприкосновенны и двор, где стоит караван, и люди из этого каравана: Повелитель сам, один знает, кому свою пайцзу дать, кого куда посылать, кому доверять.
Едва проведчики ушли, из дальней тихой кельи выглянул серенький, разрумянившийся от горячей похлебки Мулло Камар.
Он поставил на выступ стены опустевшую, еще теплую чашку и, поскрипывая новыми сапожками, отбыл за ворота в ухающий, стонущий, смердящий Дамаск, на тот Прямой Путь, где незадолго перед тем проследовал Повелитель.
Прежде чем вступить во дворец, Тимур со всех сторон осмотрел его снаружи.
Каср Аль Аблак был построен из кирпичей, уложенных четкими рядами ряд белых, ряд красновато-черных, словно опаленных огнем.
Осматривал стены, оконные ниши, карнизы, навесы, где украшением была лишь чистота кладки. Приметил перекрестные решетки в больших нижних окнах, а на верхних – деревянные ставни, чтобы обитательницы дворца могли оттуда смотреть наружу.
Все осмотрел и все приметил, как привык осматривать крепостные стены городов, прежде чем их обложить осадой или брать приступом.
У входа он встал из кресла, опершись на руки слуг, и тяжело, медленно пошел было сам, но в прихожей подозвал одного из воинов охраны. Опираясь ладонью о его плечо, одну за другой осмотрел нижние комнаты.
Спросил, что это за лестница вниз.
– Там подземелья.
– И что там?
– В дальних есть каморки для узников. Там темно.
– Откуда там узники?
Страж ответил не только с готовностью, но и с гордостью:
– Один сидит!
– Кто это?
– По приказу верховного каирского судьи. Один из властителей при султане Фарадже.
– Что это он?
– Пытался разграбить сей дворец.
– Ну, поделом! – одобрил Тимур.
Страж, ободренный, стал словоохотлив:
– С того дня мы его кормим из своего котла.
– Ты вон какой гладкий – видно, котел не пустовал!
– Нас милостивый султан наш Фарадж бен Барбук никогда не морил! От самого Каира сыт!
– А ты Фараджиев? – удивился Тимур, но ладони сплеча не снял.
– Сам я, во имя правды сказать, не из мамлюков. Я с караванами ходил, османец. Однако нынче вроде мамлюка!
Тимуру наскучил страж. Он приказал:
– Караул сдай моей охране. Оружие отдай. Тут станет моя стража.
– Как это – отдай? Я тут один? Нет, нас тут двенадцать караульных при одном десятнике.
– Все двенадцать и сдайте.
– А самим куда? Весь город переломали. Тыщу лет строили, а разом разломали! Наше войско сбежало. Вот-вот уже до Каира добежит. Куда же нам?
Тимур и сам не знал. В плен, в неволю брать уже поздно: кого брать, уже всех взяли.
– Иди, как велено: отдай оружие и зови всех своих и ступайте в мадрасу Аль-Адиб. Там ваш верховный судья. Ибн Халдун. Скажите ему: всех вас я отдал ему.
Двое барласов бережно, словно можно эту ношу расплескать, подняли Тимура по скрипучей лестнице наверх.
Тимур и там осмотрел горницу за горницей. Они ему понравились тишиной, чистотой. Какие-то наивные, смирные комнаты, устланные старинными порыжелыми коврами. В некоторых горницах сильнее, в других слабее пахло гнилым деревом старых досок, пылью, известью, а вместе все это смешалось в нежнейшее благоухание в сухом, спертом, неподвижном воздухе давно закрытого, нежилого дома.
Страж сказал:
– Еще есть место. Книгохранилище. Туда ходят со двора, да и здесь протиснуться можно. Через эту щель.
– И туда заглянем! – весело сказал Тимур. У него давно не было такого ровного, мирного духа, как при этом осмотре.
Потом он удивился, что мамлюк еще здесь, ходит за всеми следом. Но примирился с этим и не прогнал его, словно так и должно быть, чтобы обезоруженный вражеский воин ходил вместе с охраной Повелителя.
Протиснулся через узкую галерейку.
В книгохранилище было тихо. Окна смотрели в сад.
Книги лежали, развалены на полках и на полу, как второпях оставил их Ибн Халдун, вынесши отсюда приглянувшиеся.
– Тут кто-то разбойничал! – заметил Тимур. – И ковров не оставили.
– Сразу видно! – подтвердил Фараджиев воин.
– А что осталось, книги уберите отсюда. Снесите вниз, туда. Мой чтец придет, разберется, нет ли чего такого. Нужного. А тут книг не надо. Тут постель мне стелите. Я тут сам буду.
Сюда, в недавнее книгохранилище, перед вечером явились кадии, улемы и шейхи Дамаска. Священнослужители и ученые обратились к Тимуру, прося выслушать их.
Они столпились внизу у лестницы между двумя грудами вываленных книг, не смея ни к одной прикоснуться.
Этим ученым, молча теснившимся в ожидании, многие из здешних книг были знакомы: ученые бывали вхожи в книгохранилище дворца. Благоговейно, беззвучно ступая босыми ступнями по жестким коврам, они приходили сюда, где каждый находил нужную книгу. Теперь тут без разбору лежали сочинения на разных языках и о разном: понадобился бы долгий труд многих книгочиев и книголюбов, дабы разобраться в книжных темных навалах, тихих, как могильные холмы.
Когда наконец дамаскинов кликнули, они, как и следовало, скинули туфли, прежде чем переступить высокий порог, и, минуя бесценные книги, пошли через сводчатую прихожую.
Они встали перед Повелителем согбенны и босы.
Ковра на каменном полу не оказалось, и холод камней возбуждал дрожь и озноб. Стать же на маленький коврик, постланный перед Тимуром, было боязно, а переступать с ноги на ногу нельзя: тут не на базаре! Так и стояли, борясь с ознобом.
Вступив, они поставили впереди себя Ибн Халдуна, так решительно вытолкнув перед собой, что он чуть не споткнулся.
Все они поклонились.
Тимур удивленно повернулся к одному лишь Ибн Халдуну:
– Вы-то как с ними, учитель?
– А как же, я с ними! – Ибн Халдун сокрушенно развел руками. – О амир! Они, как и я, арабы.
– Разве все арабы одно?
– А как же?
– У каждого племени своя Аравия. Миср – одно, здесь – другое, а Магриб – третье. А там ваша Андалусия – совсем иное. Я знаю. И каждому племени предназначена своя судьба.
– Ваши познания, о амир, поразительны. Есть ли ученые, способные так проницательно расчленить арабский мир! А вы сперва воин, но вместе с тем и ученый. Видно, и в среде ученых вы так же могущественны, как и среди войск!
Тимур задышал чаще, зарумянился от похвал прославленного историка и скромно возразил:
– Я даже не улем.
– Видно, умение читать и истинное знание – не одно и то же. Есть великие знания без чтения и есть чтение, не обогащающее ума!
– Истинно. Истинно! – хором подтвердили дамаскины, уверенные, что похвала есть прямой путь к сердцу завоевателя.
– Вы есть повелитель между учеными и ученый между властелинами! сказал один из улемов.
Этот улем, умудренный годами, знал, что сильнее действует похвала не прямому делу человека, а его тайным склонностям, ибо чаще бывает так, что в повседневном своем деле человек не видит своих достижений, а пристрастие свое считает тем, чем хотел бы всегда заниматься, чем пришлось поступиться из-за козней судьбы.
Этот улем дома учил своих сыновей: «Славьте такие любительские пристрастия человека, и он вас полюбит!»
Растроганный Тимур сказал:
– Если бы арабы собрались вместе, мир покорился бы им, как тогда, когда они несли ислам под знаменем пророка!.. Но если аллах хочет наказать человека, он лишает его разума. Арабы разобщены, ссорятся и враждуют, а тем временем даже ничтожный враг безнаказанно и бесстыдно разрушает их дома.
– Истинно. Истинно! – подтвердили дамаскины, из коих многие полагали, что вот Тимур и есть тот враг, что разрушил их дома.
Но Тимуру такое сопоставление не помыслилось. Он сказал:
– Вы искали меня. Говорите!
– О амир! Мы прибежали к вашему ковру молить о милости.
– Молить следует аллаха. Милостив один он!
Ученейший улем, славный своими знаниями, умом, святостью, возразил:
– О амир! Свидетельствуют: аллах творит земные дела руками своих избранников!
– Истинно. Истинно! – хором подтвердили дамаскины.
Ибн Халдун молчал, отстраняясь, насколько мог, придвинувшись к коленопреклоненным переводчикам, сидевшим на коврике у подножия кресла.
– Говорите! – сказал Тимур.
– О великий амир! Может ли Опора Справедливости, Меч Аллаха дозволить безбожникам бесчинствовать? Может ли он потакать врагам аллаха?
– Где враги аллаха? – насторожился Тимур.
– Завоеватели. Они под священными вашими стягами, под вашим зеленым знаменем, о милостивейший амир, злодействовали здесь!..
– Как? – забеспокоился Тимур.
– Разграбили мечети! Развалили дома улемов и шейхов. И когда святые вставали в воротах своих домов, их убивали. Запросто! Расхватали дочерей и жен наших. Нежных детей!
– Мои воины? – нахмурился Тимур.
– О Повелитель! Они врываются к нам не как воины аллаха, а как степные разбойники, как бич караванов, как саранча на нивы, как потоп в сады долин!
Тимур слушал их, все более хмурясь, отведя взгляд в сторону.
– Я не приказывал этого!
– О Повелитель! Мы знаем, вы приказали взять город, а они взяли наши дома! Случилось, что вы заболели и спали, пока они бесчинствовали. Когда вы проснулись, мы поспешили к вам: заступитесь!
Тимур подтвердил их слова:
– Я заболел и спал.
Он повернулся к одному из своих вельмож, стоявших в стороне:
– Ну, Шах-Малик! Как же теперь? А?
Шах-Малик молчал, уткнув лицо в бороду.
Тимур ловко изобразил гнев. Гнев возрастал.
– Куда вы смотрели при этом?..
– Мы сдерживали, о Повелитель, да не везде поспевали.
– Разрушали мечети! – ужасался Тимур. – А я дозволил только взыскать с арабов, впавших в христианство. Мыслимо ли, чтобы арабы славили Христа?! И с шиитов тоже. Как это – терпеть здесь шиитов? Здесь Дамаск – место халифов! Нельзя. А они – мечети!..
Шах-Малик объяснил:
– Вгорячах. В спешке.
Но среди улемов и шейхов было двое в черных одеждах, двое из служителей гробницы Иоанна Предтечи в мечети халифа Валида. Один из них, выпростав длинные белые пальцы из множества складок своей рясы, вскричал:
– О амир! Арабы пошли ко Христу не из мусульман. Они были христианами еще до Мухаммеда-пророка!
Сдержав себя, он уже тише, но строго пояснил:
– Если б после они стали мусульманами, это были бы вероотступники.
Тимур долгим, неподвижным взглядом разглядел этого спорщика в черной хламиде, в черной суконной шапчонке на волосатой голове и повернулся к Ибн Халдуну:
– Учитель! И эти арабы оставались христианами при пророке нашем? И вы не опровергаете эти дурные слова? Будто слово пророка не смогло пронзить их халаты, озарить душу светом! И вы не опровергаете кощунства?
– О Повелитель! Как может быть кощунством подлинная история? История неприкосновенна, когда она подлинна. Искажение истории – подлый грех, как ложь, как вмешательство в творение аллаха, как убийство беззащитного старца. Как убийство!
Тимур, словно очнувшись, словно только вспомнив, что сидит в Дамаске, заспешил:
– Кто из вас овдовел, каждому я пошлю молодых женщин из пленниц.
– О амир! Это не наши жены!
– Когда возьмете, они будут вашими.
Старший из всех, начетчик и наставник улемов, седенький старец, напомнил:
– Не о женах мы сокрушаемся, когда в руины обращены главнейшие святыни наши.
– Какие? – вздрогнул Тимур.
Его перебил младший из дамаскинов, смуглый, статный, с гордой горбинкой на тонком носу, в кольцеватой лоснящейся черной бороде:
– Но и о женах! Как быть без них?
Но Тимур, спохватившись, забеспокоился о мечетях и повторил:
– Какие?
– Многие. Осквернена и старейшая, халифа Валида, где молились еще Омейяды, халифы наши.
– И она? – удивился Тимур. – Я пошлю туда стражей. Я прикажу починить в ней все, как было.
– Возможно ли это? – усомнился старец. – Все растащили. Всю, как кость, обглодали!
– Я прикажу! – настаивал Тимур. – Она засияет по-прежнему! Даже лучше! Что скажешь, Шах-Малик?
– О Повелитель! Там многое еще цело!
– Сам присмотри, чтоб это исполнить. Как они смели! Такую святыню! Тимур как бы сокрушенно покачал головой.
Старец взметнулся в нестерпимой тоске, вспомнив:
– Коран халифа Османа!
Тимур нахмурился:
– Поспели, пока я спал!
– Святыня! – ужасался старец. – На нем кровь халифа Османа!
– Кровь? – удивился Тимур.
– Зять пророка! Убили, когда он читал Коран!
– Мои воины?
– Нет, Омейяды. Восемьсот лет назад.
– А я там поставлю стражу. Стража охранит.
Другой из улемов спросил:
– А кто охранит наши семьи? Их уже нет. Ни детей, ни жен…
Тимур приказал переводчику:
– Иди, проведи этих десятерых по дворам, куда согнали пленниц. Дай каждому из них по две, каких выберут. А польстятся, дай по три.
Старший наставник улемов опять закачал головой:
– Не надо их нам!
Но смуглый улем, прятавшийся за кудрями лоснящейся бороды, знал, что делать с женщиной, чтобы всю жизнь она от радости хохотала, как от щекотки. Теперь его женщинам не до смеха – они схвачены захватчиками. Он упрямо заспорил с наставником:
– Сперва надо взглянуть. Взглянутся, так почему же?..
– Но там наши же: жены и дочери соседей, согражданки.
– Им будет лучше с нами, чем брести в неволю, где дороги длинны, а жизнь коротка.
– Идите! – отпустил их Тимур. – Ты, Шах-Малик, опеки их. А вы, учитель, останьтесь!
Пятясь, дамаскины ушли. Ибн Халдун с холодного пола не посмел переступить на маленький ковер.
От холода ли, от напряжения ли Ибн Халдуна била мелкая дрожь, заныли зубы, хотя их осталось уже мало.
Тимур дал знак воинам, и те втащили тяжелый свиток плотного ковра.