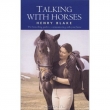Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 68 (всего у книги 87 страниц)
БАЯЗЕТ
Каменистая земля похрустывала под ногами множества лошадей и скота, спустившегося с гор в эту долину.
Стада стекали вниз плотно, как лавина, но медленно уходя отсюда навсегда.
Ехали воины, оберегавшие стада, бежали пастухи-туркмены, длинными посохами возвращая отбившихся и отставших.
Один из туркменов, погнавшись за баловной овцой, подбежал к одинокому дереву, где торговал его знакомый араб.
– Э, араб! – крикнул туркмен. – Торгуешь?
– А ты уходишь с ними?
– Воры. Разбойники. Конокрады! Они захватили наших лошадей и весь наш скот. И они всех убили. Женщин, наших матерей и детей – всех убили. Уходи, араб. Никого не осталось. Некому покупать твои бусы, чашки, нитки. Некому. Конец. И нас убьют, как только стада дойдут.
– Возьми вот щенка. Кому ж теперь он тут останется?
– Давай. Я его туда донесу. Там приживется где-нибудь. Чего ж его тут губить!
– А ты бы сбежал от них!
– Как это? От своей земли? От своего народа?
– Земля запустеет, а народа твоего уже нет.
– И я со всеми! Одному куда ж бежать?
– А то спасался бы. Вон притулись за деревом. Они пройдут, а ты останешься цел.
– Нет. Давай щенка. Я не отойду от народа.
Забрав под мышку щенка, туркмен поспешил вслед за овцой, возвращавшейся к стаду.
Шли с гор табуны, стада, отары. Впереди издалека уже слышен был гул, там своим путем шло войско Тимура, и стадо выходило на тот же путь. Уже стада своими передними гуртами коснулись потока войск и уже вливались в него, а позади отставших еще стлался по земле их запах, еще пахла скотом еле осевшая пыль, день угасал.
И на этот след прошедшего скота, на вытоптанную, на выглоданную землю выбежал араб.
Он спешил, он уходил отсюда, перекинув через плечо суму, куда поместилась вся его торговля – глиняные чашки, деревянные ложки, иголки и нитки.
Он торопился, один перед назревающим заревом заката, не противясь нарастающему страху. Вокруг застилало мраком холмы и горы. Где прежде по вечерам загорались костры и откуда, бывало, доносились мычанье, блеянье, лай собак, теперь было темно, безмолвно – никого не осталось.
Араб бежал, пересекая дороги, где уже некому ходить.
Бежал, боясь оглянуться.
А перед ним, охватывая небо, разгорался закат, обычный в тех местах, золотисто-кровавый, когда надвигаются тучи, светящийся. Так светилась бы кровь, если бы она светилась. А тучи внизу под заревом клубились тяжелые, черные.
Становилось холодно. Сыро. Темно. И он уже не увидел бы гор, если бы оглянулся.
Он не оглянулся.
Впереди, посверкивая на закате остриями пик и рогатыми месяцами бунчуков и знамен, шло слившееся в единый поток войско, а с краю от дороги тем же путем пастухи гнали гурт за гуртом захваченные стада.
Тимур все еще ехал к пристанищу, где ему готовили ужин и постель.
Он уже плохо различал в темноте лицо Шахруха, когда сын говорил ему о стычках и сечах в горах, об упорстве чернобаранных туркменов, о несосчитанных стадах, взятых с гор.
Тимур, никогда не ценивший боевых дел Шахруха, книголюба и начетчика, впервые похвалил его:
– А ты добычлив!
– Ведь я ваш сын, отец!
– Добычлив!
– И ваш ученик. Ученик!
Тимура каким-то теплом согрело это настойчивое сыновнее почтение уже немолодого сына.
Теперь бы и следовало сказать, когда отец так запросто слушает и отвечает, что злодей Кара-Юсуф увел любимый табун Повелителя. Но, видя, как нынче ласков и доверчив к нему отец, Шахрух не решился нарушить этот мир в душе отца. Не решился, промолчал, чтобы потом сказали об этой беде другие люди в иной час.
Но, когда они достигли ночевки и прошли мимо костров к шатрам, поставленным для них в неведомой степи, Шахрух, отойдя в сторону с племянником своим Халиль-Султаном, сказал ему о потере табуна.
Халиль-Султан успел узнать это еще засветло от Шейх-Нур-аддина.
Халиль-Султан сказал:
– Не надо сейчас об этом говорить. Пусть дедушка сперва отдохнет с дороги.
– Пускай отдохнет! – живо согласился Шахрух.
И они разошлись на ночь. Каждый к своему месту.
Но Тимур не заснул.
Это была одна из последних ночей на землях, принадлежащих султану Баязету.
Земли Баязета здесь не исконные, не отчие его земли, а захваченные силой, принадлежащие ему по праву пролитой крови за обладание ими.
И вот Тимур прошел по этим дорогам, взял Сивас, Малатью, наказал жителей за их приверженность Баязету и ждал, что Баязет соберет все свои войска и заступится за свое владение. Тогда один на один они скрестили бы свои клинки, они решили бы спор, кому из них владеть вселенной.
Баязету было дано время собраться и прийти сюда – с начала весны Тимур вошел в Баязетово владение. Ранней весной послал ему первое строгое письмо. Баязет не пришел.
Еще перед походом в Индию Тимур, разорив Багдад и оскорбив мамлюкского султана Баркука, попытался скрестить мечи с кем-нибудь из троих союзников с Баркуком, Баязетом или Бурхан-аддином, который не могуществом своих владений, а прозорливым умом усиливал их союз. Но скрестить мечи с каждым порознь, пока они не успели соединить силы.
Проведчики тогда рассказали Тимуру, что от Баркука к Баязету прибыл посол, привез ему в подарок тяжелые чаши, отлитые из золота, найденного в могилах фараонов, большие бронзовые кувшины с удивительными надчеканами серебром и золотом, редкостных лошадей, сабли дамасской работы, книги, искусно переписанные золотыми чернилами, много всяких диковин и даже жирафов, ручных, как верблюды. И в ответ Баязет послал Баркуку подарки не менее ценные, но, не имея лошадей, равных арабским, или жирафов, не обитавших во владениях османов, он в придачу к драгоценным вещам послал девять юных рабынь, взятых из балканских стран, и девять резвых мальчиков, пойманных на островах в Эгеевом море.
Тимур понял, что союзники держат дружбу между собой и что в битву выйдут вместе. Он понял, что, когда они окажутся вместе, он не сможет их одолеть, и, прервав этот поход, ушел в Индию.
Узнав об этом, Баркук сообщил Баязету:
– Степная хромая лиса кинулась наутек!
Эти слова вскоре знал весь народ, и арабы и османы запомнили это прозвище и смеялись над Хромой Лисой.
Баркук умер. На его место сел ребенок, самонадеянный Фарадж. Бурхан-аддин убит. Его место пусто, а владения его, захваченные Молниеносным Баязетом, ныне покорены Тимуром. Подошло самое время сразиться с каждым порознь – с Баязетом здесь, с мамлюком Фараджем в его стране.
Попытка заманить сюда Баязета, пока все его войска разбросаны по разным краям, не удалась. Наскоро Баязет не пошел, а ждать, пока он надумает принять вызов и явится во всей силе, не годилось Тимуру.
Остановись Тимур здесь в ожидании, Баязет успеет соединить свои силы, успеет и присоединить к ним смелые арабские войска Фараджа.
Не разумно ли теперь, пока Баязет отмалчивается, всей своей силой вторгнуться в его страну и уже не окраинные, новые владения, а все основные в его султанском хозяйстве подчинить себе? Везде поставить надежных людей, а когда тут пыль осядет, спокойно уйти на Китай. Тогда можно не тревожиться ни за эту сторону, ни за Иран, куда некому станет вторгаться и откуда поэтому можно будет всех взять с собой на Китай.
Китай стоял перед Тимуром как главная цель всех его военных замыслов. В Китае некому бороться. Китай достанется ему, как спелый плод, свисающий над головой: кто там чуть тряхнет ветку, тому и достанется этот плод, подобный гранату необъятной величины, набитый, как зернами, неисчислимыми ценностями.
После Китая овладеть всей остальной вселенной станет легче, чем заарканить джейрана на охоте, где отлично мчится, быстрее и выносливей любого джейрана, золотой конь Чакмак.
Пора бы и поохотиться, но хороша ли здесь охота, Тимур еще не узнал.
Баязета заманить сюда не удалось. Может быть, самому туда вторгнуться? Но Баязет хитер. Он опытен. Он умеет биться и побеждать. Он вдруг догадается заманить Тимура, допустить его в глубь страны, а сам той порой соберет свои силы, снимет осаду Константинополя, подзовет конницу, недавно овладевшую Коньей, подойдут десятки тысяч воинов, отдохнувших в Анатолии, в Смирне.
А Тимуровы войска есть и в Иране, и в Мавераннахре, и хотя войско, находящееся здесь, готово к походу, едва ли его хватит для одоления Баязета. Может не хватить. И тогда не останется ни похода на Китай, ни захвата остальной вселенной. Все развалится в битвах с османами.
Нет!
Тимур задул ленивое пламя светильника и накрылся меховым одеялом от ночной свежести.
Утром во всем войске уже знали, что они идут на Халеб.
К Тимуру пришли из его близких людей Худайдада на широко расставленных ногах, похлестывая по сапогу неразлучной плеткой, покряхтывая и похрипывая, как бы устав дышать; Шах-Малик в узком синем халате с неизменной белой чалмой, повязанной туго, но с выпущенным за плечо длинным ее концом; пришли и некоторые из других старейших военачальников послушать решения Повелителя на начинающийся день.
Он твердо сказал:
– Пойдем на Халеб.
Некоторые уже прежде думали, что идут туда. Но Худайдада, зная замысел Повелителя, считал, что надо сворачивать на османов. Он тоже знал, что войска Баязета расставлены на больших расстояниях одно от другого и, если идти быстро, Баязет не успеет их собрать к решительной схватке.
Худайдада ворчливо возразил:
– А Баязету подставить бок! Он и ударит, и одних из нас откинет направо, а других налево.
– Пускай бы! Мы его и зажмем, как жеребца, между коленками.
– Каков-то будет жеребец, а то и скинет нас оземь вместе с коленками.
– Пока что-то он не собирается, а когда соберется помочь арабам Фараджа, мы с ними уже управимся, и останется султан без союзника.
Но Худайдада ворчал:
– С самой весны воинство без отдыха, без покоя. Битва за битвой, а толку мало: тут места не добычливы.
– Усталость пройдет. Мухаммед-Султан идет из Самарканда. Ведет свежее войско. Я велел привезти из индийской добычи серебро, будем всем воинам платить за прежние годы и за три года вперед. Сразу за семь лет рассчитаемся. Повеселеют, усталости не выкажут.
Худайдада, похлестывая сапог плеткой, покорился:
– Рассчитывайся. Может, повеселеют.
В тот же день войска узнали и о предстоящем расчете. И повеселели, и уже готовы были врубаться в любые ряды врагов, лезть на любые стены.
Мудрецы замечали, что завоеватели, разорившие многие города, любят строить богатые здания, наивно полагая, что потомки будут судить о их делах не по разрушениям в чужих краях, а по зданиям, возведенным у себя дома. И там, дома, всегда находятся историки, упоенно славящие созидателя, умалчивая, что разрушил он во сто раз больше, чем выстроил.
Разрушители любят созидать.
В то лето, когда Тимур разорил Сивас, султан Баязет во многих своих городах строился. Кое-где еще строили, а в других местах уже завершили стройки. Поставили мечеть в Эдирне, как назвали прежний Адрианополь, в память павших под Никополем: в той недавней жестокой битве Баязет разгромил христианское воинство, благословленное Римским папой на новый крестовый поход против мусульман. Этой битвой Баязет надолго устрашил рыцарей всей Европы и гордился ею как началом дальнейших побед над неверными, исподволь замышляя новые походы на Запад, когда управится с Константинополем.
Выстроили мечеть в Македонии для обращенных в ислам славян. В Кутахии и в Балахсаре.
Воздвигли большую соборную мечеть в Бурсе и назвали ее прозвищем строителя – Илдырым-джами, что значит – мечеть Молниеносного. Он построил мадрасу, где кроме богословия начали изучать математику, астрономию, историю. Кроме ученейших из своих подданных он пригласил учителями греков и славян из покоренных стран. Но с особой заботой и щедростью строили другую мадрасу в Бурсе – для обучения лекарскому делу по примеру сельджуков, основавших такую же в Сивасе. Теперь около мадрасы строили лечебницу, где будут лечить простых людей. Этой больнице и мадрасе он придал богатые земли на содержание больных и лекарей.
Теперь на высоком месте в Бурсе заканчивали мечеть возле султанского дворца, украшаемую мраморными столбами из римских храмов, разваленных, чтобы взять эти столбы. Свод сводили византийские каменщики, и свод вышел хорош. Но минарет, почти было возведенный, рухнул. Благо, что не на дворец, а в сторону склона, и все сооружение с грохотом скатилось под гору. Теперь, изменив основу и бульшую часть минарета прижав к стене мечети, его возводили снова.
Взяв город Конью, он и туда послал строителей, приказав им построить ханаку, приют дервишей, в память и во славу великого поэта Джелал-аддина Руми, некогда жившего и погребенного в Конье.
Построение мечети в Бурсе султан доверил своему зятю, мужу дочери. Этого зодчего звали Али Шейх Бухари, ибо род его некогда прибыл из Мавераннахра, прибыл еще в те далекие времена, когда в Конью пришли сельджукские султаны из Хорасана, а с ними поэт Джелал-аддин, прозванный Мавлона, и многие знаменитые люди той страны.
Баязет, когда успевал побывать дома, едва возвратившись из похода, отправлялся смотреть на труд строителей.
Во дворце на стороне, обращенной к новостройке, ему устроили из резного дерева навес, где поместилась широкая тахта и еще оставалось место для собеседников.
Отсюда, опершись о перильца, он мог высунуться и говорить со строителями, ободрять или попрекать их.
Тахту застелили перинкой, покрытой желтым шелком с узором из узеньких зеленых листьев. Опираясь о круглые розовые подушки, распахнув голубой легкий халат, он поджал под себя длинные босые ноги, а глубокие красные туфли валялись возле тахты.
На лоб над пустой глазницей – глаз был потерян в битве с сербами спускался бахромчатый край золотисто-белой чалмы.
Он наконец отдыхал после многих отличных побед этого лета. Запад неохотно, битва за битвой, отступал перед натиском Баязета.
Император византийский Мануил странствовал по Европе. Из Франции, отгостив у короля Карла, собирался в Англию к Генриху Четвертому Ланкастеру, о коем в Бурсе известно, что сей король в буйном помешательстве сидит за решеткой, доколе не опомнится. После помещения короля за железную дверь в Англии взяли за обычай всех благородных ворчунов обвинять в помешательстве и запирать до их исцеления – так надежным лордам спокойнее и в государстве тише. И с Мануилом было бы благоразумнее поступить так, а не раскрывать перед ним двери высоких дворцов для бесплодных собеседований: везде Мануил просит помощи у христианских королей против султана Баязета. А перед стенами Константинополя стоят султанские войска, и на азиатском берегу Босфора уже расположился турецкий базар, построены две мечети, и крепкий хан для постоя купцов, и ханака для бродяг мусульманской веры. Баязет сам побывал на том базаре и смотрел на купола Святой Софии, купающиеся в синеве приветливого неба. Стены Константинополя высоки над Босфором, но у них есть и та сторона, где Босфор их не обтекает. Мануил выпрашивает у христиан войска, чтобы поставить на эти стены; золота, чтоб нанять продажных воинов. Но христианские владыки скрывают отказ за улыбками, а щедрость ограничивают подарками, ибо уже пытались сломить Баязета под Никополем и помнят, что оттуда немногие вернулись целы, а Баязет цел и войска его стоят под Константинополем. И с Эгеева моря приходят одна за другой вести, что остров за островом сдаются Баязету. Уже в Средиземное море выходят османские корабли и, прикрываясь черными парусами пиратов, захватывают корабль за кораблем, под каким бы из христианских флагов ни плыли они, везя ценные грузы и людей, пригодных для рабства, ибо шариат никогда не осуждал рабовладения.
Воле Баязета противятся многие беки, по праву наследования владеющие своими княжествами на османской земле. Но Баязет считает себя наследником всей державы сельджуков, какой она была в годы могущества, при султане Кей-Хосрове, задолго до вторжения монголов и крестоносцев. Одного за другим Баязет усмирял беков, и нужно всего несколько лет, чтобы все они, послушные, щедрые, стояли здесь на коленях перед его тахтой, перед его желтой перинкой. Так он взял у беков Караман-оглы Конью со всеми городками, ее окружающими, и поставил туда свое войско, и приказал подновить там мечеть времен сельджуков и могилы султанов в той мечети покрыть прекрасными коврами, а под сводами слева от алтаря, куда поэт Мавлона Джелал-аддин Руми собирал дервишей для радений и чтения стихов, он велел собрать все книги поэта и все барабаны, под которые плясали дервиши во славу аллаха. И, чтоб снова дервиши сходились туда отовсюду, он послал в Конью зодчего построить им ханаку.
С рассвета, едва строители собрались на работу, султан Баязет поднялся от пленительной Оливеры, своей жены, дочери сербского царя Лазаря, и пришел сюда, но в его бороде еще дышали удивительные благовония жены, и голова от них слегка кружилась.
Так сидел Баязет в тот день.
Сидел распахнувшись, даже кушака не повязав, чтобы ничто не стесняло его отдыха.
Высунувшись, султан постукивал по перильцам большим перстнем, украшенным византийской геммой с изображением головы Александра Македонского в шлеме.
Тогда пришли к нему двое сыновей. Из них Сулейман, его старший сын, накануне прискакал из Малатьи. В сече за Малатью он рубился вместе с сыном Мустафы-бея против конницы Халиль-Султана. Сулейман бился без щита и без кольчуги, и в сече ему рассекли плечо.
Военачальники Баязета подослали сына сказать отцу о движении Тимура от Сиваса к Малатье и о том, что, утратив этот город, Баязет оставляет перед Тимуром османские земли открытыми.
– А где они? – спросил Баязет.
– Кто? – не понял Сулейман.
– Те, кто подослал тебя ко мне.
– Они тут, за дверью.
– Позови их всех.
– Всех?
– Да, поговорим.
Сначала вошел великий визирь Ходжи Фируз-паша. Он мало следил за собой. Был сухощав, даже костист, борода клокаста, не подстрижена, не разглажена. Короткий толстый нос закрывал все его синеватое, со впалыми щеками лицо. Глаза полуприкрыты длинноволосыми бровями.
Баязет из-за своей спины выхватил и дал ему круглую подушку, пока черные рабы несли подушки для всех.
Вошел Мустафа-бей, успевший отдохнуть в своей семье: ее Баязет гостеприимно держал в Бурсе, дабы Мустафа-бей вдали отсюда был мыслями здесь.
Пришел второй визирь, Али-паша, прославившийся веселой храбростью под Никополем, где он словно играл среди вражеских мечей и сабель, увлекая за собой то конницу, то пехоту в те узловые места боя, где решалась судьба всей битвы.
Но без боя, дома он был тих, застенчив, молчалив. Только грустно и приветливо улыбался собеседникам.
Все сели на ворсистый ковер, и тут же рабы обложили всех шелковыми и парчовыми подушками.
Недолгое время посидели молча.
Как бы затем, чтобы эта встреча казалась обычной, Баязет перегнулся за перильца. Внизу неподалеку стоял зодчий Али Шейх Бухари. Баязет спросил его:
– Ну как?
– Снизу мы облицуем минарет мрамором, плитами. Ждем, сейчас привезут от каменотесов.
– На здоровье! – ответил Баязет. – Облицовывайте.
Круто поджав под себя босые ноги, султан запахнул халат и спросил Мустафу-бея:
– Как этот степной табунщик брал Сивас?
– За восемнадцать дней. Моя вина, была возможность биться еще несколько дней.
– Если столько сил он потратил на один Сивас, значит, не столь он силен?
– Силен, пока не нарывается на отпор.
– Вот и Малатью взял. Взял за день, но ведь и это ему дорого стоило. Ведь Малатью некому было отстоять. Едва ли твой сын набрал тысячи две воинов.
– Две? Двух у него не было!
– А что он теперь?
– Он здесь. В семье.
Великий визирь сказал:
– Надо бы нам собрать все силы и ударить грязного табунщика. У него с собой не все войско. Таким мы его одолеем.
– Вы тоже так думаете, Али-паша?
– Почти так.
– Нет! – возразил Баязет. – Это ж степняк. Он потопчется там между городами до зимы, а на зиму уйдет в свою берлогу. Пойдет на Токат, выйдет на Кейсарию. Там есть крепкие стены и хорошее войско. Сивас со свежими воинами брал двадцать дней против четырех тысяч, а теперь силы его уже не те, а наших войск в Токате и в Кейсарии намного больше, чем оказалось в Сивасе.
Али-паша согласился:
– Не намного, но больше.
– Ну мы туда пошлем подмогу.
– Можно послать.
– Он хотел бы меня туда заманить, пока надеется на свои силы. Но ведь мы за это время воевали-воевали. Опять воевать? Нет, он потопчется и уйдет.
Великий визирь возразил:
– Может и не уйти. Пойдет на Кейсарию. Там втянется в осаду.
– Вот и хорошо. Нам надо собрать силы, пока есть время, и пойти туда. А нашего союзника Фараджа позовем пойти на него от Халеба. Степняк очутится как волк в облаве: справа и слева мы, а позади его обозы. Бежать ему некуда. Тут ему и конец.
– Фарадж мал, чтобы это решать. А согласятся ли его полководцы?
– Я пошлю к ним. И к Фараджу пошлю послов.
Али-паша:
– Фараджу нужно время на сборы. А есть оно?
Султан Баязет:
– Успеем! Пишите ему письмо.
И сказал Али-паше:
– А в помощь Кейсарии… Нет, я сам пойду в Кейсарию. Только войско из-под Константинополя снимать не надо. Константинополь мы возьмем, куда бы ни сунулся этот грязный табунщик. Если его имя означает – железо, то меня прозвали Молниеносным, а вы знаете, что молния легко расплавляет железо!
Великий визирь улыбнулся. Али-паша покивал головой. Сыновья внимали и запоминали.
– Зачем он сюда явился? Вон, освобождал бы своих сородичей из-под ига китайцев. Шел бы туда. Он давно туда нацелился. А наше дело – завоевывать Европу, неверных обращать в ислам.
Али-паша оживился:
– Золотые слова. У него свое дело. У вас – свое. Так было угодно аллаху, разделившему вселенную между вами.
– Так! – облегченно и весело воскликнул султан. – Соберемся, и пойдем, и наподдадим его от Кейсарии!
Визири ушли.
Мустафу-бея султан задержал.
– Смелы ли они?
– Как дикие звери.
– Но тебя отпустил! Это благородно.
– Так и звери делают: матку сожрут, а дитя оставляют, чтоб мясо нагуляло.
– Ждет, чтоб ты снова перед ним явился?
– А хоть сейчас!
– Пойдешь с нами?
– А как же!
Баязет, отпуская его, не глядя вниз, нашаривал туфли длинными ступнями. Видя, что отец не достает их, сын подвинул ему туфли, а Мустафа-бей достал из-за пояса пайцзу и на ладони протянул Баязету:
– Вот, он дал мне. Отпускная.
Баязет оглядел серебряную дощечку и улыбнулся:
– Под монгольскую подделана. Как у Хулагу-хана чеканена. Табунщик ведь кичится, что восстанавливает государство Чингисхана, в тех пределах. Записался к нему в потомки! Вот и шел бы на Китай, как Чингисхан. Но боится. Нас боится. Мы, думает, все его победы себе назад заберем. Вот и топчется тут. Чингизид! Ха, ха!
– Возьми ее, султан, на память о моем позоре.
– Спасибо. Беру как память о твоей доблести.
Перегнувшись через перильца, он крикнул Али Шейху Бухари:
– Вы тут без меня сумеете ее достроить?
Бухари отозвался:
– Трудно нам, отец. Но постараемся. Вон везут плиты!
Оставшись с сыновьями, Баязет спросил Сулеймана:
– Болит?
– Уже заживает.
– Терпи. Чем просторнее рана, тем быстрей заживает. Царапина дольше саднит. По себе знаю.
– Заживет до Кейсарии.
– Заживет? Мы медлить не будем.
– Заживет!
Заметив, что Иса хочет спросить, но медлит, Баязет улыбнулся:
– Пойдешь и ты.
– Вот это я и хотел…
– Пойдешь.
Султан неодобрительно повертел почетную серебряную пайцзу Тимура, прочитал на ней его имя.
Он пошел в глубину комнат, то затемненных от осеннего солнца, душных, полных своих запахов, то светлых, где через распахнутые окна, развевая занавески, гулял ветер из сада и пахло плодами.
Тонкий большой нос Баязета чутко улавливал все разнообразие запахов, наполняющих вселенную, от тяжких, животных до нежнейшего дуновения женских волос, листьев и раковин.
Султан не знал, что не всем дано такое острое, чуткое обоняние, но радовался этому богатству, как не скрывал радости от хороших песен, от разнообразия оттенков листвы на деревьях и столь же радостного различия в оттенках мастей, когда лошади идут табуном, голубые, бледно-зеленые, розоватые, багряные, синие. Баязет любил свою вселенную, где аллах дал ему столь много места и не мешает то место расширять.
Он зашел в комнату, где на полках от пола до потолка хранились книги. Многие были неповторимы, приняты еще султаном Мурадом из рук поэтов и ученых, заказанные изысканным переписчикам, привезенные из многих стран, изложенные на многих языках.
Сюда приходили ученые, если он верил их знаниям и разрешал здесь читать. Выносить отсюда книги запрещалось: книга, как птица, вырвавшись наружу, не любит возвращаться.
Здесь кропотливыми, опытными, бережливыми стариками хранились летописи, письма и архивы былых султанов и мудрецов, редкостные рисунки многих художников мира.
В этой комнате у окна стояла почерневшая тахта, привезенная из Каира в подарок от мамлюкского султана Баркука, украшенная золотыми ветками и узорами из жемчужин. На ней Баязет любил сидеть, читая книги или слушая чтецов. Сам он не умел читать стихи: во всех искал смысл, а было много стихов, которые красивы лишь потому, что бессмысленны, но звучны.
Баязет рассердился, увидев окно распахнутым, на тахте безмятежно перекликались какие-то понятливые птички, быстро выпорхнувшие, едва он вошел.
Султан приказал закрыть окно и не проветривать книгохранилище.
– Ветер несет пыль, и движение воздуха иссушает книгу.
Здесь и сыновья султана любили читать или беседовать с близкими друзьями. Книги как бы одухотворяли беседу, протекавшую возле них.
Старец книгохранитель спешил показать султану две новокупки – обе книги излагали историю. Одна оказалась тяжела, и старец, гордясь своей находкой, сам раскрыл ее, положив на тахту.
Куплена у караванщика из Сиваса. Ей четыре сотни лет. Писана для сельджукских султанов. Тут вот в конце приписано, когда и кем заказана. Эти события нигде, кроме как здесь, не упомянуты. А великие дела сказаны! Великие дела.
Султану хотелось забраться на тахту, посидеть над этой книгой, но не было времени над ней сидеть.
А старец нес уже другую.
– Сей труд не столь древен, но ведь и в нем большая жизнь описана. На арабском писана, но тоже жизнь! Купил ее у беженцев из Багдада. Уцелела от тимуровского разгрома. О делах халифов. Писал очевидец, и она тоже единственная, другой нигде нет.
Султан полюбовался узором, но заметил, что бумага пропустила насквозь надпись, сделанную на обратной стороне.
– Виновата не бумага, государь, а чернила. Что годилось для пергамента, оказалось ядовито для бумаги.
– Бумага в ту пору была им новинкой.
– Вот и я это хотел сказать.
– История – это наша память. Без памяти нельзя усвоить знание! ответил султан.
Баязет, вспомнив, вынул пайцзу и дал старцу:
– Возьмите и эту надпись. Она от Хромой Лисы.
– Почерк груб, будто палкой по песку писана.
– Как умеют!
Побыв еще у старца, Баязет ушел по лесенке вниз, прошел через двор в женскую обитель, где жила его жена, сербиянка Мария Оливера Деспина.
Дочь убиенного короля Лазаря, сестра нынешнего сербского короля Стефана, она взята была четырнадцатилетней девочкой, десять лет тому назад, и до сих пор ни с одной из четырех жен ему не бывало так легко и просто, как с ней. Она одна не только его любила, но и понимала. Она одна.
Он не забыл начало.
Он был молод, когда вышел на Косово поле в великую битву со славянами. Битва кончилась, когда король Лазарь, рубившийся среди своих войск, пал. Но пал и победитель, отец Баязета, султан Мурад.
Баязет, еще не успевший стать султаном, шел среди павших и увидел тело короля Лазаря. Сербам не на что было положить своего героя. На голой земле постелили простой рушник, и на том рушнике лежал король. Рушник оказался короток. Ноги Лазаря протянулись в траву. Белое длинное лицо, обрамленное гладкой черной бородой, было строго. Один глаз чуть приоткрыт и смотрел на Баязета, прижавшего ладонью надрубленное плечо.
Но молодому Баязету не до короля было, когда неподалеку на тяжелом ковре, пропитавшемся кровью, лежало тело родного отца, еще в утро того дня полное надежд и силы.
Тогда привели королевича Стефана и сохранили ему жизнь.
После битвы Баязету отдали королевну Марию, ему понравилось ее второе имя, Оливера, и так зовет ее до сего дня.
Когда он впервые пришел к ней мужем, она отошла, взяла из ниши кувшинчик и сказала:
– Сперва вымой руки.
– Они чистые! – удивился Баязет.
– На них отцова кровь, и я не дозволю меня трогать, пока не помоешь.
– А что это?
– То есть святая вода от владычицы нашей богородицы. Она одна смоет с тебя кровь.
И он, торопясь, угодил ей и с той поры во всем ей угождал.
Одиннадцатый год он любит ее. Ее одну, хотя от других жен у него родилось много детей. Одних только сыновей семеро.
Оливера встретила султана, сверкая, как огнем, двумя широкими браслетами на крепких, широких запястьях ее бледных рук.
Бриллианты, теснясь один к другому, лишь по краям были обжаты золотым ободком. Не было счета алмазам, собранным на ее запястье. Он ей подарил после победы под Никополем на память о том дне, когда все христианские войска, собравшись под крестом, присланным папой Римским, закованные в латы, с хоругвями, с пением молитв двинулись на него, а он сокрушил их. И крест, и все их хоругви повалились под копыта Баязетовой конницы.
Немногим удалось бежать.
Собрав пленных рыцарей, князей и полководцев, Баязет прошелся перед ними, поставленными в ряд. Заметив, как многие из них дрожат, словно в ознобе, Баязет приказал отобрать из их числа семьдесят самых знатных и прославленных.
Когда тех вывели и они, онемев от ужаса, подошли, султан их спросил:
– Вы кидались на наши копья без страха, доблестно. Зачем же теперь боитесь?
Старший из них поклонился.
– Мы привычны к бою, но плен для нас впервой. Смерть в бою и казнь со связанными руками – разница!
– Разве вы связаны?
– Еще нет. Но перед казнью свяжут.
– Добивать раненых и пленных, оставшихся без оружия, – это не мой обычай. Приберитесь к пиру. Я приглашаю. А отдохнув, поедем на охоту. Каждому будет по десятку собак и по десятку лошадей. А после охоты я дам вам волю. Наберите еще раз войска, и еще раз сразимся. Мне понравилось побеждать вас! Греки прозвали это место Никополем – городом победы. Я готов еще раз подтвердить это название.
Когда они собрались на охоту, каждому привели по десятку гончих. Семьсот отборных собак. И у каждой на ошейнике сверкал драгоценный алмаз.
Так он одарил этих пленных.
После охоты и пира поутру он снова призвал их:
– Разъезжайтесь по своим родинам и готовьте свежее войско. Давайте опять сразимся, чтобы вы тверже запомнили нас в бою.
Старший из них, поклонившись, возразил:
– Нет, милостивый султан! Вы на всю жизнь победили нас. Не ятаганами, а великодушием.
Баязет отпустил их, и они разъехались, уводя с собой собак с их драгоценным украшением. Но добыча и радость в той битве оказались столь велики, что ему хотелось радовать всех своей щедростью, своими подарками.