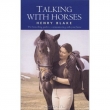Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 87 страниц)
СИНИЙ ДВОРЕЦ
Синий Дворец высился над Самаркандом, поблескивая изразцами, темными, как ночное небо.
За крепкими стенами с башнями по углам теснились десятки строений, дворов, кладовых, мастерских.
На Оружейном дворе, в глубине просторных подвалов, под черными сводами лязгало железо, плавились сплавы, били молоты по прозрачным, как красный воск, брускам.
Пламя горнов то там, то тут отсвечивало кровавыми каплями на грудах готового ковья – наконечников копий, островерхих шлемов, сабельных клинков и кинжалов, ожидавших часа, когда вынесут их из глубокого мрака на белый свет.
Голубой и зеленый чад слоился под сводами и неторопливо уползал наружу через низкие двери; но оружейники не смели выглянуть из-под темных сводов, пока старшина дворцовых ковачей и литейщиков не кликнет их на недолгий отдых, проглотить лепешку с похлебкой да отдышаться в душном воздухе Оружейного двора.
Низкие ниши выходили на тесный двор, обстроенный множеством других ниш, где в глубине, за тяжелыми дверями кладовых и складов, хранились запасы оружия, откованного здесь или свезенного сюда из походов.
В те дни старшины торопили мастеров. Едва ковачи успевали отковаться от одного заказа, как их скликали на новую ковку.
Кладовщикам было приказано пересчитать оружие на складах, пересмотреть старые кладовые. На двор выволакивали груды ржавья. Опытные оружейники перебирали и скользкие свежие сабли, смазанные салом, и тронутые ржавчиной, щербатые, иззубренные мечи.
На эти дни сюда созвали и многих свободных мастеров из городских слобод. Косторезов – вырезать и наклепать рукоятки на поврежденные сабли, обрукоятить новоковые клинки; оружейников – разобрать чужеземное оружие: что годится – обновить, а хлам разобрать на перековку.
Вызвали сюда и кольчужника Назара, туляка.
Он пришел со своим подмастерьем Борисом. Их поместили под навесом, куда и сносили из кольчуг то, что залежалось по дворцовым кладовым.
Кольчуг оказалось немного. Были тут старые, кое-где помятые, а то и пробитые кольчуги. Борис перебирал их и расправлял, а Назар разглядывал их, неторопливо, пристально, одну за другой, будто читал книгу за книгой.
Седые космы Назара перехватывал узкий ремешок, чтобы волосы не лезли в глаза, но косматые брови часто опускались, хмурясь, до самых глаз: он видел пути, пройденные многими из этих молчаливых участниц былых походов, вынутых для похода предстоящего.
– Гляди, Борис, сколько кольчуг наволочено, а цельных не видать.
– С побиенных содраны.
– Вцеле добрый воин в полон не дастся, ежели кольчугой оборонен.
– А ты вон сам их ковать искусен, а в полону живешь.
– Попрекаешь, сынок?
– Не попрек, а спрос: лестна ли человеку неволя, когда может он меч добыть?
– Можем добыть, да не надо.
– Чего это?
Назар широким черным ногтем обскабливал кольцо на одной из кольчуг:
– Смолистая ржа-то.
– А что?
– Небось кровь.
– Чистой тут ни одной не видно.
– Вот, гляди: эта склепана неведомо кем, незнамо когда. Вся излежалась: ей уж в походы не хаживать, а виды она видывала, ратные кличи слыхивала. И гляди – наша она.
– По чем узнал?
– На месте склепки, на каждом конце – будто змеиная головка, – наша старая клепка. Глянь другую – головка длинная, язычком, – то ковали персияне, а может, арабы в Дамаске. Их работу знаю, – на взгляд приятна, да меч ее сечет. А наша круглая клепка мечу не дается, ее только прорубить можно, а чтоб по воину так рубануть, сперва надо, чтоб воин под удар подставился. Клепать надо три, а то и четыре махоньких кольца, одно в одно. Из махоньких кольчиков скуешь, – большим мечом не просечешь. Из больших колец скуешь, – малый меч ее рассечет: в ней отжиму нет, она удар будто лбом принимает. Разумеешь?
– Учи, учи. Слушаю.
– А чего ты хмурый такой?
Круглолицый, узконосый, румяный Борис по нраву своему был застенчив, а чтоб скрыть свою досадную стеснительность, напускал на себя мешковатость, а в разговоре – неразговорчивость. Однако Назар к этому привык, и удивило его какое-то невеселое раздумье Бориса.
– Учи, учи. После спрошу.
– Учись. Кольчуга – оружие дорогое, простому воину она не по плечу. Если какой и добудет ее в бою, со врага совлачит, сам в нее не облачится: к ней разом всяк потянется; кто сильней, кто знатней, тот ею и завладает.
– Учи, учи…
– Вот, гляди, – одинарной выковки. Эта и от стрелы не заслонит, не токмо от копья. Такие в латынских землях, в каменных городах куются. Такие надевают от собственного своего страха, для успокоения, чтоб не боязно было в темную ночь из дому выглянуть, там не то что у нас, – мы вон в одной холстинке через дебри-леса на медведей либо на вепрей хаживаем, на Орду грудь нараспашку – с одним топором выходим. И слава богу, живем.
– В полону-то?
– Это ты да я, а речь – об нашем народе.
– Ты да я, а уйти могли бы: мечи на дорогу достали бы.
– И доставать не надо: понадобятся – возьмем. Да не надо.
– Опять «не надо»! Это как так?
– Глянь-ка на сей двор. Вон всего сколько повытаскали.
– Видать, собираются.
– А куда?
– А кто ж их знает? Не успели воротиться, а уж опять… Каков поп, таков и приход.
– Тут, сынок, приход сам себе подходящего попа нашел, – хром, а неусидчив; сухорук, а драчлив. Им и нужен такой, – они набегут, награбят, выжгут чужое, вытопчут, да и ко двору. А двор-то – вот он. Гляди да приглядывайся: чего воруют, чем торгуют, востро ли мечи наточены да куда поворочены. Я гляну, ты глянешь, а нашего народу тут не так мало: одни торгуют, другие ремесленничают, третьи – в полону. С тем – словом перекинешься, с другим – молчком переглянешься, ан и выйдет, не мало тут нас для такого-то далека. А через нас на Руси хорошо знают, каков народ здешний, каково ему эту горькую чашу пить, каков царь здешний, – чтоб нашему народу от той чаши загодя отстраниться. Потому, сынок, и не тянись за мечом: мы без меча тут сильнее. А с простым людом нам и тут не тесно. Кто нас в слободе обижает? Никто! А ведь со всякими народами тут хлеб-соль делим, почасту над одной бедой слезы льем, без всякого слова друг другу себя высказываем.
– Я на слободу не в обиде.
– Людей распознавай не по языку, а как дома распознал, так и здесь распознай. Земля едина, единым богом сотворена. И все мы – один одному братья; иноязыкого не обижай, а кровного своего не давай в обиду.
Кольчуги из их рук ложились каждая на свое место – ветхие в сторону, рваные – в другую.
– Цельных-то не видать! – посетовал Борис.
– И слава богу: на разбой идут, а себя берегут. Битва – дело святое, когда народ на оборону встает, а когда на разбойное дело сбираются, грех тому, кто им оружье кует.
– Вон, весь подвал гудмя гудит, – куют: наша слобода вся в чаду, куют. Выходит, все мы грех творим?
– Не по доброй воле. Оружье тот им кует, кто им на ковье железо дает; кто на грабеж их шлет, а сам сидит – добычи ждет.
– А мы что же?
Но в это время к ним подошел старшина Оружейного двора.
– Как, почтенные мастера, процветают дела ваши?
– Благодарение за спрос, – цветут, будто розы.
– Они еще пышнее раскроются, когда сии железа снова в поход сгодятся. Надо их поскорей обновить.
– Какие уж тут обновки, – одна худоба.
– И на худой чекмень заплатки ставят да дольше нового носят.
– Носят, да не по праздникам.
– Чекмень новый не к празднику, а на будний день шьют.
– Верно! – согласился Назар и подмигнул Борису: – Им эти походы и впрямь – будний день: шесть дней разбой, день – перебой.
Старшина, не поняв тульской скороговорки Назара, полюбопытствовал:
– Что это говоришь?
– Об этих кольчугах.
– А что?
– Чинить их, говорю, долго.
– Нет, нет, надо скорей. Все оружье велено просмотреть наскоро да выправить быстро.
Борис кивнул Назару:
– А что я говорил?
– То и говорил! – согласился Назар.
Предстояло новыми кольцами заклепать прорехи, пробоины. А ведь не об сук в лесу, не о гвоздь в сарае, а копьями либо мечами, в крови и в сече, прорваны те прорехи, за каждой вслед чья-то жизнь обрывалась.
– Новые выковать легче, чем это рванье склепать! – невесело сказал Назар.
Но как отклонить заказ? В Орде на смерть шли, но зарока не рушили, врага не вооружали. Сюда же зашли по согласью, здесь приходилось принимать заказ.
Когда зной стал спадать, мастеров позвали полдневать.
Из черных утроб подземных кузниц пошли наверх, на свет, щурясь, черные, обгорелые, усталые ковачи, мечевщики, литейщики. Иные из них были медлительны, седы; другие – плечисты, поворотливы. Но никто из них не был ни бодр, ни шустр, ни весел. Многие тяжело закашлялись, глотнув вольного воздуха, хотя и не был тут воздух ни волен, ни свеж, – весь он был иссушен духотой двора, пропылен едкой городской пылью, горек от смрадов, струящихся снизу, из подвалов или со смежных дворов, заслонен от солнца и ветра четырехъярусной высотой Синего Дворца.
Друг за другом выходили наверх мастера со своими выучениками, учениками, подмастерьями; разные люди, разных земель уроженцы. На разных языках говорили они в детстве и росли по-разному. И вот выросли, мастерству обучились, и завладел их мастерством, заграбастал их таланты Хромой Тимур.
Во вражде и в безделье каждый говорит по-своему, в дружбе и в труде люди ищут общего языка: тут, в рабстве, им слова опостылели; молча шли люди через этот смрадный, унылый двор к дощатому настилу, где в тяжелых глиняных чашках ставили им мучную похлебку, накрытую серыми лепешками.
Ели молча, уставясь неподвижными глазами в еду. Не жирно кормил их хозяин, а высчитывал за прокорм хозяйственно: кому мало было одной чашки, давалась другая, но за особый счет. А когда приходило время расчета, оказывалось, получать мастерам нечего, иной раз и должок прирастал. Тимур за работу платил и в долг мастеров кормил; мастерам за работу платил больше, выученикам поменьше, ученикам пропитание давал в долг. И к тому времени, когда возрастал заработок мастера, скапливался у него и долг, и оказывалось: каким мастерством ни владей, сколько изделий ни выделывай, всей жизни не хватит, чтоб из долгов выбиться, чтоб на вольный свет из подвалов Синего Дворца выйти. А этих мастеров числили вольными, их отличали от рабов, евших хозяйский хлеб задаром, но тоже крепко прикованных к тяжелым стенам Синего дворца.
Поодаль от прочих старшина сам сел с кольчужниками, – принимал дорогих мастеров как гостей, угощал за хозяйский счет, занимал разговорами.
Назар издали разглядывал обедавших оружейников.
– Разный у вас народ набран. Каких тут только нет!
Старшина ответил с осуждением:
– Меж ними и язычники есть – идольские изображения на себе носят, и христиане. Государь со всех сторон насобирал: наилучших из лучших. А народ дрянной: одним у нас жарко, другим холодно. Эти вот по оружию мастера; на соседнем дворе кузнецы, а рядом – шорники; с той стороны двор медников да серебряников; за ними, поближе к чистому двору, Золотой двор, – там золотых дел мастера. А по ту сторону от дворца – ткачи, бархаты ткут…
Назар вздохнул:
– Сразу видать, людям не по себе. Жарко ли им, студено ли, а каждый, гляжу, хмур да изнурен.
Старшина сплюнул:
– Такой народ! Сами ж и виноваты: работы вволю, крыша над головой, а злы, неразговорчивы. Чего не хватает? Э, да что на них смотреть!
Борис заметил:
– У нас, в слободе, хоть и разных языков люди, а веселей.
Старшина с досадой отвернулся:
– С теми еще трудней говорить. Возомнили себя свободными! Я бы их…
Борис начал было размышлять:
– Небось у каждого своя земля в памяти. У каждого свой род, свое отечество…
– Род у каждого свой! – согласился старшина. – Вон и наш народ свою память от разных корней ведет. На севере кочевник – от Белого Гуся, «каз ак» зовется; поюжней от них – от Сорока Дев, – «кырк кыз». Другие – от Желтых Коней, – «сар ат», эти больше по городам ютятся, к торговле тянутся, ремеслом кормятся; к западу – Черная Шапка, – «кара калпак», у них овец много и меха хороши. На юге – Белый Гребешок, – «тадж ак», их за то так зовут, что раньше всех белую чалму носить начали, усердный народ, сады растит, а к войне усердия не имеет, в походы ходить ленится; их в горах много. Корень свой у каждого, каждый в свою землю воткнут.
– Вот и я об том же, – согласился Борис. – А эти из своей земли вырваны, вот и чахнут.
– А ну их! Кушайте! – протянул к блюду руку нахмурившийся старшина.
В это время со стороны ворот послышались громкие, смелые голоса, верно, разговаривали какие-то вольные люди, и вслед за собой они провели через весь двор стройного гнедого коня, заседланного столь богато, что народ замер, глядя на затканный золотом алый чепрак, на зеленую мягкую попону, на высокое персидское седло с острой лукой.
Конь прошел, окруженный конюхами, чуть припадая на переднюю ногу.
Тотчас кликнули старосту Конюшего двора:
– Расковался конь.
– Чей это?
– Царевичев.
– Чей, чей?
– Халиль-Султана. В пути расковался.
– Разберемся, кто его ковал!
Коня провели мимо сидевших за едой мастеров, мимо Назара с Борисом, мимо обгорелых литейщиков.
Конь, наступив копытом на чей-то халат, скрылся за воротами Кузнецкого двора, где стояли кузни позади царских конюшен. Туда ушли и встревоженные кузнецы, следом за ними поспешил и оружейный старшина, хотя над этими кузнецами стоял конюшенный староста.
На Оружейном дворе снова затихло на время недолгой обеденной передышки.
Возвращаясь под навес, Назар не торопясь прошел мимо разложенных груд всякого оружия.
Борис снова кивнул:
– Собираются!
– Знамо.
– А куда?
– Про то у царя не дознаешься. Он до последнего часа помалкивает. Бывает, уж и в поход идут, а никак не поймут – куда. Любит навалиться невзначай. По-разбойницки. Как смолоду привык. Подстеречь, да и оглушить из-за камушка. Он ведь тем и начал. Сперва десяток головорезов себе подобрал, по ночам на чужие гурты набегали, овец крали. Тут его пастухи подстерегли, ногу переломили, на правой руке два меньших пальца подсекли, самую руку из плеча вывернули. А он отлежался да опять за свое. Тем и начал. А после к нему пошли приставать разные бездельные гуляки, набралось их уже человек со сто, пошли караваны грабить. Наживу промеж собой делили. Охотников до наживы сбежалось к нему уже с тысячу сабель. Осмелели. На городские базары решились нападать, на караван-сараи. Народ отчаянный, таких добром не угомонишь. Сильные люди стали их к себе на подмогу звать, стали ихнему главарю, нынешнему государю-то, говорить: служи, мол, нам, а мы тебя в князья выведем. Он и поддался. Прежде купцов разорял, а тут сам торговать начал, награбленное добро сбывать. Стал уж не грабить, а оборонять купцов. Они его поняли, поддержали. Уж он начал купцов ублажать, а князей своих усмирять, чтоб торговать не мешали. Древних князей прогнал, на их земли посадил своих разбойников. Чужих купцов грабит, со своими делится. Эти за него, а он за них. На том и поднялся. Со стороны глянешь будто и царь на царстве, а приглядишься, – разбойничья ватага. Какова была, такова и поныне. Было десять человек, стало двести тысяч. Крали пару овец из стада, а нонче уж на царства набегают. А разницы нет: маленькая ли собака, большой ли волкодав, – все одно собака.
– Смело ты говоришь!
– Насмотрелся, сынок, – вот и разглядел это дело.
– Смел он, охоч до войн. Стар, а угомона не знает.
– Доколе никто его не угомонил. По чужим кузням ходит, домой некован приходит. А настанет пора-время, – подкуют.
– Подковать-то некому!
– Найдутся. К нам вон опасается идти.
– Может, и соберется?
– Надо приглядывать. Ведь он был, да осекся. Ведь дороги наши ему известны, до самого Ельца доходил, когда Тохтамыша разбил под Чистополем.
– Значит, знает наши дороги?
– Знает, да помалкивает. Он, прежде чем пойдет куда, сперва всю дорогу насквозь просмотрит. Не зная дорог, никуда не ходит. Ежели до Ельца доходил, – считай, знает дорогу до Новгорода.
– А чего ж вернулся?
– Смекает: Тохтамыша ему б не разбить, не разбей мы Золотой Орды лет за десять до того, на поле Куликовой. Вот и опасается. А нам все ж надо во все глаза глядеть: что за силы у него, куда те силы нацелены. Ты учись тут не столь кольчуги клепать, как эти дела смекать. То первое наше дело. Мы их трогать не станем, нам незачем. А он ежели это умыслит, нам надо своих загодя остеречь. Вот наше первое дело! Затем я и пошел сюда, когда меня сюда позвали.
– Накуем мы ему кольчуг, а он их даст Орде: надевайте, мол, дружки, да порушьте мне Москву белокаменну.
– Орде не даст. Доколе мы сильны, Орда ему не опасна. Ослабеем мы усилится Орда: это ему будет нож в спину. Он умен, он это понимает. Да надо приглядывать, долго ли будет умен: ведь от удач и мудрец дуреет.
– А ну как соберутся они на нас, – как же до своих ту весть довести?
– Я одному скажу, тот – другому. Как кольчугу клепаем, звено за звеном, от колечка к колечку.
– По народу, значит?
– По народу, сынок. Ведь народ наш свою отчизну, как кольчуга, покрывает. Кольцо в кольцо вклепано, – попробуй-ка пробей-ка, коли все кольца в единый покров скованы. Нами она вся окольчужена, тем и сильна на веки веков наша земля.
– А другие земли?
– Мало таких земель, сынок. Исстари у нас одно: чужого не ищем, своего не теряем.
Старшина подошел, еще на ходу делясь новостями:
– Ну вот, ездил Халиль-Султан, царевич, мать встречать. На обратном пути конь его об камень споткнулся, подкова долой, сам еле в седле усидел. Теперь розыск идет: кто коня ковал? Каждый друг на друга валит, никому нет охоты сознаться. Попробуй-ка сознаться, – ого!
– И не сознаться нехорошо: одного виноватого не сыщут, со всех взыщут, всем заодно – беда.
В это время у ворот сверкнул зеленым чекменем высокий быстрый юноша.
Вскакивая на ноги, старшина успел шепнуть с опаской:
– Вот он! Теперь берегись.
Белое лицо, тонкий нос с горбинкой, широко расставленные, по-монгольски узкие, но густо опушенные ресницами глаза; лоб и под чалмой высок, а рот твердо сжат.
Быстро идя через двор, помахивая тяжелой плеткой, в распахнутом чекмене и алом халате, в красных запылившихся сапожках, Халиль-Султан крикнул:
– Эй, староста!
С Кузнецкого двора выбежал к нему на широко расставленных круглых ногах узкоглазый, почти безбородый конюшенный староста и, вытянув вперед растопыренные ладони, приговаривал:
– Не тревожься, царевич! Не тревожься! Я им найду управу. Я их научу царских коней ковать. Я им…
– Молчи, пока тебе не скажут! – остановил его Халиль-Султан.
Староста, оробев, бормотал:
– Ведь, государь, разве сам я ковал?
– Слушай, говорю! Виноватого не искать! Слышал?
И еще староста ничего не успел ответить, Халиль-Султан повернулся на каблуках и, пощелкивая по сапогу плеткой, ушел со двора.
Старшина нерешительно опять присел возле Назара:
– Видали? Вон какой! Изо всей семьи – один этакий: в Индии сам на вражьи копья кидался, а своих воинов берег. Никого напрасно не дает в обиду. А зря: не доведет это до добра, бояться его перестанут. Потом станет каяться, да поздно. До того прост, – если в харчевне остановится кумысу хлебнуть, за кумыс хозяину деньги платит. Не по-царски это: до добра это не доведет.
И старшина, рассерженный Халилем, пошел на Кузнецкий двор послушать тамошние разговоры.
Борис сказал:
– Смел царевич!
– А может, опаслив? – спросил Назар.
И снова они занялись разбором кольчуг.
Узкая каменная лестница внутри толстой стены вела с Оружейного двора во дворец.
Халиль-Султан пошел переодеться после пыльной дороги.
За раскрытой дверью в небольшой зале, обняв друг друга, обменивались первыми словами привета бабушка Сарай-Мульк-ханым и усталая с пути, молчаливая, невеселая царевна Севин-бей, мать Халиля. Поодаль от них стояли Мухаммед-Султан со своей старшей женой, а возле бабушки – Улугбек.
Женщины обнимались, бормоча обычные, как молитвы, вопросы о благополучии в доме, о детях, о дороге; бормотали их, торопясь высказать все надлежащие вопросы, чтобы поскорее посмотреть друг другу в глаза и понять все, что изменилось в каждой за время разлуки.
Халиль не решился в пыльной одежде вступить в нарядную залу бабушки. Он прошел мимо, но приметил: брат Мухаммед-Султан ограничился тем, что сбросил перед дверью чекмень и сапоги и так, босой, в дорожном халате, стоял на бабушкином ковре.
Вскоре Халиль вернулся вымытый, в чистой, светлой шелковой одежде.
Все уселись кружком, но мать на вопросы великой госпожи отвечала коротко, опустив глаза, не поднимая своей печальной головы.
Севин-бей было лет сорок пять, но в ее черных волосах Халиль заметил седину, которой не было прежде.
По ее сдержанным словам, по всем ее напряженным скупым движениям было видно, что не радостные дела привели ее в Самарканд, не на веселье она сюда так неожиданно приехала.
Когда Сарай-Мульк-ханым, по обычаю, спросила ее о муже, о царевиче Мираншахе, Севин-бей, не поднимая глаз, ответила так тихо, что Улугбек даже вытянул шею, чтобы расслышать ее слова:
– По-прежнему нездоров. Третий год, с тех пор как на охоте упал с лошади, нездоров. С головой у него нехорошо.
Великой госпоже не терпелось узнать причину ее приезда; старуха спрашивала то одно, то другое, пытаясь выведать, какое дело привело сюда сноху, но гостья отвечала коротко, подавленная своей печалью.
Сарай-Мульк-ханым спросила:
– Может, сама ты нездорова? Не полечиться ли к нам приехала? У государя есть хорошие лекари.
– С государем мне самой надо поговорить.
Старуха насторожилась:
– О Халиле, что ли?
Халиль-Султан, как и Улугбек, находился на ее попечении по решению деда. Внуков своих он отбирал от их матерей со дня рождения и отдавал на воспитание своим женам. Вмешательство матерей в дела воспитания считалось дерзостью, но, если они хотели что-нибудь спросить о своих сыновьях, спрашивать надлежало у воспитательницы, у бабушки, а не у деда.
Но Севин-бей, чтобы отстранить ревнивую подозрительность великой госпожи, попыталась улыбнуться и погладила ее руку:
– Нет, нет, о своем деле. А что Халиль?
– Жениться вздумал.
– Правда, Халиль? – взглянула мать на царевича.
Халиль-Султан опустил глаза под ее взглядом.
– Я говорил бабушке. Но она пока отмалчивается.
Сарай-Мульк-ханым живо ответила:
– Тебя не было утром. А ответ есть, дедушка хочет сперва посмотреть твою невесту.
– Это не по обычаю! – смело возразил Халиль-Султан.
– Дедушка сам создает обычаи. Как он решит, так люди должны жить! резко поправила бабушка внука.
Старуху раздосадовало и упрямство и непослушание питомца. Ей неловко было, что при своей матери Халиль так несговорчив, так строптив со своей воспитательницей. Но она тотчас доверчиво сказала царевне:
– Он послушен, прилежен. Читать, правда, не любит, но тут уж я ничего не поделаю, это – дело учителей. Каков он в походах, сама знаешь, – весь народ его смелость славит. А с этой невестой никак его не уломаю.
– С какой невестой?
Старуха сказала удивленно и возмущенно:
– Не хочет ни одной, кроме одной!
Мухаммед-Султан засмеялся, повернувшись к Халилю.
Халиль рассердился, но ничем этого не выдал, лишь глаза прищурились, и Севин-бей со щемящей нежностью заметила, как они похожи между собой, ее мальчики. Она улыбнулась, спрашивая старуху:
– И что же? Вы против?
– В нашей семье самим государем порядок установлен – жениться надо на достойных, брать из ханских семей, начиная с меня самой. А Халиль подобрал себе…
Старуха не решилась сказать так прямо, как поутру говорила мужу, – ей не хотелось обижать внука.
Дернув как бы от удивления плечом, она договорила:
– Подобрал себе дочь неизвестного человека.
– Его весь Самарканд знает, весь народ, он ремесленный староста, знаменитый мастер…
– Народ – это еще не Самарканд. Самарканд строим, украшаем, прославляем мы. Мастера делают то, что мы заказываем. И тебе негоже себя ронять.
– Но я хочу, чтобы моей женой была…
Сарай-Мульк-ханым поспешно прервала его:
– Я не спорю. Я тебя выслушала. Я говорила с дедушкой. Я передаю тебе его волю. Он государь, а не я!
– Ладно. Я ее приведу!
– Кстати, и я взгляну, что за сноха у меня будет, – улыбнулась мать.
– Еще неизвестно, будет ли! – сердито возразила великая госпожа.
– А когда? Куда? – спросил Халиль.
– Сегодня. Сюда! – строго ответила бабушка.
– Так скоро?
– Ты же сам торопил меня!
– Успею ли?
– Твое дело.
– Тогда разрешите мне пойти?
– Да, времени остается мало.
Уже встав, Халиль-Султан развел руками, повернувшись к старшему брату:
– Не зря вы сказали: «дурная примета», когда конь у меня споткнулся. А я еще подкову потерял.
И добавил, улыбаясь бабушке:
– Надо б вернуться, а я приехал. И в такой день вы такую задачу мне задали!
– Сам меня торопил, не взыщи! – поежилась Сарай-Мульк-ханым.
– Смелей, Халиль! – снова засмеялся Мухаммед-Султан.
– А я не знал этой приметы! – звонко, с испугом сказал Улугбек.
Это было первое, что он сказал сегодня. Он только внимательно слушал, сидя около бабушки и внимательно вникая в разговоры взрослых.
Его неожиданные слова рассмешили Севин-бей. Впервые она засмеялась и погладила мальчика по плечу.
– Я тебе привезла подарок.
– Спасибо, тетя.
– Будешь беречь?
– Очень!
– Помни обо мне…
И она достала откуда-то из складок пояса небольшой кривой кинжал в сафьяновых ножнах с усыпанной рубинами рукояткой.
– Он меня в дороге хранил; пусть хранит и тебя на твоих дорогах.
В ее словах прозвучало что-то столь горестное, что Улугбек поцеловал ее подарок, прежде чем принялся разглядывать его.
– Какая сталь! – восхитился мальчик.
– Ее привозят арабы из Дамаска. А рукоятку делали мои мастера, азербайджанцы. Они хорошо умеют.
* * *
– Коня перековали! – быстро сказал конюх Халиль-Султану, едва царевич появился у выхода.
– Пускай отдохнет. Подай другого.
И минуту спустя он уже скакал на застоявшемся и оттого баловном, веселом коне.
Ехать самому в дом невесты – это тоже было не по обычаю; этого не допускало и его достоинство. Но мусульманскими обычаями часто пренебрегали в Тимуровом Самарканде: сам Тимур предпочитал монгольские обычаи, и народ, вслед за своим государем, тоже охотно отступал от стеснительных установлений шариата везде, где это не грозило земными карами и неприятностями.
И как мог соблюсти свое достоинство царевич, когда государь велел показать ему невесту сегодня же!
В слободе Халиль-Султан спешился. Отдал своей охране коня и несмело взялся за медный молоток, привешенный к тяжелым чинаровым воротам над низенькой, как лаз, калиткой.
Во двор он вошел, встреченный старым мастером.
Он поговорил со стариком, как всегда, почтительно; внимательно вникая в его работу, поглядел новое изделие и вдруг, сам прервав свои медленные, почтительные слова, заговорил тревожно, нетерпеливо, – настало время говорить прямо:
– Дедушка хочет видеть мою невесту.
– Мою дочку?
– Без этого не дает согласия.
– А даст?
– А вы?
Мастер недолго подумал, потом ответил огорченно:
– Ах, если б не были вы царевичем!
– Ну, как же быть?
– Тогда б мы устроили отличную свадьбу! Я бы не поскупился на хороший плов: ведь не всякий так легко разбирается в моей работе, я бы рад был такому зятю.
– Вашу работу я ценю!
– Я передал бы вам все свое…
Но старик опомнился:
– Как же быть?
И порывисто взялся за рукав царевича:
– Пойдемте прямо к ней!
Он повел Халиль-Султана во внутренний дворик, и жених увидел ее над маленьким водоемом.
Она стояла под старыми деревьями в простой, длинной, ниже колен, белой рубахе, из-под которой до щиколоток спускались желтые шаровары.
Отец подвел жениха к дочери, смущенно говоря:
– Скажите ей сами.
Она поклонилась гостю низко, но не отошла, осталась на своем месте, подпуская его ближе.
Халиль, поклонившись, не отнимая прижатой к сердцу руки, сказал:
– Чтобы ответить мне, дедушка желает видеть тебя.
Ее брови, сросшиеся на переносице, плавно протягивались к вискам, как крылья хищной птицы, парящей на степном раздолье над затаившейся добычей.
И эта птица чуть покачнулась, но тотчас выровнялась, и девушка лишь спросила:
– Когда?
– Сейчас.
– Мне сперва надо одеться.
Отец не сдержал своей тревоги и страха:
– Собирайся же скорей! Соображаешь ты, куда зовут?
– Я успею! – спокойно ответила девушка.
Ее звали Шад-Мульк. Ее имя означало – радостное сокровище. Такое имя давалось как прозвище в царских гаремах, а ей оно досталось при рождении, словно ее трудолюбивый отец предвидел необыкновенную судьбу своей длиннобровой дочки.
Она присела у водоема и, не стесняясь Халиль-Султана, из неуклюжего глиняного кувшина лила на ладонь воду и умывалась.
Халиль нетерпеливо похлестывал плеткой по халату.
Она неторопливо прошла в дом, где ее обступили возбужденные женщины, что-то ей суя в руки – украшения ли, одежды ли, – их сбивчивые, крикливые голоса достигали тесного дворика, где оба – отец невесты и жених – сидели, не находя никаких слов для разговора, лишь временами переглядываясь и вежливо кивая друг другу.
* * *
А в это время Тимур прислал сказать великой госпоже, что желает видеть гостью и всех цариц.
Все встали и пошли к повелителю.
В зале перед дверью Тимура остановились и стоя разговаривали, пока остальные жены повелителя собирались на его приглашенье.
Когда пришла шустрая ханская дочь Тукель-ханым, самая молодая из Тимуровых жен, но вторая по старшинству в гареме, вся зала заблистала алмазами и самоцветами меньшой госпожи. Ее высокую кожаную рогатую шапку унизывали алмазы. Позвякивали ее ожерелья китайского дела, где нежные жемчуга стиснулись в тяжелых золотых ободках. Шуршала обшитая жемчугами по вороту, по обшлагам, по подолу длинная желтая, затканная зеленовато-золотыми драконами тяжелая рубаха; жемчугами обшитый низ шаровар над скованными золотом зелеными шагреневыми туфлями – все сияло на ней, затмевая густо нарумяненные скулы, густо набеленные щеки. И лишь желтые, как у рыси, глаза она ничем не могла украсить, – ничто не приставало к ним: ни радость, ни печаль, ни стыд, ни раздумье.
Она прошла, не приветствуя младших жен.
Туман-ага, которой было около тридцати лет, отданная Тимуру двенадцатилетней девочкой, прожившая с повелителем долгую жизнь, взглянула на эту монгольскую куклу с яростью, затопотала маленькими ногами, но сдержала себя и осталась стоять строго и неподвижно, покосившись на Сарай-Мульк-ханым, доводившуюся ей родной теткой.
Чолпан-Мульк-ага, монголка, дочь бесстрашного Хаджи-бека, ходившая с Тимуром на Золотую Орду и на Иран не в спокойном царском обозе, а вместе с войском, среди опасных невзгод, отвернула в сторону прекрасное, воспетое поэтами лицо и закрыла глаза, чтобы не заплакать от обиды.
А Тукель-ханым прошла мимо них всех и стала рядом с Сарай-Мульк-ханым, сдержанно одной лишь ей поклонявшись.
И всем показалось, что великая госпожа рядом с меньшой госпожой стоит, как нищенка, в своем драгоценном, но строгом одеянье.
Стоя рядом с великой госпожой, Тукель-ханым допустила царевну-гостью поздороваться с собой.