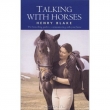Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 87 страниц)
Всю ту ночь снилась лисица.
То мчалась, протянувшись, по жухлой, осенней, поблекшей степи. То ее, беспомощно распластавшуюся, поднимали с земли, а на том месте, оказалось, кишели рыжие муравьи. Но лиса была жива, и ее перекладывали на другое место отдышаться. Он отчетливо видел ее глаз. Красный, подернутый синевой. Этот глаз он видел, даже проснувшись, пока неподвижно лежал, не поднимая головы.
Проснулся Тимур невыспавшийся. Сам не зная, чем недоволен. Может быть, его разбудили слоны, затрубившие на рассвете.
Заседланные лошади, стоявшие, по воинскому обычаю, на приколе неподалеку от юрты, встревоженные ревом слонов, фыркали, били землю копытами. А Тимур, словно поднятый тем ревом к битве, встал.
Вышел наружу. Вдыхал, словно принюхиваясь, холодный сырой ветер, несший рассвет.
Стан просыпался. Там кричали громче, перекликались неприветливо.
Лошади с приколов косились в сторону Повелителя. Натягивали арканы.
Вернувшись к теплому одеялу, Тимур вызвал писца Саида Ахмада Бахши. Звание Бахши было дано его дедам, служившим писцами еще у монгольских ханов – Хулагидов. Из поколения в поколение переходило их умение составлять грамоты и красиво писать.
Подолгу обдумывая каждое слово, Тимур сказал письмо к султану Баязету:
– «Слава аллаху, владыке неба и земли слава!
По воле аллаха, по великой его милости ныне покорились мне все семь климатов, а их повелители и властелины склонили головы под моим ярмом.
Властители самых больших орд не увернулись от меня.
Все богатства и сокровища вселенной в моей руке.
Да будет милостив аллах к смиренному рабу своему, знающему пределы, дарованные ему, ибо я не преступаю их дерзостной стопой.
Всем известно твое высокое происхождение. И человеку такого происхождения не приличествует надменно преступать положенный тебе предел, дабы не рухнуть в бездну бедствий.
Тебе лучше вести себя поскромней, соблюдать меру своей власти.
Нам известны твои войны против христиан. В этих войнах мы не мешали тебе. Мы молили аллаха о даровании мусульманам новых побед над неверными.
Ныне же ты возгордился и отдаешь приказы, превышающие твою власть. Тем навлекаешь ты на себя беду. Не ценишь ты свое благо и спокойствие.
„Не бери пример с шайтана, вздумавшего творить дела, предназначенные другому“.
Запомни эти слова и держи их перед глазами. Не накликай беду на свою голову!»
Писец, дописав, прочитал это вслух.
Тимур кивнул, отпуская писца переписать письмо набело.
Когда в темноте отзвучала первая молитва и весеннее утро лениво поднималось в голубеющем тумане, Тимур вышел на холод и поехал рысцой по стану.
Стан гудел обычным гулом от проснувшегося множества людей. Не приказано было отвлекаться от дел, когда мимо проезжал Повелитель. Барласы охраны, не отставая, следовали за ним, но он ехал чуть впереди, чтобы они не мешали ему смотреть по сторонам. Так было всегда, и в стане дивились бы, если бы долго его не видели. Его поездки по стану – повседневная привычка, ставшая обычаем.
Он приметил много новых юрт, поставленных не в обычных рядах, а обочь рядов, – юрты прибывших на курултай. Юрты, шатры, ковровые кибитки, некогда служившие иранским полководцам, здесь поставлены Тимуровыми военачальниками, прибывшими на курултай из Ирана и прочих завоеванных областей.
Оттого столь обширен вышел этот новый стан, что каждый, прибывая издалека, ехал сюда с охраной, рабами, слугами; порой и рабыни сопровождали военачальников, и мальчики для услуг: ехали не только на совет, а и гостить, радоваться встречам с давними соратниками, с кем много всего всякого испытано и пережито. Для каждой такой встречи заранее что-нибудь было припасено и привезено сюда. Главные же подарки запасены были для Повелителя в честь рождения правнука, о чьем появлении на свет все уже были оповещены во всех концах света. Тимур любил подарки из разных мест, стран и городов, чтобы каждый такой подарок был изделием того места, откуда привезен, свидетельством мастерства тамошнего народа. Порой нелегко было найти такой подарок.
Понимая, что праздники во славу новорожденного не пройдут без больших конных игр, а игры не обходятся без богатых выигрышей, гости привели с собой резвых лошадей, отобранных, выверенных, чтоб не осрамиться на глазах у Повелителя. Таких лошадей привели под глухими длинными попонами, укрывая скакунов не только от холода или сырых ветров, но и от сглаза, ибо от иных завистливых, недобрых глаз не охранят обычные тумары – треугольные ладанки, подвязанные к уздечкам или нагрудникам.
Всему этому нужно удобно разместиться. Бывало, что и коню ставили особую юрту, когда такой конь стоил дороже десятка рабов.
Здесь шума, толчеи, беспорядка оказывалось больше, чем в воинском стане; строгий, размеренный уклад карабахской зимовки здесь нарушался, как на недолгом привале в походе, где так бывало людно и толкучно, когда все оказывались возбуждены случаями и слухами истекшего дня, недавней битвы или стычки.
Тимур проехал и здесь. Здесь, случалось, не все и не сразу его узнавали, а приметив, кидались либо укрыться, либо упасть с поклоном.
Он, проезжая, приглядывался, прислушивался к тому, новому стану, ожидая, пока наступит тот день, когда все здесь уляжется, притихнет, и, значит, люди, сюда съехавшиеся, успокоились и могут не только ликовать и праздновать, но и размышлять.
Все эти дни прибывшие являлись поздравлять Тимура, и на ковре, принимая подношения, порой садился сам Повелитель. Тогда поздравители, ревниво волнуясь, изловчались, дабы превзойти друг друга в богатстве и необычайности даров. Тимуру их ревность нравилась.
Уже прежде проезжал через их стан Тимур, но в этот раз он наконец уловил то затишье, когда, наговорившись и назабавлявшись, прибывшие могут спокойно сесть на совет в том издавна установленном порядке, какой соблюдал у себя Тимур.
Нигде не было юрты, в которой поместилось бы столько людей, сколько позвано на этот совет.
Неподалеку от юрты Повелителя под открытым небом по траве, смешанной со снегом, расстелили большие плотные ковры, поверх ковров – стеганые длинные подстилки.
Среди коврового поля поставили трон Повелителя. Трон тоже покрыли стеганым одеяльцем и обложили подушками, чтобы Повелитель мог сидеть, поджав под себя ногу, и опершись о подушки. Это было место курултая.
Клубились серые облака, а в редких просветах уже проглядывала весенняя бирюза.
Порядок, издавна перенятый Тимуром от монгольских ханов, строго определял место каждого перед лицом Повелителя.
Все должны были расположиться вокруг трона, как сияние, как нимб вокруг луны.
Потомки пророка, судьи, ученые, богословы, старцы, вельможи помещались справа.
Военачальники, амиры, ханы, десятитысячники, тысячники, сотники, десятники, соблюдая старшинство, садились слева.
Диванбеги, председатели совета, и визири – против трона, а у них за спиной – правители областей и знать.
Избранные воины, за отвагу получившие звание бахадуров, богатырей, и другие отличившиеся в битвах, прославленные подвигами садились позади трона за правым плечом Повелителя.
Военачальники конницы – позади трона за левым плечом.
Военачальник передовых войск – перед троном.
Старейшина приставов становился напротив трона у входа на курултай.
Люди, прибывшие в поисках правосудия, помещались на левой стороне позади участников курултая.
Воины и слуги стояли на тех местах, куда поставлены, и не смели ни менять, ни покидать предуказанное место.
Четверо придворных, поставленных по одному на каждой из сторон, строго следили за порядком на своей стороне – справа, слева, впереди, позади трона.
В тот день за спиной Тимура сели его сыновья – Шахрух и покаянный Мираншах. Сели внуки – Халиль-Султан, Абу-Бекр, рожденные от Мираншаха, и Султан-Хусейн, рожденный от Тимуровой дочери. Сел чингизид, Султан-Махмуд-хан, от имени которого Тимур чеканил деньги. Хан, молодой, коренастый, краснощекий, удобно поджав ноги, пригнулся, посапывая, и казался безучастным ко всему, что делается вокруг. Временами Тимур прикидывался лишь послушным вассалом этого хана, будто не сам решает дела, выполняет указания этого Султан-Махмуд-хана. Справа от Тимура сидел Шах-Малик, хранитель печатей Повелителя, его визирь.
Шах-Малик вставал и выходил вперед, когда в начале курултая награждались военачальники и простые воины, отличившиеся в битвах и походах минувшего года.
Радующемуся, гордящемуся, порой тяжело израненному герою Шах-Малик, по слову Повелителя, вручал копье, увенчанное знаком власти, или бунчук, или значок, означающий новое звание воина и новое жалованье, и отводил героя под приветственные клики всего курултая на новое место, где отныне ему полагалось сидеть на курултаях, на великих советах Повелителя.
С пестрыми, издалека заметными наградами, в праздничных дорогих халатах, накинутых на них Шах-Маликом, награжденные, пошатываясь, спотыкаясь, смущенные, пробирались к новому месту на ковре, и этот краткий путь был им труднее, чем длинная дорога сквозь битвы и вражеские ряды, где аллах вложил в их сердце отвагу и пощадил их жизнь.
Когда отшумели награждения, поздравления и приветственные слова, военачальники и вельможи заговорили о воинских делах.
Говорить начали младшие, чтобы мысли и мнения старших не смущали их. От младших Тимур часто слышал более смелые, менее осторожные слова. Теперь они жаловались на недостачи в чем-либо и сообщали об удачах в их сотнях или отрядах.
После говорили старшие, из коих многие побывали во всех походах Повелителя, были отмечены его милостями.
Богослов и кадий Ходжа Абду-Джаббар встал, и сидевшие с ним улемы тоже поднялись и встали рядом с ним. Стоя среди улемов и вопросительно, как бы заблаговременно испрашивая их согласия со своими еще не сказанными словами, Ходжа Абду-Джаббар назидательно сказал:
– О милостивый амир! Все мы обогащены твоими мудрыми мыслями, и аллах избрал тебя вершить его волю. Будет ли исполнением его воли, если мы, тюрки и мусульмане, поднимем меч на тюрок и мусульман? Доселе мы сокрушали твердыни безбожников, язычников, неверных. Ныне же всему свету ведомо: султан Баязет, следуя по стопам своего покойного отца – султана Мурада, пронзает своим мечом сердца неверных. Ныне он готовится сокрушить заветную их твердыню Константинополь. Угодно ли аллаху, чтобы мы помешали тому? Не затеваем ли мы войну не священную, а братоубийственную? Как это, пойти тюркам на тюрок, суннитам на суннитов, истинным мусульманам на истинных мусульман? О милостивый амир, ничто, как лишь благочестивые заботы тревожат меня. Аминь.
С поклоном он сел.
Из давних сподвижников Тимура встал Худайдада. Следом за ним встали самые испытанные, самые опытные соратники Повелителя, боевые друзья Худайдады.
Встав, они прижали руки к груди, выражая покорность, упав на колени, просили внять им.
Разведя свои узкие старые ладони, стертые рукоятками сабель, Худайдада сказал:
– Ты, амир, задумал новый большой поход. Собираешься на новую войну. Мы это видим. Видим и думаем: куда? На кого? Видим твоих врагов. Не было того, чтоб твои враги не были нам врагами. Однако…
Худайдада повернул голову к своим ровесникам, стоявшим на коленях справа и слева от него.
Тимур смотрел на эту бритую голову, с которой свисала седая воинская коса.
– Однако, амир, войскам не просто далась Индия. Оттуда, из Индии, пришли, а отдышаться в Самарканде не поспели. Не отдышавшись, опять пришлось идти. Надо так надо. Пошли. А легко ли далось это, карабкаться по горам Грузии, пока угомонили грузин. Измыкались все между камнями Армении. Но армянам и грузинам был объявлен газават, священная война. Усмирить их следовало. Иначе как было быть? Священная, без пощады для неверных. Но и нам там легко ли с горы на гору перелезать? Так нарубились, поныне плечи болят. У нас половина воинов изранена, изломана. Ходят – задыхаются, никак не отдышатся. С такими идти в новый поход сил нет. И лошадей не стало хватать. И вот мы думали-думали и видим: пойдешь ли на Багдад, на Дамаск, там войско у египетского султана стоит свежее, молодое, горячее. На Баязета ли пойдешь, у того султана тоже отдохнувшие, свежие воины, и у него их больше, чем у нас. Мы тоже слушали многих людей, что приходят оттуда. Наши войска против тех не выстоят. Не устоят. Наше слово: отложи поход на два года. Дай всем своим воинам отдохнуть. Соедини тех, что нынче стоят в Иране, с нами. Собери свою орду воедино, а тогда со свежей силой мы за тобой, куда скажешь, пойдем; кого укажешь, победим. Таково наше слово.
Это слово старейших и знатнейших на великом совете. Вслед за ними некому стало говорить.
Тимур заметил смущение и раздумье на лицах у многих окружавших трон. Понял, что многие согласны со словами старейших. Молча приглядываясь, замечал, что число этих, одобряющих Худайдаду, возрастает.
Слово было за ним, но он медлил.
Тогда он ли дал знак, аллаху ли было так угодно, но на тропе, проходившей неподалеку от ковров, вдруг появилось все могучее ужасающее стадо слонов.
Они надвигались, важно раскачиваясь, но в строгом порядке, как это было указано хилыми, зябкими индусами, неподвижно восседавшими над головами слонов.
Один за другим все они сурово проходили мимо, а некоторые, проходя, протягивали хоботы к трону Повелителя, как бы присягая ему. Все притихли, глядя вслед слонам.
Подождав, пока слоны удалятся, Тимур повернулся прямо к Худайдаде. Глядя в упор в его плоское, едва прикрытое редкими кудряшками бороды большое голое лицо, сказал:
– Испугались превосходства в числе у Баязета? А разве я побеждал числом, а не воинским разумом? Разве не против сильнейших ходили вы и побеждали? Где же ваша отвага и где ваша сила? Бывало, мы не спали неделями, чтоб напасть на врага раньше, чем он нас ждал. А вы советуете мне поступить так, как поступили те, кого мы побеждали. Мы их побеждали потому, что они отдыхали, теряя воинское время. Они искали удобств, а мы пренебрегали удобствами. Я не узнаю вас. Вы перестали верить в свою силу? Но ведь самое малое сомнение в своей силе всегда и всех ведет к гибели. Вера в себя приносит победу в самый последний час, если эта вера крепка до последнего часа. Я спрашиваю еще раз: пойдете? Или будете ждать, пока враг ослабеет. А он почему ослабеет, если мы его не разгромим? Он тоже накопит силы, пока вы два года проваляетесь на коврах. А?
Никто ничего не решился ему сказать. Он дернул головой, отчего его крашеная косица откатилась на затылок, и громко крикнул:
– То-то!
Потом тише, примирительно, словно согласившись с ними, сказал:
– Из Ирана наших нам ждать некогда. Сами управимся. Собирайтесь.
Видя завершение курултая, от мулл встал Ходжа Абду-Джаббар. Подняв к небу взгляд тяжелых неповоротливых глаз, он прочитал молитву, испрашивая милость божию и милосердие на всех ныне предстоящих и молящихся.
Ходжа Абду-Джаббар возгласил молитву нараспев и высоким голосом. Она звучала, как стихи, как касыда.
При словах молитвы Тимур встал на колени, и все его военачальники, вельможи, беки и ханы, все властительнейшие люди необозримой страны поспешно упали на колени.
Тимур, не вникая в слова молитвы, привычно уткнулся лицом в землю. И все люди, шепча молитву, набожно и самозабвенно уткнулись в землю лицом.
Раньше других подняв голову, Тимур увидел на всем пространстве распростертых своих соратников, павших ниц по его знаку, и охвачен был сознанием своей власти и снова уткнулся в землю лицом, уже не для молитвы, а чтобы скрыть ликование от избытка своей силы, своей власти.
Глава VКАРАВАН
Величественный, многолюдный караван Мухаммед-Султана шел через пустыни, через степи, где из века в век, из тысячелетия в тысячелетие мерцала бессменная своя жизнь. Шел и проходил, как проплывают по земле тени облаков.
Изначальная, неприметная, безмолвная жизнь мерцала вокруг, как мерцает песок при свете луны или солнца, жизнь, распростершаяся во всю ширь необозримого простора: быстры пробеги ящериц; мгновенны, как полет стрелы, рывки змеи, тяжки движения черепах; бессчетны там и тут взлеты и перелеты птичьих стай, то возникавших над грядами песков, над весенней порослью, то опять приникавших к земле, словно они только померещились.
Позвякивали колокольцы. Беззвучно вышагивали верблюды. Всхрапывали лошади. Порой кто-то затягивал песню или ударял по струнам.
И все это проходило, а степная жизнь длилась, трепетала, вспархивала, жестокая и справедливая, однообразная и никогда не повторяющаяся. Проходил мимо безучастный ко всей этой жизни большой караван Мухаммед-Султана, проходил, пронося мимо свою тоже нелегкую и непростую жизнь.
То оставались позади зыбкие, неверные, как призраки, песчаные барханы пустынь, а впереди растекались во все стороны зеленью и голубизной весенние поросли степных трав, поднимались деревья над трепетным, как птица, ручейком, выглядывала из-за холмов или из-за деревьев стена селенья, притаившегося, как пугливый джейран. То, вдруг поредев, оставались позади травы, а впереди вновь протягивались пески, пески.
От колодца к колодцу, от стоянки к стоянке шел караван.
То через ночь, следуя за проводниками, когда те, возвышаясь на поджарых конях, тонких, как натянутые струны, заслоняя звезды большими папахами, молча поглядывая в путеводные письмена созвездий, безучастно и одиноко ехали впереди.
То по утренней прохладе, когда алое золото света приподнимает из тусклой мглы каждую складку гор, каждую морщинку земли, каждый холм в стороне от дороги, барханы, курганы, руины.
Среди песков безмолвные, обветренные, размытые зимними ливнями горбятся, как прилегшие верблюды, груды былых городов, где за тысячу лет до того отзвенели арфы певиц, боевые клики кушанов, где за пять столетий до того отблистало золото в венцах Саманидов, рухнули их расписные дворцы, а из разграбленных сокровищниц рассыпались, смешались с песком, почернели деньги – фельсы и дирхемы, – освященные словами молитв, вчеканенных в медь и серебро вместе с именами халифов и властелинов. Сурки стали властелинами былых городов, и караван проходил мимо. Мимо через пустыню, где на утренней заре розовеют, распластавшись, обветренные гряды песков, словно тысячи обнаженных красавиц, еще усталых от ночных забав, медлят очнуться на своих ложах, проходил, торопясь к дневной стоянке, к колодцу, чтобы утолить жажду и обрести покой, большой караван Мухаммед-Султана.
Верблюды, тянувшиеся друг за другом, войско, сопровождавшее царевичей, а где-то тут и сами царевичи, и слуги их, и охрана, и купцы, и кони под вьюками, и товары, запасенные купцами, и прикрытые пестрым тряпьем корзины, где везли женщин – невольниц и наложниц, и обернутые кошмами тюки с оружием, и желтые тыквы, и черные бурдюки с водой, и молодые барашки, привьюченные к седлам. И псы, сурово и разумно бредшие сбоку от каравана или, лениво и безучастно, вслед за верблюдами.
Все это проходило, внимая мерному, как биение сердец, перезвону колокольцев, негромкому и грустному, как перезвоны струн, очнувшихся под медлительными пальцами, когда певец, еще не запев, уже вникает в горестный смысл предстоящей песни.
Когда шли ночью, вокруг расстилалась тьма, казавшаяся тем непрогляднее и опасней, чем ярче поблескивало звездами беспредельное небо. И небо казалось тем беспредельнее, чем шире растекалась тьма по земле.
Уже много дней шел караван.
Одежда путников пропылилась, пропиталась песком и потом. Тело зудело и ныло. Как ни прикрывали лица краями тканей, спущенных с чалм, как ни надвигали на лоб войлочные колпаки, как ни нахлобучивали до самых глаз лохматые шапки, кожа на лицах шелушилась от ветров и суховеев, глаза воспалялись и слезились, едва выглядывая из-под опухших век. И стало тут уже нелегко отличать воинов от царевичей, слуг от купцов, кто тут военачальник, а кто бесправный раб.
Станом становились либо возле колодцев, где земля вокруг была вытоптана, загажена скотом, запятнана золой очагов. Либо за надежными стенами рабата, чисто подметенного, где проезжих уже ждали, где можно было сменить ослабевших лошадей или верблюдов, где можно было безбоязненно отоспаться, напиться свежей воды, наесться пропеченного мяса, наговориться со встречными путниками.
Но и отсюда, едва под вечер спадал зной, снова вставали, складывались, вьючились и выходили на дорогу, еще душную, не остывшую от дневного зноя. И уходили, не оглядываясь ни на верблюдов, ни на лошадей, оставленных в обмен на свежих, ни на людей, обессилевших или заболевших. Лишь псы бессменно шли весь путь с людьми вместе.
Уходили навстречу прохладе, которую сулила ночь, и вскоре погружались во тьму, встречавшую их и густевшую с каждым шагом. В этой тьме справа и слева от дороги опять сутулились какие-то холмы или большие барханы, горы или руины.
В неделю раз, а то и реже караван доходил до больших рабатов, обстроенных селеньями, обросших садами, окруженных огородами, где текли ручьи, где в кувшинах хватало воды, а в очагах топлива.
Время от времени с нетерпением, с вожделением входили в города погулять по базарам, понежиться в жарких банях или украдкой уйти к услужливым хозяевам укромных караван-сараев, где гостей тешили покорные и шаловливые невольницы. А тем, кто предпочитал горячую лепешку, густую похлебку в тяжелой глиняной чашке, душистую зелень на сочных кусках жареного мяса, тем было милее в харчевнях среди чинных бесед. Иные же шли отдыхать к водоемам под сень чинар, где у прохладной воды, развалившись на полосатых паласах или почтительно притаившись в сторонке, слушали славных хорезмийских певцов, бухарских дойристов или мечтательных ферганцев, оживлявших струны. А многие любили слушать словоохотливых чтецов или сказителей древних историй, где царственная поступь великих преданий сменялась приглушенным смехом над бесстыдной перебранкой ненасытных любовников, ибо нет в жизни бессменного величия и на смену любым утехам приходит раздумье.
Каждый по себе искал городских утех, от коих каждый, захлебываясь, спешил глотнуть хоть глоток, каждый из сотен путников, сопутствующих Мухаммед-Султану, направляющемуся к деду, к Повелителю Вселенной, в невиданные дальние страны, в пределы царства Рум, где за крутизнами незнаемых гор протянулись берега невиданных морей, где в непочатых городах скоплены соблазнительные сокровища.
В городах застаивались и на день, и дольше. Не только прохлаждались и тешились, но и запасались припасами, штопали и латали одежду, чинили сбрую и всякое дорожное снаряженье, пока не наступал срок. И тогда, переждав часы зноя, к вечеру снова поднимались в длинный, долгий, извилистый путь.
А пока вьючили и приторачивали поклажу, от караванного головы, а то и от самого царевича отправлялись гонцы.
Засучив рукава, подоткнув халаты, они на резвых конях кидались вперед, неся весть о караване, письма или указы правителям предстоящих городов, старостам рабатов, хозяевам постоялых дворов. Иные же отправлялись и дальше – туда, где за песками, за реками, за дальними горами стоял стан самого Повелителя.
В отряде личных царских гонцов, носивших на шапке лисий хвост или красную косицу, ехал с караваном и гонец Айяр. До поры до времени Мухаммед-Султан держал таких гонцов про запас, наготове, пока не понадобится послать вперед не только письма, но и такое, что нужно передать лишь на словах.
Много раз случалось Айяру ездить этой дорогой. Но все здесь виделось теперь иным, чем бывало, когда он успевал лишь поглядывать на все это со скачущего коня.
Теперь впервые Айяр проезжал здесь столь медлительно, без спеха, смотрел во все стороны, разглядывал всякую мелочь.
Порой из тьмы возникали руины, стены зданий или отроги гор, для остальных в караване непонятные, как ночные видения, и только Айяр мог припомнить весь их дневной облик – эта тьма была для него полна обликов и очертаний, озаренных светом памяти.
И однажды на утренней заре, торопясь до зноя достичь Рабат-Астана, караван прошел через покинутое людьми зимовье, мимо мазанок с осевшими кровлями, мимо стен, изрытых трещинами. В канаве ветер шевелил шерсть на какой-то падали, да в чахлой траве желтели глиняные черепки.
Кровь прилила к сердцу Айяра. Горечь тоски резнула по глазам до слез. Заныла обида, какую никакими словами не выскажешь, потому что и сам ее не понимаешь: на кого, на что обида? А как выскажешь то, чего сам не поймешь? Он только поправил привычно ладонью свою жиденькую бороденку, чтобы стереть с лица, заслонить и от людей, и от самого себя досаду и тоску.
Мимо той стены так близко, что можно было, вытянув руку, коснуться ладонью, проехал Айяр, мимо той самой стены, где некогда Анарбай выхватил себе жену из толпы пленных. Тут еще в позапрошлую зиму жила рябоватая хромоватая девушка, милее которой не было у Айяра никого на земле. Девушка, для которой в переметном мешке Айяра в шелковом лоскутке хранился драгоценный подарок. Однажды он вез его ей. Но было драгоценней иранского браслета, искристых самоцветных камней, что вез он ей самого себя. А когда привез к этой стене, нашел тут лишь клок кошмы на пороге да разбитый кувшин возле обвалившегося очага.
И некого было спросить о дороге, по которой она ушла, лишь пустая степь разлеглась во все стороны да вокруг безмолвствовали такие же оплывшие безлюдные мазанки. Так и остался подарок в неразвернутом лоскуте.
С той поры возит и возит свой дар Айяр из стороны в сторону мимо пустой стены нежилого зимовья.
Тут Айяра оповестили, что в Рабат-Астане, как только дойдут туда, его потребует к себе Мухаммед-Султан: будь, мол, наготове, лихой гонец, кончается твое шествие в караване, открывается тебе горячая дорога, где надо так поскакать, словно под копытами огонь и, чуть промешкаешь, сожжешь копыта.
Мухаммед-Султан, сидя в седле и поддаваясь бодрому шагу коня, сочинял бодрое послание к деду, где, оповестив о благополучном пути каравана, выспросит указаний на остатний путь, а изустно передаст через гонца несколько слов в похвалу своей распорядительности, послушанию и несколько слов порицания про ослушника Искандера, влекомого среди верблюдов обоза на расправу.
Бодро, в шаг коню, повторил, чтоб не позабыть, снова и снова те слова, которые велит написать, когда позовет писца, и те, короткие и твердые, которые скажет гонцу для изустного пересказа.