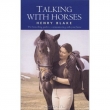Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 69 (всего у книги 87 страниц)
Оттуда он привез своей Оливере эти браслеты, чтобы и она радовалась победе под Никополем.
Она всегда надевала эти браслеты, когда он приходил к ней среди дня: ибо не к женщине, а к другу приходил он к ней среди дня. Она стояла перед ним, закинув за спину струи золотых волос, увенчанных голубой бархатной шапочкой, широколобая, широкобедрая, плотная, глядя ему в глаза глазами теплой голубизны, какой на древних греческих эмалях изображалось небо.
Он сказал ей, что уйдет в новый поход.
– Поучу табунщика, как надо сражаться.
Она забеспокоилась, но такова судьба жен, провожающих мужей в битву:
– Разве без тебя не управятся?
– Нет. Он хотел меня выманить туда, а я ждал, чтобы он сам сюда двинулся, здесь мы накрыли бы его. А он там толчется. Сюда прийти боится: оглядчив! А чтобы он не подумал, будто я боюсь, там дам ему урок боя.
– Да он и не оценит.
– Я освобожусь от него. Буду свободней для покорения неверных.
Ей хотелось, чтобы всю эту осень после многих битв и походов он провел с ней. Но сломить его волю, когда он спешил на врага, она не умела.
Чтобы развлечь его, она взяла тар. Подзванивая себе струнами, она спела турецкую песню «Позабыл ты меня». Он любил эту песню, и, случалось, у него навертывалась слеза, когда он ее слушал.
Ей не хотелось звать рабынь, чтобы они ей играли, а она плясала перед султаном.
Так они сидели вдвоем, пока не наступил вечер.
* * *
За год до того Баязет занял земли, которыми прежде владел Бурхан-аддин. Маленький осиротевший мамлюкский султан Фарадж послал к Баязету посольство с подарками и письмом, где спрашивал, зачем Баязет занял земли, считавшиеся мамлюкскими, ибо Бурхан-аддин был не только другом Фараджева отца, но и данником Баркука. Он ждал, что Баязет возвратит захваченный край и такие города, как Малатья, и предлагал восстановить союз, существовавший между Баркуком и султаном Баязетом.
Баязет зарился, управившись с Византией, взяв Константинополь, повести освободившиеся войска на мамлюков и, пока Фарадж еще мал и неопытен, водрузить свое османское знамя над великими городами мамлюков.
Баязет одарил Фараджева посла, отправил Фараджу щедрые подарки, но на письмо не отозвался. Отмолчался.
Теперь, когда приход Тимура раздосадовал Баязета, султан прислушался к советам великого визиря и велел в письме предложить Фараджу союз и дружбу, какая была прежде, когда жил Баркук.
Один из владетельных беков, Тадж-аддин Оглу Ахмет, повез в Каир это письмо и подарки.
Султан Баязет повел войско на Кейсарию.
Войско шло погожими осенними днями, когда на полях собирали урожай.
Земледельцы, завидев на дороге зеленое знамя султана и самого Баязета под тем знаменем, сбегались к дороге, падали на колени, призывая милость аллаха к делам султана.
По пути он узнал, что войско Тимура уже прошло далеко за Малатью.
Баязет, с каждым днем ускоряя движение своих войск, поспешил в Токат, в небольшой город с большим, многолюдным базаром, где уже давно стояла Баязетова конница, посланная вперед.
Токат радостно, с облегчением встречал Баязета, уверясь, что нашествие степных татар теперь не грозит городу.
Но Баязет негодовал: великий визирь, так торопивший Баязета, оказался прав. Тимур ушел. Тимур ушел по дороге на Халеб, на арабов.
Впервые Молниеносный оказался медлительным. Он не погнался за Тимуровым войском, сказав великому визирю:
– Поистратив силы на арабов, Хромая Лиса уберется к себе, далеко в Самарканд.
Недолго постояв в Токате, Баязет возвратился домой, к своим заботам о Византии.
Глава XКАИР
На рассвете над Каиром протянулись длинными нитями облака, переливаясь и мерцая, как связки жемчугов, нежных и легких на грубой, тяжелой синеве неба, истаивая высоко над грудами черных теней, нагроможденных между строениями, над смуглой кожурой позлащенных рассветом стен, над всем этим смешением камней, тесноты, башен, минаретов, прижатых к стенам, над духотой и смрадом, над всем тем, что, насыпанное грудой на золотом подносе Африки, именуется – Миср.
Протянулись и уплывали вдаль связки жемчужных облаков.
С высоты крыш хорошо смотреть, как они уплывают к Гизе, где видны пирамиды, в этот час голубовато-прозрачные и как бы рассеченные поперек их громад зыбкими слоями утренней прохлады с Нила. Там, как миражи, слоилась вся даль, призрачная и прозрачная.
С высоты крыш многое виднее вокруг. На плоских каменных крышах, выложенных большими шершавыми плитами, легче дышать в темноте африканских ночей под черным небом, и тем легче, чем выше эта крыша, чтобы ничто не заслоняло струй воздуха, тех легчайших дуновений, что изредка проникают в неподвижный, застоявшийся зной Каира.
Самая высокая крыша распростерлась над дворцом султана. Дворец стоял надо всем городом на крутом, неприступном, обнесенном могучими стенами холме, где издревле была сложена крепость Каира.
Ее сложили здесь из огромных тесаных плит, с превеликим трудом переволоченных сюда от подножия пирамид Гизы и из Мемфиса, выломанных из стен храмов, дворцов, башен, когда-то воздвигнутых по указу фараонов и во славу фараонов, из плит, отесанных умелым и тяжким трудом нубийцев, сириян или иных рабов и пленников, когда все строили крепко, навсегда, ибо фараоны все создавали навсегда, веря в бессмертие и вечность.
С высоты розовато-желтого султанского дворца Каир внизу казался таким тесным и странно нагроможденным, словно не для жизни, не для наслаждения бытием соорудили его, но лишь для того, чтобы в его щелях, в этой тесноте и мгле укрыться от жизни.
На просторе крыши высился полосатый шатер, подъятый над ложем султана, положенным на шершавый базальт плит.
В этом распахнутом шатре навзничь лежал, повернув лицо к далекой Гизе, пятнадцатилетний подросток в широкой темно-синей, почти черной рубахе.
Едва проснувшись, он лежал, распластавшись на спине, не шевелясь, ожидая, пока какое-то желание ли, досада ли, прилив ли бодрости поднимет его вдруг.
Так, распластавшись, он любил размышлять, и, пожалуй, утро было единственное время суток, когда удавалось спокойно припоминать и обдумывать многие явления и события.
С младенческих лет он пристрастился к таким одиноким и тайным раздумьям, скрывая их от всех, кроме одного только наставника, с которым иногда делился своими мыслями, если они озадачивали и если он не мог найти им истолкования.
Никто не смел подниматься сюда без зова.
Мог появляться в любое время только один семидесятилетний наставник, ученейший Абу Зайд Абу-ар-Рахман ибн Мухаммед Ибн Халдун, магрибец, верховный судья Каира, призванный еще при жизни могущественного и просвещенного султана Баркука для воспитания и обучения нынешнего могущественного вавилонского султана Фараджа ибн Баркука ан-Насира Насир-аддина, которому ныне шел пятнадцатый год.
Это было лестное право наставника. Но Ибн Халдун не часто пользовался этим правом и, не мешая султану спокойно пробуждаться, сам в ранние часы утра работал над своей книгой или вникал в чужие старые рукописи, каких много хранилось в каирских домах, мечетях, сокровищницах султана, по кельям ученых из Аль-Азхара.
Некогда он и направился сюда в поисках таких неведомых ему рукописей и книг, ибо жадно искал новых и новых сведений обо всем, стремясь день за днем расширять пределы знаний и всегда новые сведения сопоставляя с познанным прежде. И Каир из своих тайников, укромных трущоб и прославленных книгохранилищ дал Ибн Халдуну, магрибцу, столько никому не ведомого, что не хватало ни свежих утр, ни долгих дней, чтобы все это объять и осмыслить.
Поистине Каир заслуживал, чтобы ученый человек поселился здесь на годы, а может быть, и на всю жизнь, если стремится к познанию.
Султан Фарадж еще лежал, запрокинувшись, у откинутой полы тонкого шатра, когда уловил почти неслышные шаги легких босых ног по тяжелым плитам крыши.
Но он не поднял головы и даже не шевельнулся.
Он закрыл глаза, чтобы вошедшему показалось, будто султан спит: мальчику хотелось еще хотя бы немного так полежать.
Но, пройдя через всю крышу быстрыми, как бы танцующими шагами, чуть приседая и откидывая на ходу длинную руку, в развевающейся тонкой и широкой одежде – голобии, Ибн Халдун вдруг появился перед откинутой полой шатра.
Его босые ноги остановились неподалеку от лица султана.
Фарадж, не открывая глаз, ясно представил себе эти узкие синеватые ноги с густыми пучками седых волос на больших пальцах.
Медлительный и певучий голос пророкотал:
– Мир и мир высокочтимому султану!
Это означало, что у наставника есть неотложное дело, если он не ждет пробуждения, а будит, словно султан сам не знает, когда надо пробуждаться!
Фарадж мгновенно, оттолкнувшись от атласного, скользкого тюфячка, в длинной, по самые щиколотки, рубахе встал среди разбросанных розовых и голубых одеял, пышных, как облака, и резко, но не без смутного беспокойства ответил:
– И вам мир, учитель!
Он считал непозволительным спрашивать кого-либо о чем бы то ни было, ибо на этой земле со времен фараонов считалось, что властитель есть маг и сам знает все, что желает знать.
Темная рубаха была ему широка, отчего хилый подросток казался мужественнее и рослее, чем был.
Голос его в ту пору ломался, и султан то похрипывал, то неожиданно взвизгивал и тогда поспешно смолкал, порой на полуслове, чтобы горло успокоилось.
Эти внезапные причуды горла стесняли и смущали Фараджа, нетерпеливо желавшего выглядеть величественным, как подобает могущественному вавилонскому султану. Так звали его в окружающем мире, ибо и былой Вавилон, и Миср, некогда бывший Египтом, и Сирия с ее славным Дамаском, и другие многие города, великие своим прошлым, принадлежали ему по праву наследования, хотя все чаще и чаще приходилось подтверждать свое право острием меча.
Не единожды приходилось каирцам отстаивать эти пределы и от османского султана Баязета, с которым еще у Баркука был установлен союз, и от сирийских заговорщиков, замышлявших обособиться от Каира.
Теплыми ступнями султан соступил с одеял на плиты и стал засовывать зябкие ноги в зеленые сафьяновые туфли, у которых длинные острые носы с красными хохолками, круто запрокинутые назад, были туго обмотаны золотыми нитками. Обуваясь, Фарадж поднял подол своей рубахи, приоткрыв узкие розовые штаны с поперечными черными полосками.
Он был очень занят этими туфлями и ступнями, никак не влезавшими в обувь, хотя она была просторна.
Он возился с туфлями.
Топтался на месте.
Прежде чем приступить к беседе с наставником, желал предугадать, о чем будет эта беседа.
Он не хотел, чтобы Ибн Халдун застал его врасплох своими делами, с которыми подступил так торопливо и так настойчиво.
Но как Фарадж ни прикидывал, ни одно дело не заслуживало, чтобы ради него являться к постели султана в столь ранний час и прерывать сон.
Ибн Халдун, пренебрегая тем, что Фарадж столь занят сейчас зелеными туфлями, начал было беседу:
– Внимание, о внимание, высокочтимый султан!
Фарадж попытался оттянуть беседу:
– Учитель, вчера мы остановились на рассуждении о власти кесаря. Сейчас я смотрел на пирамиды. Взгляните, каменная вершина поднялась над основанием и висит единственно на дуновении ветра!
Ибн Халдуну пришлось взглянуть в сторону Гизы и подтвердить впечатление Фараджа: утреннее марево расслоило пирамиду.
– Кажется, это только кажется.
Но султан настаивал:
– Если тяжесть грузной вершины столь легко повисает в небе, почему бы и кесарю или султану не парить, возлежа над своей страной?..
– Но зачем, милостивый султан?
– Дабы не погрязать в тине суетного бытия низменных людей и бренных забот.
– Увы, все земное тяготеет к земле.
– Однако известно, языческие фараоны легко восходили в лоно богов, а пирамиды – это лишь ступени, лишь лестницы для тех божественных восхождений.
Почтительно поклонившись, чтобы скрыть улыбку в волнах пушистой седины, Ибн Халдун отшутился:
– Такие ступени крутоваты для восхождений.
И строго добавил:
– Благочестивые богословы ныне отвергают силу фараонской магии. Ее тьма рассеяна истинным светом ислама.
– О благословенный учитель! Как можно, изъясняя мне историю мира, умолчать о могуществе языческих божеств, хранивших царство Вавилона и царство Нила?
– Могущество языческих божеств… На то была воля аллаха.
– А почему всемогущий аллах столь долго был снисходителен к язычникам?
Ибн Халдун уклонился от этого спора, грозившего затянуться:
– Мы еще не начали урок истории, милостивейший султан. Еще не наступил час урока.
Вдруг старик спохватился, что время уходит, ибо еще с вечера он пытался пройти к султану, но пришел, когда султан уже играл с девушкой и султанскую дверь никто не смел открывать до утра.
Резким движением длинной руки откинув за спину свисший край бурнуса, Ибн Халдун твердо и настойчиво сказал:
– Тревожная весть.
Слово было сказано. Фарадж больше не мог уклоняться от неизбежных земных дел.
– Всегда слушаю со вниманием, о учитель.
Ибн Халдун наклонился к уху ученика и прошептал ему всего несколько слов, но мальчик побледнел, насторожился, на мгновенье задумался. Его горячие черкесские глаза сузились.
– Где же они?
– Пока на пути к Халебу.
– Скорей, скорей, все дело в этом!
– Повелите сзывать совет.
– Да, скорее! Скорей!
Этих слов и ждал Ибн Халдун. С резвостью, завидной и даже непростительной в его годы, он побежал вниз, в залы дворца, куда заранее уже вызвал участников совета.
День начинался.
Марево вдали рассеивалось. Даль становилась ясней.
С базара потянуло чадом от горелого мяса и лука. Зазвенели бесчисленные молоточки медников. Город начинал день.
Осторожно, чтобы не свалились с ног просторные туфли, медленно ступая со ступени на ступень, Фарадж сошел по крутой серой мраморной лестнице, вклиненной в тесный простенок.
Через бойницу он увидел угол крепостной стены и ярко озаренную утренним сиянием могучую круглую башню. Одну из тех величественных круглых башен, которыми славилась крепость Каира. По преданию, их воздвиг более чем за двести лет до того сам Салах-аддин, сын курда Айюба, прославленный победами над крестоносцами, которые звали его Саладином и складывали о нем сказки.
Издавна в этих круглых башнях, называвшихся бурджами, размещались и жили каирские воины, набранные из рабов, из пленников или из пришлых людей, из наемников, льстившихся на добычу и жалованье, а то и просто сбредшихся неведомо из каких сторон утаиться тут от каких-то темных дел и погони.
Здесь жили и воины из черкесов, славившиеся отвагой и мужеством, поднявшие Баркука на султанский трон. И в честь своих соратников, вышедших из сих неприступных бурджей, Баркук дал своей династии, своим наследникам имя Бурджитов, чтоб всем помнились круглые башни Каира, хотя всем было известно, что сам Баркук в бурдже никогда не жил.
С такими башнями Каиру не был страшен никакой враг. Но надо ли ждать врага здесь? А если не ждать, тогда что? Как поступил бы отец?
Фарадж нежно и счастливо помнил о своем отце.
Баркук задолго до того, как стать султаном ал-Малик аз-Захир Сайф-аддином Баркуком, был девятилетним черкесским мальчиком, быстроглазым и шаловливым, когда в 1364 году на невольничьем базаре в генуэзской Кафе, в Крыму, его купили с толпой других ребят и перепродали на таком же базаре в Каире. Он попал во двор к просвещенному амиру Иль Богга, и тот отдал смышленого мальчика в школу. Мальчика, как самого знающего, после школы взяли во дворец султана ал-Ашрафа воспитателем к султанским детям. Воспитатель оказался так смышлен, что, едва умер воспитанный им султан, объявил себя султаном. Его поддержали черкесы, служившие в дворцовой страже. Враги вскоре заточили самозванца в темницу, но дворцовая стража его освободила. С того дня он правил Египтом, поощряя земледелие и науки, торговцев и ремесленников. Он построил семинарию, где обучение было бесплатно. Он призвал ученых из многих стран, и они до конца своих дней оставались здесь, ибо ни в одной иной стране их знания не ценились так высоко, как в Каире. Он приютил ученого беглеца из Магриба, престарелого Ибн Халдуна, и высоко его вознес, утвердив верховным судьей Каира, поручив ему воспитание своего сына Фараджа, и оградил от множества обвинений и козней, на которые не скупились каирские недоучки, раздосадованные успехом пришельца.
Так в Египте началась новая династия мамлюков, династия кавказских черкесов, называвшая себя Бурджитами. Так кавказские черкесы возглавили государство, повелевая страной, которой некогда правили фараоны.
Три года назад Баркук умер, султаном провозгласили двенадцатилетнего Фараджа, но сын каждый раз, когда хотел что-либо понять без разъяснений наставника, представлял себе беседу с отцом и спрашивал у отца ответа. Баркук, то приветливый и улыбчивый, то горячий и вспыльчивый, отвечал сыну ласково и назидательно, как разговаривал с ним всего лишь три года назад.
Это успокаивало пытливого подростка, внушало уверенность в своем решении, помогало настаивать на выполнении своей воли, даже если наставник, или визирь, или кто-то из вельмож противился приказу юного султана.
Он хотел всегда быть твердым, как отец, милостивым, как отец, и столь же взыскательным. Если надо, беспощадным и всегда отважным, как истый черкес.
– Как поступил бы отец? – спрашивал Фарадж. И из глубины души слышал ответ:
«Кинешься на врага первым, устрашишь врага отвагой!»
– Но один не кинешься! – возражал он отцу и спрашивал: – А войско где? – и на этот вопрос не слышал ответа.
Он подошел к темной высокой зале старинного дворца, когда в нее через наружную дверь уже входили вельможи, вожди кочевых племен, старые воины, возвышенные еще отцом султана, поставленные во главе десятитысячных дружин, хмурые и властные богачи Египта, державшие в своих тайниках великие сокровища процветающей страны. Они входили поодиночке или по двое, но, видно, еще не все собрались.
Чтоб не показываться здесь раньше их и не уронить достоинства, Фарадж вернулся к лестнице, постоял, с досадой ожидая, пока все соберутся, но вскоре устал стоять.
Он сел на холодную серую ступеньку, но тотчас вскочил, едва почудилось, что кто-то идет по лестнице.
Он ошибся, никто не шел. Но он представил вдруг, как это будет унизительно, если кто-нибудь увидит своего султана восседающим на нижней ступеньке лестницы.
Он постоял в нише, переминаясь с ноги на ногу. И вдруг, крадучись вдоль стены и не замечая, как громко шлепают по мраморному полу его туфли, решительно прокрался мимо многолюдной залы и через темные переходы добрался до своей небольшой комнаты, где любил проводить дневное время.
Здесь перед узким зарешеченным окном, похожим на сияющий коврик, ибо в раму были вставлены цветные, зеленые, и пурпурные, и синие стекла, он торопливо сбросил с себя просторную рубаху и позвал слуг.
Ибн Халдун, понимая, что времени остается так мало, еще с вечера разослал гонцов по городу, сзывая к утру всех нужных людей и всех, кто составлял султанский совет. Но они собирались медленно, они не ведали, сколь велика опасность, надвигающаяся на них. А многих даже не оказалось в городе: лето заманило их в деревни, в прохладу оазисов.
И теперь Ибн Халдун прохаживался между собравшимися, затаив беспокойство. Присматривался к тем, кто, стоя в галерее или толпясь в зале, встревоженные неожиданным зовом, пытались дознаться друг у друга или общими силами понять, зачем султан созвал их сюда.
Когда об этом осмеливались спросить Ибн Халдуна, он уклонялся от ответа, отшучивался: не хотел ничего сообщать в отсутствие султана. Обо всем объявить первым надлежало визирю, но, если обращались с расспросами к визирю, он с испугом смотрел на вопрошавших неподвижными выпуклыми тяжелыми глазами и молча отходил прочь. Склонный к беззаботной мирной власти, визирь так увлекся личными делами каирцев, наблюдением за каждым из вельмож, что жизнь за пределами Каира мало его занимала.
О каждом, кого он здесь видел, визирь все знал. И многие, догадываясь об этом, спешили отстраниться от него, уйти подальше. Так среди людской толчеи визирь всегда оставался один и на виду у всех.
Ибн Халдун всюду искал случай показать султану, кто из них больше радеет о благе Египта, египтянин или магрибец, дабы не было повадно тем многочисленным завистникам, что не уставали сожалеть о пристрастии султана к верховному судье. Будто не был чужеземцем сам султан! Черкес, сын черкеса, купленного на крымском базаре!
Теперь Ибн Халдун покажет всем, сколь близоруки и беспечны бывают иные египтяне и как чутко стоят на страже иные из чужеземцев, не щадя сил во славу Египта.
Визирь уже догадался, что магрибец готовит ему удар. Но с какой стороны?
Плотный, смуглый, с карими глазами навыкате, с белками, налитыми кровью, как у пойманной рыбы, с черными пухлыми нубийскими губами, с тяжелыми скулами, изъеденными оспой, он посапывал от досады и от усилий понять причины этого призыва к султану.
Широко раскидывая руки, большими шагами широко расставленных ног, медлительно и хмуро визирь прохаживался по всей зале мимо людей, не глядя ни на кого, мимо затейливых узоров, отчеканенных отличными мастерами на смуглом базальте дворцовых стен.
Он понял, что верховный судья затеял с ним большую игру. Он готов был отразить любой выпад и сам был бы рад, улучив время, нанести крепкий удар, но не мог понять, с какой стороны грозит опасность: «Каким рогом ударит буйвол?!»
Визирь знал обо всех, кто посетил Ибн Халдуна за все эти дни. И кто был у него вчера, знал. Никаких известий ни из самого Каира, ни из каирской округи, ни из Александрии, ни из Исмаилии магрибец получить не мог. Вчера его двор посещали повседневные базарные разносчики обычных товаров. Бульшая часть этих разносчиков – люди, усердно услужающие самому визирю. Посещая все городские щели, все дворы, от лачуг бедняков до палат вельмож, они ко всему приглядывались, принюхивались, прислушивались, а их глазами и ушами ко всему приглядывался и прислушивался сам визирь.
Вчера у Ибн Халдуна рано утром шли уроки с юным султаном. Потом он восседал в суде, углубленный в чужие тяжбы. Потом два сирийских купца принесли ему древнюю книгу, привезенную из Дамаска. Но ветхая книга сирийского богослова – это не такая новость, чтобы из-за нее будоражить весь Каир!
«С какой же стороны он готовит удар?»
Все здесь толклись, постепенно более и более волнуясь от подозрений, опасений, тайных тревог, как и чем все это может сказаться на делах. Повысится ли спрос на финики или цена на рабов, или вздумают перекраивать земельные угодья, или у кого-то что-то отнимут, а кому-то что-то дадут…
Но все мрачнели, едва взглянув на Ибы Халдуна. «Чего доброго можно ждать от этого магрибца?»
А магрибец прохаживался, повевая своей просторной ярко-белой голобией, покачивая еще более белой бородой и ни на кого не глядя, не то приседая, не то приплясывая на каждом шагу.
Опытные царедворцы по многим признакам поняли, что не визирь и не кто-то другой, а только верховный судья знает, зачем они сюда собраны. А если он один это знает, значит, и собирал их он! Слуги не визирю, а ему докладывают о каждом прибывшем, не перед визирем, а перед магрибцем пресмыкаются, ожидая указаний.
Но кое-где лениво беседовали.
– Я слыхал, вы вчера сбыли на базаре финики. Почем взяли?
– Отдал остатки. Так, поскребышки. Завалялись с осени, уступил за бесценок.
– А почем все-таки?
– Да какая там цена! Бог с ней… – отмахивался собеседник, который, выдержав время, не в начале зимы, когда все спешат сбыть весь урожай, а теперь, летом, привел целый караван, четыреста корзин фиников, и взял цену в два раза выше зимней. Он умел ждать, а почувствовав, что дождался, бил птицу на лету.
Его звали Бостан бен Достан, и он сам не знал, откуда у него, потомственного араба из Фаюма, такое странное имя, своим звуком похожее на колокол каравана, если произносить его подряд снова и снова: Бостан бен Достан, Бостан бен Достан… Он служил войску султана, в течение многих лет доставляя зерно на всех воинов, расположенных в каирской крепости. Он давно домогался поставлять также и мясо, но все знали, что тайно, через подставных купцов, мясо на всех воинов скупает и перепродает сам визирь. И никто не мог помешать ни этим, ни прочим делам визиря:
– О делах визиря много знает верховный судья.
– Напасть может тот, кто знает больше: всегда сильней тот, кто больше знает о другом.
– Кто же о ком, почтеннейший амир, знает больше, судья о визире или визирь о судье?
– Это известно только им двоим. Уже не первый год они не спускают глаз друг с друга.
– Я было заговорил с магрибцем. Он молчит, отводит глаза в сторону, будто оглох. А потом покачал головой: «Нетерпение и любопытство – порок стареющих женщин».
– Сегодня никто не смотрит никому в глаза. Что за день! – посетовал Бостан бен Достан.
– О, от магрибца не узнаешь даже цену на прошлогодние финики! усмехнулся собеседник, воровато взглянув на Бостан бен Достана.
И Бостан бен Достан, быстро отвернувшись, ушел от этого собеседника.
Все теснились в большой зале. Сперва, скучая, судачили, прохаживаясь и косясь друг на друга. Но постепенно тревога охватила всех. Собеседники смолкали: беседы не ладились.
Визирь размашисто направился было к дальним покоям султана, когда султан вдруг сам вошел в зал.
Он сверкал новенькими стальными доспехами. Меч висел на бедре. Два кинжала на поясе. И только не было шлема на голове.
Всех озадачило: в какой поход собрался?
Он взошел на свой трон, сооруженный еще прежними султанами из ливанских кедров со столбами из черного дерева. В дерево были врезаны затейливые сочетания слоновой кости, перламутра, серебряных и золотых нитей. Получались как бы цветы и птицы, но, если присмотреться, ни цветы и ни птицы, ибо богословы осуждали изображение одушевленных существ.
С черных изузоренных столбов над сиденьем свисал черный индийский полог, затканный тоже серебром и золотом. Подушки, сшитые из того же шелка, лежали со всех четырех сторон, и султан сел среди них, поджав под себя тонкие ноги.
Но, едва выслушав неизбежные приветствия, тотчас пружинисто вскочил на ноги и встал среди подушек.
– Почему вы покойны? – спросил он. – Почему никто из вас не готов? Видно, забыли, что здесь было свершено пять лет назад?
Загадочные вопросы!
Все замерли: пять лет назад? А что тогда было?
– Разве не знаете вы, разбойничья орда монгольского Тимура хлынула на дорогу к Халебу.
У многих перехватило дыхание. Некоторые из тех, кто был постарше и служил еще при дворе султана Баркука, взглянули в левый угол этой залы, туда, где неподалеку от трона мрамор пола не был застлан ковром.
Все смолкли. Все поняли.
Все вспомнили.
Здесь, в этой зале, султан Баркук принимал послов, явившихся издалека, не то из монгольских степей, не то с татарских кочевий.
Они тогда стояли тут в рысьих шапках, поводя рысьими глазами, в шерстяных коротких чекменях, опоясанных ремнями, а когда входили, один из них переступил через порог левой ногой и в зале нестерпимо запахло лошадьми и полынью.
Именем своего степного хана, которого они величали Повелителем Вселенной и который в самом деле поспел выжечь и вытоптать половину благословенных мусульманских царств, они потребовали покорности и повиновения от султана Баркука и чтобы впредь он платил их хану дань и служил ему как один из бесчисленных его слуг.
Чтец при всех громко и внятно читал написанное затейливым почерком, но грубым языком багдадских арабов послание:
«Велю тебе, вавилонский султан, служить мне верно, исправно, безропотно.
Будешь послушен и старателен, останешься в своем седле, в своей юрте.
А будешь противиться мне, не оставлю тебе седла и пущу на дым твою юрту.
Сам решай свою участь. Как решишь, так будет. Свое решение скажи моим послам».
Султан Баркук не был из тех, кто при имени завоевателя ронял меч из рук и распускал пояс на шальварах.
Султан Баркук прошел свою жизнь, как по канату над бездной, от базара в Крыму до высокого трона в Каире. Он привык, приветливо улыбаясь, смотреть в глаза многим опасным и коварным врагам.
Тот степняк был, видно, груб, зол, невежествен, если султану Египта посмел говорить, как своему конюху.
Не спуская с послов спокойных, даже улыбающихся глаз, глядя в глубь их черных зрачков, Баркук дал знак схватить их и приказал тут же, в зале, справа от трона, чтоб все это видели, перерезать им глотки, как баранам.
То и было исполнено.
Был пощажен только багдадский араб, читавший послание, и отпущен, чтобы все рассказать своему степному хозяину. За такой рассказ хозяин зарежет багдадца сам.
И многие из тех, кто стоял теперь здесь, у этого трона, вспоминали, как почернел от крови голубой ковер в углу.
Ковер вынесли. И с тех пор эту часть пола не застилали ковром.
Тогда же Баркук послал своих послов к османскому султану Баязету, считавшемуся уже и в те годы могущественнейшим и мудрейшим из земных владык, что, подобно Салах-аддину, разгромил многочисленное войско крестоносцев и теперь стоял на Босфоре, ожидая, когда престольный город Византии падет к его ногам.
И послы Баркука заключили с Баязетом союз против амира Тимура.
Разъяренный Тимур двинул было свои полчища на Каир, но вдруг свернул на Кабул и оттуда горными ущельями ушел в Индию.
Только теперь, вернувшись из Индии, он изготовился исполнить месть и обрушить на Египет гнев и расправу.
Вот почему все здесь задумались, опустив глаза. Только Бостан бен Достан, не заметив, как в полном безмолвии громок его голос, сказал собеседнику:
– До Халеба далеко. Я-то боялся, не здесь ли что!..
Все посмотрели на него, и поставщик зерна оробел:
– Я не то сказал?
– Не то! – крикнул султан. – Халеб и Каир – это один город, когда они оба наши!
Слово «наши» прозвучало со свистом, голос сорвался. Султан, наскоро откашлявшись, тяжело, густо пробасил:
– Наши!..
Сбычившись, глядя вперед исподлобья, положив правую ладонь на рукоятку кинжала, спросил:
– Почему высокочтимый наш визирь, следя за каждой соринкой города Каира, не знает, что там, где я султан, везде Каир?! Почему первый человек нашего султана, высокочтимый наш визирь, не первым узнал, что со стороны Кавказских гор на нас надвигается враг? Кавказские горы далеки, но надвигается он на нас.
И, сбросив ладонь с кинжала, султан поклонился в сторону Ибн Халдуна.
– О учитель! Станьте на эти тяжкие дни на место визиря. Не откажите нам!
Еще более легкой, еще более пляшущей поступью магрибец перешел к трону и замер возле султана на том месте, откуда, попятившись, неповоротливо отступил визирь.
Многие успели послать слуг домой, и к концу совета многие из вельмож и военачальников успели надеть доспехи. А некоторые не смогли – так долог был мир, что доспехи оказались тесны своим раздобревшим хозяевам. Только шлемы пришлись всем впору: головы ни у кого не изменились.