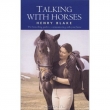Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 86 (всего у книги 87 страниц)
Тимурово нашествие перекрыло многие пути. Из разоренных городов некому стало идти сюда. Но шли из стран и из городов, докуда не дотянулись разорители: Иерусалим тем и свят, что равно – мусульмане, иудеи и христиане – все чтут в его стенах самые заветные из своих святынь.
Люди разных вер приходят сюда в чаянии чуда – исцеления от болезней, избавления от бед, забвения досад, прощения за содеянное зло, утешения в свершенных ошибках.
Но приходят сюда и рассеять скуку. Ибо везде, куда стекается много богомольцев, ищут поживы и те, кто служит человеческим страстям и пристрастиям. Чем беззащитнее человек перед своими слабостями, тем усерднее он просит помощи у бога. А чем беззащитнее, тем легче поддается соблазнам. Грехопадение соблазнительнее там, где ближе место покаяния. О грехе тем чаще задумываются, чем чаще его осуждают, а здесь неустанно его клянут и горячо в нем каются на многих языках. Вместе с паломниками в пыльных одеждах, с купцами, привезшими чужеземные товары, у ворот ждали и работорговцы, пригнавшие на торг полуприкрытых рабынь и полураздетых мальчиков. Не сторонились тесноты благочестивые стайки паломниц. Они прибыли на богомолье откуда-то издалека. Скудно и смиренно одетые, с четками между резвыми пальцами – от их насмешливых и приманчивых глаз не шлось к молитвам.
Позже других подъехали усталые всадники, ведя в поводу вьючных лошадей. Пыльных, покрытых тяжелыми бурнусами, их не заметил бы Ибн Халдун, но к нему подошел один из прибывших, еще издали кланяясь и приветствуя: он видел Ибн Халдуна в мадрасе Аль-Адиб.
– А вы из Дамаска? – удивился историк.
– Бегом оттуда. Бегом!
– А что там?
– Я из купцов. Откупился от разоренья, а хромой злодей перед уходом отдал наши слободы своим головорезам на разграбление. «Вы, говорит, недоплатили, нарушили уговор, я, мол, ждал-ждал, но больше терпенья нет!» А? Ведь почти все получил, какой-нибудь малости недосчитался – и на разграбленье! Ну я, слава аллаху, семью заранее сюда отослал, теперь, как он ушел, сюда бегу. Что уцелело, с собой везу.
– А он ушел?
– Ушел. Сказывают, на Сивас. А зачем? Через Дамаск проехал в ярости. Как в лихорадке. Так спешил, даже правителем города поставил какого-то из дальней родни, он и не высовывается: отсиживается в Каср Аль Аблаке. А военачальников всех увел. Не знаем, что у него случилось.
Тимур ушел. Письмо от Мираншаха из Сиваса ввергло Повелителя в ярость и в тревогу: Кара-Юсуф, недолго отдохнув в Бурсе, получил от Баязета конницу и захватил отчие земли от Арзинджана до Сиваса. Тамошнее население встретило его как освободителя, празднуя и ликуя. Небольшие городские войска были разметаны. Мутаххартен укрылся у Мираншаха в Сивасе. Осман-бей притаился в грузинской стране, которую, было время, он весело сокрушал в содружестве с Тохтамышем.
– А чего ж правитель прячется?
– Завоевателей там мало осталось. Неведомо из каких тайников, из укромных трущоб повылезли уцелевшие дамаскины, без боязни собираются на базарах, хоть и нечего купить. И уж их боятся трогать, и они опять, как было, дома. Я тоже заберу отсюда семью и вернусь. Дома веселее, кругом свои, кто уцелел.
– Дамаскины! – повеселев, одобрил их Ибн Халдун.
– Довел нас, что наш султан Фарадж не может помочь Баязету, своему союзнику.
– Довел!.. Затем и пошел добивать, чтоб нас за спиной не осталось, когда на Баязета свернет.
– Умеет он разобщать союзников. Если их союз против него.
– Он на это хитер!
Ибн Халдун ничего не ответил, но, как очень усталый путник, захотел скорее-скорее домой. Хотя бы поначалу за эти крутые стены. Он послал крикнуть старшему привратнику, скорей бы открывали город, когда у ворот ждет визирь самого Фараджа.
А купец говорил, рассказывал:
– От Дамаска, говорят, до самого Багдада в ряд по всей дороге сидят торговцы. По дешевке сбывают имущество, награбленное у дамаскинов. Ведь только прикинуть в мыслях: от Дамаска до Багдада сидят, как на базаре, плечо к плечу. А покупатели не мы ведь, а их же люди сбежались на поживу со всей Бухарии и еще незнамо откуда…
Когда ворота раскрылись, караван Ибн Халдуна первым пошел по мосту под глубокие своды ворот. Иерусалим подчинялся египетскому султану, и приближенные султана, а первее других визирь султана, здесь снова стали самовластны.
Ибн Халдун не знал, милостиво ли примет его ветреный Фарадж после гощенья у Тимура. И чего нанесут султану мамлюки, уже оправившиеся от дамасских испугов и досад, снова властно ступающие по земле своего султана.
Караван протиснулся узкими улицами к тесной площади у рабата Каср Аль Миср – что означает Каирский дворец. Стены домов нависали совсюду над тесной площадью. Ветхие деревянные ворота, выкрашенные светлой охрой, со скрипом и стоном растворились. Караван вошел в небольшой горбатый двор, где посредине, как пупок, торчал какой-то каменный обломок с большим медным кольцом. Некогда кого-то привязывали тут – коня, раба или собаку. В круглых нишах виднелись большие и маленькие двери. За большими дверями – склады для вьюков, за маленькими – кельи. С большой высоты, с четвертого яруса, во двор на пунцовой веревке свисало зеленое ведро.
Ибн Халдун выбрал себе келейку высоко, в третьем ярусе. Келья оказалась узкой, чисто выбеленной. Дурно пахло гнилой редькой, но вместе с тем благоуханно-смолистым дымом – ливанским ладаном.
Вместо окна зиял проем, словно некогда это была дверь. Но куда, если глубоко внизу окаменел двор, войти через ту дверь? Напротив перед стеной, рыжеватой от ветхости, мерно, как удавленник, покачивалось над двором ведро, неизвестно зачем оно свисало из самого верхнего окна. И там же, высоко наверху, в таком же пустом, без рам, окне стоял белый козленок и завистливо смотрел вниз: внизу развьючивали караван и среди вьюков виднелись связки сена.
Нух, перебирая белье лиловыми пальцами, помог историку помыться и переодеться, уже успев узнать, как мало воды в Иерусалиме и как дорожат ею здесь.
– Иордан рядом! – возразил Ибн Халдун.
– Оттуда сюда не возят.
– Почему?
– Лень! Здесь никто не работает, им все дают богомольцы.
– Вода им самим нужна.
– Приучили себя, почти не пьют. А принесут кувшин или ведро, тут же продадут.
– А у меня жажда! – пожаловался Ибн Халдун.
Весь этот год у него появлялись дни, когда он никак не мог утолить жажду. Чем больше пил, тем больше хотелось пить. Только тяжелел от питья, а утоленья не было. Потом появились дни неодолимой слабости, ко сну клонило, клонило к подушке, неподвижно лежать. После выхода из Дамаска показалось, что окрестности подернуты переливчатым, как жемчуг, туманом, и в погожие дни этот туман казался гуще. В пасмурные дни в глазах светлело. Но прежняя ясность зрения не возвращалась. Читать или разглядывать что-либо он мог лишь перед вечером, когда солнечный свет становился не столь обилен. Зашатались зубы, и ныли десны. Нельзя стало грызть черствую лепешку, как он с детства любил. Приходилось разламывать хлеб на маленькие дольки и неторопливо разжевывать.
Таким он вступил в Иерусалим.
Не жаждал чуда, не намеревался молиться о возвращении молодости. Он заявил в Дамаске, что идет в Иерусалим на богомолье. Но пока были в нем лишь усталость и любопытство: видевший столько городов, может быть, он спешил только посмотреть еще один преславный город.
Тишина кельи, мирный ее запах, голубые голуби, лениво гурковавшие на карнизе за окном, молчание высоких крутых стен – все это, как после долгого горя, успокаивало, никуда идти не хотелось.
Вскоре во дворе зазвучали голоса мамлюков, вельмож, заспешивших посмотреть базар. Голоса их клокотали, как вода в глотке, в горловине двора. Вельможи ушли. Жалобно проблеял козленок. Опять дом затих.
Ибн Халдун повернулся к Нуху. Черный суданец, присев на корточках, молчал у порога.
– Я отдохну! – сказал Ибн Халдун, хотя уже был одет, чтобы идти в город.
Нух снял с него верхнюю одежду. Взял чалму.
Ибн Халдун прилег.
Только на рассвете он встал и пошел в город.
Он шел улочкой, узкой, как трещина, протискиваясь между каменными стенами. Стены высились, нависая над прохожими. Стены из синеватых неотесанных камней, порой больших, как глыбы. Стена времен Иудеи. Рядом из больших серых кирпичей. Тут же устоявшая кладка из гладко отесанных гранитных брусков, как, бывало, строили при Птоломее. Три тысячи лет строили, перестраивали, рушили Иерусалим. Что-то в нем разрушалось, но что-то уцелевало. Многое надстраивали над руинами. Сузились, стеснились его улицы. Над ними с одной стороны на другую нависли переходы из дома в дом или своды давних арок, в какие-то минувшие века перекрывавших проходы по городу. На ночь тут вставали стражи, опускались решетки: спокойнее спится, когда знаешь, что вся улица заперта до рассвета. Давно уже не опускают решеток, живут безбоязненно, переговариваются громко.
Иногда от стены отваливался кусок кладки и валялся на дороге, все его обходили, а то и спотыкались, но никто не убирал, ибо не было точно известно, чей он.
Узкие улицы укрывали город от ветров пустыни, хранили тень даже в самые душные дни, а при нашествии врагов надежно берегли иерусалимлян, ибо лишь поодиночке могли пробираться в этой тесноте всадники, да и пешком завоевателям надо протискиваться друг за другом, когда жители легко могли запереть их в этой тесноте. Это случалось здесь.
Ибн Халдун, сопровождаемый одним только Нухом, долго шел, то не без усилий расходясь в тесноте со встречными, то с любопытством задерживаясь около продавцов, несмотря на раннее время предлагавших связки кипарисовых и каменных четок, или прозрачные крестики, выточенные из алой смолы, или изречения из Корана, мастерски написанные каллиграфами на пергаментах, позлащенные, как это умели только в Иерусалиме и в Мекке. Паломники увозили такие пергаменты и потом всю жизнь хранили на стене как память о богомолье и как знак своего благочестия.
Продавцы кричали, стоя возле покупателя, чтобы прохожие тоже слышали их и не прошли бы мимо.
Едва ли есть на свете другой город столь же крикливый. Все кричат. Кричат, переговариваясь через улицу. Кричат друг другу из конца в конец улицы. Крики перекрещиваются, но не сливаются между собой, а перекрикивающиеся слышат только друг друга, словно вокруг царит тишина.
Едва ли есть на свете другой город, где кричат, распевают или шепчутся на стольких языках, столь несхожих.
Одни кричат, взмахивая руками, словно в приступе гнева; другие словно в изнеможении; а те кричат жалобно, прижав к груди руки, будто в чем-то винясь. Кричат, уверенные, что так заставляют слушать только себя, что так их слова сильней и понятней.
Ибн Халдун шел.
Каменные стены высились и нависали. Возникали низкие своды, где проходили пригнувшись. А наверху кричали собеседникам, детям, а то и самим себе, чтобы яснее понять самих себя.
Тесно притертые стеной к стене, высокие дома заглушали крики на соседних улицах, но довольно было и тех, что бурлили вокруг. Ибн Халдун понимал: так громко здесь говорят от полноты души, от чистоты мыслей, ибо нечего им таить друг от друга, столь различным по языкам, столь единым по преданности родному Иерусалиму.
На поворотах улиц вдруг показывался храм или святилище какой-нибудь веры – христианская церковь или часовня, где пели по-гречески или по-славянски. Размеренно и протяжно гудела латынь. В каком-то подземелье, как в пещере, сияло множество свечей и мечтательно пел многоголосый хор армян. А мимо бежали, кричали, вопили продавцы и разносчики воды, свечей, ладана. И чем беднее был товар, тем громче кричали, заманивая покупателей.
Из-за стен грузинского монастыря слышалось унывное заупокойное пение: хоронили одного из беженцев, привезших сюда царевича Давида, посланного в эту даль царем Георгием, дабы укрыть малолетнего сына от невзгод, постигших родину, от настойчивых, жадных нашествий Тимура.
В открытые ворота монастыря видно было медленное шествие людей в черных одеждах, несших вслед за гробом ласково трепещущие огоньки свечей.
Впереди провожающих вели мальчика в зеленом кафтане и розовых штанах. Может быть, это и был Давид. Он тоже нес свечу, и она вздрагивала в худеньком кулаке, колебля пламя.
Так в узких улочках, изрезанная, как на узкие ленты, иерусалимская жизнь шумела, полная движения, полная своих забав, будничных горестей, нестрашных печалей, толчеи; радостная, какие бы заботы ни врывались в нее; привольная, как бы ни было здесь тесно.
Если бы наползло на этот город нашествие, если бы засели здесь чуждые народу власти, город притих бы, ибо у всех приглохла бы ликующая радость бытия, поколебалась бы вера в вечность этой причудливой жизни, лучше которой, сколько бы ни было в ней тягот и горя, здесь никто не ждал и не знал. Ведь, какие ни явись завоеватели, какими добрыми словами ни прикрывай они свою власть, как ни кичись они, выдавая свое насилие за добродетель, жизнь затихает при тиранах, торопливо навязывающих народу свои обычаи, нравы, понятия вопреки тем, с которыми веками жил народ и с которыми сам он и впредь жить хочет.
Ибн Халдун шел в каменном узилище улиц, и росла, росла легкость дыхания, движений, как бывает, когда вырвешься из удушливой тьмы подвала к прохладе, к свету. Вокруг воздух трепетал от неистовства крикунов. А Ибн Халдуну это его первое утро в Иерусалиме казалось тихим и приветливым.
Он шел, ликуя: в Дамаске он смирился с напряжением, когда не знаешь, грядущее утро, предстоящий день, наступающая ночь, следующее мгновенье сулят ли тебе улыбку благоволения или удар меча. Так он напрягся на все свое время при Тимуре. Теперь шел мимо различных храмов и алтарей, где каждый волен по-своему общаться со своим богом, ибо во всех верах сказано, что бог един.
В Дамаске Ибн Халдуну рассказывали, как в Иране в угоду шиитам завоеватель губил суннитов, а войдя в суннитские страны, угнетал шиитов. Нужна была лишь причина кого-то карать, кого-то приберегать, ценой чужой крови утверждая себя самого, взяв одному себе право судить о вере: какая истинней?
Каждый захватчик, кем бы он ни был и когда бы он ни пришел, тем и приметен, что лишь свою веру считает истинной, а прочие объявляет злом и недомыслием и спешит истребить их, как зло, иноверцев покарать, а достояние их взять себе.
Неожиданно из тесноты улочки Ибн Халдун вышел на площадь, обсаженную густыми кипарисами, устланную гранитными плитами, называемую Гарам-аш-Шериф, что означает – Священный двор.
Ибн Халдун увидел мечеть, о которой слышал с детства. Он много видел замечательных зданий в Магрибе и в Кордове, в Каире и в Александрии, прославленных в мире, а об этой мечети, как о вершине арабского зодчества, ему говорил еще отец незадолго до своей тяжелой, черной смерти.
Стройную осьмигранную мечеть Куббат-ас-Сахра построил халиф Абл-ал-Малик в год пятидесятилетия со дня, когда в 638 году халиф Омар отвоевал Иерусалим у Византии для арабов. Уже более семи веков простояла она, прежде чем ее увидел Ибн Халдун.
Когда рассказывали о ней, она представлялась ему красивой, величественной. Оказалась иной: прекрасной, но не величественной, а приветливой, женственной.
От земли она облицована серебристым мрамором. Выше ее украсили цветные кирпичики. Она высоко вознесла над собой серебристо-белый легкий купол, как бы парящий над ней.
Она не подавляла, она влекла к себе.
Щедро заплатив сторожу за кувшин, он омылся у большой каменной чаши с теплой водой, светло-серой, словно ее заправили молоком.
Расстелил плат на плитах двора и стал на молитву.
К нему пришло счастливое неожиданное отдохновение, охватившее его всего. Распростершись на своем плате, теснимый другими богомольцами, он облегченно бормотал:
– Благодарю, о аллах! О аллах… Благодарю, что сподобил меня благодарить тебя здесь, где я снова волен в помыслах…
Никогда на молитве он не говорил своих слов, а только молился. Впервые ему захотелось сказать аллаху о чувстве столь полном. Но не знал, какими словами высказать это чувство, еще не осмысленное разумом.
Разогнувшись, Ибн Халдун увидел Нуха, тоже вставшего с молитвы. Нух плакал, зажав глаза ладонями. Ибн Халдун удивился:
– Что это?
Утирая слезы, Нух в упоении покачивался.
– Мне здесь хорошо, о господин!
Они вместе вошли в мечеть.
И здесь она удивила историка своей особой красотой, не повторяющей иных строений в мире и оставшейся неповторенной.
Здесь все казалось просто, но в каждом камне запечатлелась мысль: либо это изречение, вычеканенное на мраморе, коим облицован низ стены, либо искусная кладка стен, продуманная, согласованная в каждой частице, как касыда. Яшмовые столбы, поддерживая купол, сочетались между собой в стройный очеред.
Царь Соломон здесь поставил свой храм над священной скалой. Но Соломонов храм пал. Мечеть Омара поставлена на том же месте, чтобы прикрыть своим куполом ту же скалу, столь же священную и для мусульман, ибо по преданию с этого камня пророк Мухаммед воспарил к аллаху.
Теперь на скале лежали изначальные записи Корана, седло кобылицы Аль-Борак и весы для взвешивания человеческих душ.
Пещера под скалой считалась входом в преисподнюю. У ее входа высились знамена и хоругви. Стояло копье царя Давида, насаженное на древко из дерева, именуемого Аса-Муса, что значит – Посох Моисея. Тут же и щит Мухаммеда. Знамя пророка. Огромный меч Али. Свидетели священных войн, былых битв за веру.
Шатер из тяжелой красной ткани неподвижно распростерся над тем местом, где стояла скиния завета и находился святая святых – алтарь Соломонова храма.
Все вокруг утверждало легенду. Есть легенды, принимаемые на веру, которым не нужно доказательств и утверждения: они, как песня и как птица, существуют, не касаясь земли. Но есть земля, которой касаешься, как легенды. И это было здесь, где Ибн Халдун то опускался помолиться, то вставал созерцать.
Позлащенная решетка ограждала скалу, но Ибн Халдун и не помышлял прикоснуться к камню, коего касался бог.
Историк стоял, надеясь понять, в чем величие того, что столь просто и грубо, но тысячи лет влечет к себе, влагая в приходящих благость и мир, скала, простой камень. Камень, видевший нечто, о чем лишь шепотом повествуют предания.
Выйдя из мечети, Ибн Халдун прошел мимо стены, уцелевшей от Соломонова храма.
Старые длиннобородые иудеи, не поднимая глаз из-под плотных полосатых покрывал, плакали навзрыд, протягивая к стене руки. Прибредшие сюда издалека, может быть из Кастилии или из немецких земель, голосили, вспоминая, сколько поколений из их народа стояло здесь, и ждало откровения, и ждало свершения в ответ на столько молитв и слез.
Бороды их были мокры. Глаз не было видно. Многие стояли перед стеной уже молча, только протягивая к ней руки, натруженные в далеких странах.
Отсюда Ибн Халдун пошел в мечеть Аль-Акса.
Она суровее, чем Куббат-ас-Сахра. Халиф построил ее на четыре года позже. Он построил ее в обветшалой базилике Юстиниана. Придал ей вид куба. Аль-Акса теперь казалась древнее, чем стройная мечеть Омара, но была просторней.
Здесь тоже трепетали незримые крылья легенд. В мерцающем радужном мареве свет лампад озлащал заветные святыни.
День длился среди святынь, преданий, паломников, огоньков свечей и нежных дымков ладана.
Ибн Халдун дошел до христианских храмов. Среди иноверцев он не чувствовал ни отчуждения, ни неприязни. Но они перед богом стояли с открытыми головами, а ему открыть голову на молитве было бы грехом. Всматривался, сравнивал, вспоминал о больших событиях на заре многих народов.
При входе в какую-то небольшую церковь он увидел два богатых надгробия. Могилы крестоносцев. Двух братьев. Двух королей иерусалимских Готфрида Бульонского и Болдуина Первого.
Он вглядывался в гербы на королевских щитах: на первый взгляд одинаковые, они утверждали единое происхождение братьев. Но, приметив различия, Ибн Халдун попытался их понять: в Андалусии и у короля Педро он узнал рыцарскую геральдику. Вдруг вспомнилась тамга Тимура, отчеканенная на пайцзе, – пирамидка из трех колец, не герб, а тавро. Клеймить скот!
Во все эти дни нарастало раздражение против того, что было и что он покинул в Дамаске.
Вглядываясь, вдумываясь, шел Ибн Халдун среди реликвий минувшей жизни. Как тень, следовал черный Нух.
Они бродили среди взволнованных, растроганных людей, и никто тут не кичился своей верой, но никто и не отрекался от нее. Различие вер не разобщало иерусалимлян.
– А вот доскакали б досюда степняки!.. – сказал Нух.
Ибн Халдуна давно удивляла способность Нуха понимать его мысли.
– Степняки?
– Да, если б доскакали…
– Что могли бы сюда принести завоеватели, кроме своей жестокости да силы для разрушения? Чему бы могли учить? Что сумели бы показать, кроме злобы? Ничего у них нет для созидания.
– И я о том же.
– Я так тебя и понял.
Здесь от времен Адама век за веком – как страница за страницей в Книге Бытия. Новая страница – продолжение предшествующей. А что сюда вписали бы завоеватели, случись им доскакать?..
– В Дамаске мы видели, господин, что делает завоеватель, ворвавшись в город. Цену золоту знают, а цену работе, чтоб из золота сделать вещь, не знают.
– Ты приметлив, Нух.
Похвала порадовала Нуха, он даже приостановился.
Здесь Ибн Халдун отпустил его готовить ужин. Нух сказал, прежде чем уйти:
– О господин, здесь у арабов обычай – моют ноги перед едой.
– Пророк Мухаммед тоже держался этого. Это еще от давних времен.
– Не ногами же едят?
– Но босыми садятся за трапезу.
На этом они расстались. Нух поспешил в хан, историк опять пошел бродить.
В памяти сменялось одно другим, о чем читал или слышал. День, полный воспоминаний о давних событиях.
Вернулся в Аль-Акса.
Спустился в обширное подземелье, дивясь могучим сводам, нависавшим над богомольцами, при горящих светильниках становившимися на третью молитву.
Когда уже перед вечером он возвращался в хан, его встретил встревоженный Нух.
– О господин!
– Что ты, Нух?
– Прибыл человек из каравана.
– Откуда?
– От Бостан бен Достана.
Ибн Халдун испуганно остановился.
– А что там?
– Он говорит, прибежал к вам, а мне ничего не говорит.
– Пойдем скорее.
Ибн Халдун шел по неровному проулку, где легко оступиться между канав и выбоин. Нух, не отставая, что-то рассказывал. В его слова Ибн Халдун не вслушивался, охваченный беспокойством и опасениями.
Но какое-то слово уловил и удивился:
– Что? Что?
– …мамлюки. Собеседники султана. Которых вы вырвали из когтей хромого злодея, ушли.
– Куда?
– Никому не сказавшись. Утром вернулись в хан со здешним караванщиком. Собрались, завьючили верблюдов и пошли. На Каир.
– Не попрощались…
– Тайком. Тишком.
– Зачем бы так?
– Поспешают. Поспешают.
– Чтоб раньше меня припасть к стопам султана!
В нем ожил закоренелый царедворец со всеми тревогами, коварствами, происками, без чего не устоишь ни у одного владыки, без чего жизнь при дворе не сладится.
– Чтоб прежде меня, Нух!..
– Я тогда был при вас, ничего этого не видел. Наши люди ничего из вашего им не дали.
– А они?
– Попытались было. Кое-что приглядели взять с собой. Нет, не дали ни одного вашего вьюка.
– Ладили б свое довезти. У них тоже немало…
– А вот мамлюкские вояки из стражей, которых Хромец вам прислал, не пошли. Остались. И нубиец с ними. Ждут вас. Боятся, не прогнали б вы их…
У ворот постоялого двора сидел, ожидая, мальчик Иса, приемыш караванщика Ганимада.
– Ты зачем пришел?
– О господин, много надо сказать.
– Встань и скажи.
– Была погоня. Прискакали ночью в тот хан, где я лежал. Отец оставил меня: я болел. Лихорадка. Дрожал, не спал, потел, ждал, чтобы она прошла. Лежу. Стук. Крики: «Открывай. От Повелителя!..» Я притаился. Привратник открыл. «Где караван?» – «Какой такой?» – «Тот, из Дамаска». – «Давно ушел». – «Куда?» – «А может, в Иерусалим, а может, в Александрию, я вслед не смотрел». Они еще кричали, топали, грозились. А хозяин им: «Зачем их задерживать, когда они показали пайцзу?» Тут воины оробели, что не догнали. Как звери, остервенели, хлещут лошадей, поскакали назад. На том и конец: не догнали. Они назад в Дамаск, а я, как велел отец, к вам. Сказать: «Не догнали!»
Ибн Халдун пробормотал молитву. Вытер ладонью лицо. С улыбкой посмотрел в лицо мальчику.
– Теперь придется тебе со мной идти в Каир.
– Так и отец велел.
– Ловок он!
– Еще бы! – с достоинством, с гордостью за Ганимада согласился его приемыш; опытный караванвожатый увел караван по каким-то боковым тропам. Теперь Бостан бен Достан дойдет до Феса. Дело сделано.
Словно за все его молитвы, раскаяния и покаяния ниспослано ему вознаграждение – эта добрая весть: письмо дойдет.
– И еще: отец велел вам отдать. Когда воины прискакали, я ее во рту спрятал. Вот она.
Мальчик достал и отдал Ибн Халдуну ту щербатую пайцзу с трещинкой, словно к ней прилип волосок.
Мальчик договорил:
– Отец сказал: незачем ей гулять по дорогам арабов.
Ибн Халдун вдоль трещинки разломил ее, подержал на ладони, подкидывая обе половинки, и бросил на иерусалимский двор под мозолистые ноги верблюдов.
Стамбул. Ташкент. 1970–1971