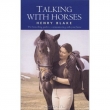Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 87 страниц)
УХО
Из Мараги Улугбек поехал большой торговой дорогой на Султанию. Вскоре пришлось остановиться: навстречу шли, теснясь, раздвинувшись во всю дорогу, войска. Обозы, обозные караулы, овечьи отары…
Густая рыжая пыль, тяжело, лениво поднимаясь, застилала округу, и само шествие войск, и всю даль во все стороны. Лишь кое-где, в разрывах волн пыли, вдруг возникали верблюжьи ряды караванов, чьи-то воздетые на древках бунчуки и знаки.
Это шествие тянулось по всей дороге. Нужны были бы часы, а может быть, и дни пути, чтобы его объехать либо переждать.
Кайиш-ата, прокашливаясь и утираясь, наскоро посовещался с военачальниками из сопровождавшего их караула и попросил царевича свернуть на объездную тропу, где встречных не предвиделось, куда и пыль похода не дотекала.
Все круто свернули, съехали с дороги вниз, как в русло иссякшего ручья. Пригнувшись, продрались под низко нависшими зарослями лоха, сплетшегося с лианами одичалых виноградников, и вскоре гул встречного похода заглох в стороне, небо прочистилось. Стезя, виясь из-под покрова лоз, выползала на открытые холмистые просторы, и безлюдные просторы открылись далеко вперед.
Ехать пришлось гуськом – то поодиночке, то по двое и не столь скоро, как обычно. Облака время от времени заслоняли солнце, но не омрачали светлого, погожего дня.
Ехали перекликаясь, перешучиваясь. Там, где удавалось пробираться в ряд втроем или вчетвером, не спеша разговаривали.
Обочь от Улугбека двигались воспитатель царевича Кайиш-ата и сопровождавший своего ученика историк Низам-аддин.
Улугбек сказал:
– А дедушка теперь где-то между армянами!
– Монголов с них сгоняет, – поучительно ответил Кайиш-ата, памятуя слова Тимура, накануне сказанные в Мараге, в келье царевичей.
Историк смолчал, покосившись на воспитателя.
Было за полдень, когда поперек дороги, спустившейся в овраги, пролег небольшой ручей, говорливо струившийся по камушкам, обмытым до голубизны.
Отдых казался преждевременным, но, попав на эту дорогу не по замышлению, а нежданно, стоянок заблаговременно нигде не подготовили, а потому решили стать здесь, не зная, будет ли впереди место удобнее этой котловины среди холмов.
Дорога отлого спускалась к ручью и так же отлого выходила из ручья на тот берег. Лишь вдали она круто взбиралась на холмы, выжженные засухой до желтизны, и там, по холмам, разбрелись белесые пни сплошной поруби, видно, в некие годы здесь рос густой лес, да кем-то начисто сведен, – может быть воинами Тимура в их минувшие приходы сюда. Только этот след и остался от людских посещений; все остальное – холмы, пригорки, взгорья безлюдствовало, безмолвствовало, миролюбиво, безмятежно распростершись под небом погожего дня.
Лишь над отлогим берегом, над лужайкой у воды, уцелели два древних дерева с узловатыми ветвями и редкой листвой. Но когда, ослабив подпруги, коней отвели пастись и на лужайке расстилали кошмы, в сени деревьев обнаружились сложенные из валунов очажки под котлы, а вдоль ручья там и сям в примятой траве оказались черные круги от чьих-то недавних кострищ. Путники, видно, издавна повадились отдыхать на этой тропе, а то и ночевать здесь, у слабенького, но свежего ручья.
Кайиш-ата насторожился: что за люди странствовали стороной от наезженных дорог, кому полюбилась эта извилистая обочина? Еще суровее стал он, когда в траве около свежего кострища подвернулась связка новеньких подков – семь подков, связанных ремешком.
Как матерый кабан, опасливо вступая в неизведанную лощину, внюхивается, вглядывается, так и Кайиш-ата привередливо оглядывал ближнюю округу: не по нраву ему эта ложбинка у ручья, открытая со всех сторон беззащитная лужайка. Вокруг горбились пригорки, среди пней поруби кое-где торчали кустарнички. Стан царевича Улугбека оказывался здесь словно на дне котла. Но что поделаешь – вперед послали воинов и слуг подыскать на незнакомой дороге места последующих стоянок, ибо по всему видно, что еще дня два предстояло пробираться этой дорожкой среди междугорий, доколе не прочистится от обозов большая дорога.
Слуги поехали, а пока вперед идти некуда, и Кайиш-ата приказал становиться здесь на ночь.
Приказал становиться, но душа не лежала к этой котловине: не для стана, для разбойничьего привала хороша такая укромная берлога. И старый воин беспокойно и строго приглядывал за всем, блюдя наказ повелителя бережно доставить царевича под сень бабушкиной опеки, в Султанию.
Пока устраивались, Улугбеку постелили одеяла поверх кошмы, и он стоял на постели босой, распахнувшийся, беседуя с историком и поглядывая на хлопоты слуг и воинов. Улугбека тешила деловитая толчея на дорожных привалах, пока устанавливались шатры, собирались и отправлялись на свои места дозоры и караулы. С хрустом и треском наламывалось для очагов сухое топливо, а самые котлы вваливались в ручей для мытья. Окрестность проснулась, очнулась, словно обрела новый смысл и зажила новой жизнью, ибо в ее лоно пришло много людей, и у каждого нашлось здесь столько неотложных дел и столько забот.
В черном лоснящемся халате, узко затянутом по бедрам и широко раскрытом поверх пояса, стараясь не сутулиться, Кайиш-ата то являлся к Улугбеку, то снова спешил приглядеть за всем, всем распорядиться, каждого поместить в должное место.
Но когда он поехал осмотреть караулы, улучив этот момент, историк не без ехидства усмехнулся вслед воспитателю:
– «Согнать монголов с армян»! Это не мух с меда сдунуть.
– Много хлопот у дедушки! – откликнулся Улугбек.
– Вчера повелитель изволил сказать о монголах, будто это дикость какая-то!
– А что?
– Над ханом Чингизом есть мавзолей, а никакой не бугор. Уж это зря мавзолей там есть! Почему повелитель это бугром величает? И еще у них сотни монастырей. Будды в монастырях. Свитки древнейших рукописаний. Здания нелепые, причудливые, но тоже есть. И как ни нелепы, а величественны.
Улугбек вспомнил слова Тимура, слова жгучей досады на монгольских захватчиков. Там, в Мараге, стоя у стены в келье царевичей, историк Низам-аддин тоже внимал этим словам. Низам-аддина поразили несправедливые суждения повелителя:
«Разве он не знал, что еще за сотни лет до того сложены монастыри и храмы в кочевой монгольской степи, написаны неисчислимые свитки священных преданий, сказаний, повестей. В монастырях и в храмах по стенам, по коже, по бумаге изображены затейливые, как сны, события, чудовища, обитатели небес и недр, соитие блаженных душ и мятежных тел. Руками самозабвенных мастеров высечены из камня, отлиты из бронзы, выточены из кости образы самого Будды, пленительных бодисатв, мудрецов, отшельников, подвижников, блудниц. Из сей сокровищницы ничего не вывезли, никому не дали, ни одному из покоренных народов, никому ничего не дали из этой сокровищницы монгольские завоеватели. Но об этой сокровищнице не мог не знать Тимур, всю свою молодость проживший среди монгольской знати. Не мог не знать!»
Мимо своих монастырей прошли по родным степям монголы в чужие степи на дороги войн, на завоевание вселенной. Будда не вдел ногу в стремя нашествия. Он лишь проводил их долгим взглядом, глядя вслед людской суете и корысти, и опустил глаза для созерцания и тысячелетних раздумий в тишине и уединении степных монастырей и храмов.
Кочевая степь ушла на завоевание вселенной, и не Будда, а сотни шаманов, рокоча хвостатыми бубнами, сопутствовали злу, вопреки незыблемой мудрости мира.
«Неужели, – размышлял историк, – шаманские пляски заслонили от повелителя ту далекую Монголию, которой он не видел, но о славе которой не мог не слышать среди спесивых, хвастливых, чванливых монгольских владык? Дым, смешавшись с пылью, застилал небеса, когда шли монгольские полчища, но с тех пор, за сто лет, в стране Джагатая пыль нашествий давно осела. Зачем же он закрывал глаза, когда мог видеть тысячелетнюю мудрость монголов?»
Правда, благочестивый историк Низам-аддин не почитал мудростью нечестивые шаманские шабаши, и самый буддизм представлялся ему мерзким язычеством. Но купцы, бывавшие в монгольской степи, на расспросы историка поведывали о монастырях, о свитках, о непонятной красоте, притаившейся, пригревшейся среди кочевых просторов, как змея в камнях.
«Разве Тимуру не случалось слышать такие же рассказы от очевидцев? Нет, он знал, но пренебрег истиной!»
Историк не понимал, что воин смотрит не на наряды врагов, а на их оружие, что воин не глядит на убранство врагов, дабы оно не мешало ему видеть меч или копье в их руках, не внемлет слову врагов, дабы оно не мешало ему понять их замыслы.
– Монголов стряхнуть – не мух с меда сдунуть, – повторил Низам-аддин.
– Философствует, – полупрезрительно, полунасмешливо отозвался о своем воспитателе Улугбек, явно подражая историку.
– Невежда! Сорок лет состоит при Мече Справедливости, а на деле как был, так и есть – степняк! Какова была голова, и поныне такова…
– А дедушка к нему милостив. Видно, есть за что: дедушка попусту не жалует!
– Повелителю мечи нужны, а от меча мечтаний не требуется; ни чувств, ни мыслей.
Беспрекословное, бездумное повиновение, установленное в войсках, историку казалось низменным. Он с неприязнью, с пренебрежением относился к военачальникам и соратникам Тимура, за которых за всех мыслил один Тимур. Но чем острее становилась в историке эта неприязнь к бездумным соратникам повелителя, тем пышнее выражал он им свое восхищение. Всю дорогу он искал самые обольстительные слова, когда случалось говорить даже с Кайиш-атой, и тем сильнее ненавидел этого степняка, замечая его равнодушие к велеречию, безразличие к самому историку, – даже седло он, пожалуй, ценил выше!
– А дедушка все равно стряхнет! – вдруг убежденно и весело, повернувшись лицом куда-то в сторону большой дороги, сказал Улугбек.
– Ну да! Кто же сомневается! – торопливо согласился историк.
Историк понимал, что, стряхивая монголов с плеч народов, некогда покоренных монголами, Тимур возлагал на эти плечи свое бремя. А было ли тюркское бремя легче монгольского, Низам-аддин не задумывался: он жил не среди чуждых ему народов, а у стремени повелителя, коего величал Мечом Справедливости, хотя, выходцу из разоренного Ирана, ему и Тимур был чужд.
Низам-аддин, хотя и не писал своей истории в походе, памятливо примечал многое в окружающей походной жизни, чтобы в спокойном месте, затворившись, писать книгу, которую намеревался назвать «Зафар-нома» «Книга побед». Для описания дел и слов повелителя историк выискивал в своей памяти примеры и прообразы из давних событий, из дел и речений давно минувших мудрецов и владык. Размышляя о делах и словах повелителя, историк отвергал все, что не согласовалось и не имело подобия в деяниях и в речениях великих мужей древности. И, не желая смешиваться с толпой неграмотных, грубых сподвижников повелителя, историк терпеливо покрывал свою голову чалмой, обременительной на глухих пыльных дорогах, а удобную в пути войлочную шапку не желал надеть, дабы не уравнять себя с Кайиш-атой, покрытым, как все на походе, простою шапкой. Историк был убежден, что его ум не зависит ни от каких велений владык и времени. Был убежден, что лишь его ухо, ухо историка, слышит сердцебиение своего времени. Он не задумывался, достаточно ли только слуха, чтобы понять меру сил и здоровья людей и сокровенный смысл событий: ведь столь часто случается, что сердце бьется размеренно и спокойно, когда болезнь или кинжал уже готовы остановить его. Он доверял лишь своему уху: оно было для него единственным мерилом.
Кайиш-ата тоже не подозревал, что по чужой, а не по своей воле живет и воинствует всю свою жизнь, что по велению повелителя, а не по влечению сердца, не по склонности всех своих сил живет он. Он и не подозревал, что повиновение повелителю давно заменило в нем все собственные желания. Он искренне верил, что недаром шумели годы походов, сотни битв и схваток, когда сердце Тимура и сердца его воинов бились одним биением. Кайиш-ате казалось, что с годами у всего огромного воинства стало биться одно, единое для всех, сердце: все понимали друг друга со взгляда, с одного движения, у всех сложились общие привычки, склонности, никто никому ни в чем не хотел уступить, никто не мог ни отстать, ни отгородиться. Тем и крепла сила этого из десятков тысяч сложившегося войска. Годы понадобились на это. Но чем суровее и опаснее были те годы, тем крепче соединяли они людей между собой. Историк, сторонний наблюдатель событий, не постигал этой главной истины, определявшей исход многих битв и побед Тимура, ибо редко была у завоевателя другая опора в чужих пределах, среди ненависти чужого народа.
Такие, склепанные в одну махину, полчища воинов шли за своим вождем, подминая страну за страной, подавляя народ за народом, и не задумывались, не было ли бедой для других то, что для них самих было благом.
Да и разумел ли кто-нибудь тогда такое благо, которое могло бы стать благом для всех?
Во вселенной многие жаждали могущества. Некоторые овладевали могуществом. Но никто из могущественнейших не догадывался в те времена, что величайшим могуществом мог овладеть лишь тот, кто, упрочивая свое благо, другим народам нес не зло, а такое же благо: могущество крепло не только силой своих плеч, но поддержкой друзей, готовых подпереть своими плечами друга, если одному не хватит сил для тяжких нош, для больших подвигов.
Этого не знал македонец Александр Двурогий, хотя в поисках блага для себя он сплотил десятки тысяч отважных воинов. Он покорял многие страны и победоносно прошел через весь мир, какой только мог охватить своим разумом. Но воинства его схлынули, как волны океана с прибрежных скал, а скалы остались прежними.
Этого не знал Чингиз-хан, добывая блага своим соплеменникам и в чаянии тех благ соединяя монгольские племена и роды. Но монгольское благо завоевателей было злом для тюрков, для славян, для иранцев, для всех иноплеменников, до кого бы ни дотянулись монгольские копья, до кого бы ни долетели смертельные стрелы, – для всех, кто стиснул зубы под тягостью монгольского блага.
Тимур был уверен, что знает благо, насущное для тюрков. Монгольское благо для них было злом, и это зло надлежало искоренить, возвратить вселенную ко временам благоденствия, каким Тимуру представлялась жизнь до монгольских нашествий. Он приметил трещину в монгольском щите и ударил по ней, будя ненависть своего народа к чужестранным завоевателям. И, сокрушая монгольское иго, он полагал, что творит благо для всех. Он был беспощаден с теми, кто это благо считал бедой. Историк Низам-аддин походы Тимура почитал за благо.
Трещиной в щите Александра Двурогого и в щите Чингиза, как и во всех щитах прочих завоевателей, было то зло, какое они несли покоренным народам. Это зло порождало ненависть, и она, год за годом разрастаясь, расширяла трещину в щите завоевателя.
Ненависть, как зерно, могущественно прорастала на угнетенной земле, прорастала годами, десятилетиями, столетиями, и в свой срок росток вдруг отвердевал мечом и пробивал щит завоевателя, свершая благой подвиг, ибо освобождение от угнетателя всегда есть благо и добро.
Ненависть порабощенных, угнетенных, покоренных народов и есть та трещина в щите угнетателя, которая расширяется, доколе не разломит щит, как бы крепок и велик он ни был!
Так за двадцать лет до того на Куликовом поле Дмитрий Донской пробил выкованный Чингизом щит Золотой Орды, полтора столетия подавлявшей Русь.
Так Ян Гус и Ян Жижка прозрели трещину в перехлестнутом белым крестом, в прокопченном ладаном щите римского папы, поднятом королем Сигизмундом над добрым народом Чехии, и готовились ударить по католическому щиту в те годы, когда Тимур наносил удар за ударом по щиту Чингиза, придавившему страны Азии. Щит Чингиза трещал и разваливался под яростными ударами тюрка Тимура.
Но Дмитрий Донской, Ян Гус и Ян Жижка на своих щитах поднимали заповедную мечту соплеменников и соотечественников, а самаркандский щит Тимура множеству вольнолюбивых тюрков казался тяжелее, чем обветшалый щит Чингиза, множеству тюрков, мечтавших жить на своей земле без чужеземных щитов над головой, жить хозяевами родной земли, своей отчизны. Но этому не внимало ухо иранца Низам-аддина, прижатое к стремени повелителя.
Не раз случалось, что меч Тимура, занесенный во имя сокрушения монголов, ударялся то в иранские, то в тюркские, то в иные щиты несговорчивых, непокорных народов. И Тимур неистовствовал, впадая в ярость от того, как непонятливы все эти народы, не желавшие признать, что щит Чингиза есть зло, а щит Тимура – благо.
* * *
Из неприметных расселин, таясь в безмолвных холмах, хозяева своей земли следили за караваном Кайиш-аты. Караван стал на дне котловины у прозрачного ручейка. Старик в белой чалме, в светлом сером халате беседовал с мальчиком, стоящим среди одеял. По напускной важности старика хозяева поняли, что не он главный в этом стане. Мальчик был одет нарочито как все воины на походе, но мальчик не воин, и на него не обратили внимания. Все остальные суетились, двигались, каждый чем-то был занят и увлечен, и хозяевам долго не удавалось понять, кто же главный там, среди этого муравейника. Они видели высокого старика, сутулого, но вдруг распрямлявшегося, что-то кричавшего то в одном, то в другом месте стана. Они видели и сосчитали воинов, несших караул и свободных, видели семерых воинов, отползших от суеты в боковую ложбинку и там, под сенью редких кустарников, расположившихся на разостланных халатах. Все свое оружие они сложили в стороне, засучили рукава и предались отдыху, занявшись игрой в кости. Только один из них иногда вставал и отходил к десятку лошадей, стреноженных, отпущенных попастись вдоль ручья, где трава посвежее. Стоило этому воину подняться на холм, пройтись по его колючей от засохшей травы макушке, и воин увидел бы за этим холмом такую же ложбинку, в ложбинке лошадей, а возле – несколько десятков хозяев своей земли, притулившихся в укромном уединении этого места и готовых снять стрелой каждого, кто заглянет к ним. Однако из стана никому не было досуга бродить по окрестным холмам, искать и разглядывать соседние ложбинки: благо есть место, где позволено постоять станом.
Стан охранялся. На всех тропинках стали караулы и засады, словно нападающие не могут миновать тропинки. Словно люди не ходят по целинной земле. Незащищенным оставили русло ручья, словно маленький, коням по щиколотку, прозрачный ручеек, устланный мелкой галькой, – не дорога для тех, кто вздумает обойти караулы.
Хозяева своей земли следили за станом. Они видели слуг, увлеченных возней с котлами, с очагами, с топливом. Среди слуг были и соотечественники хозяев этой земли, – их легко было опознать по рыжим высоким колпакам, по синим казакинам, опоясанным красными кушаками. Долговязый, сутулый старик на поджаром коне обскакал все тропинки вокруг, оглядел, хорошо ли стоят караулы. Хорошо стоят, правильно, не подпустят врага к стану, если враг пойдет на них по дороге, если пойдет правильным строем, охраняя крыльями голову, по заветам хана Чингиза. Даже если б среди ночи, пренебрегая тьмой, на стан напала вражеская конница, в стане успели бы подняться на оборону. Опытный воин расставил караулы и засады и оборонил свой стан на глухой дороге. Но хозяева своей земли высматривали не воинскую сметку, не силу, а слабость бывалого воина.
А семеро воинов, ускользнувших из-под присмотра военачальников, – а может быть, это была засада, засланная сюда военачальником? – увлеченно играли в кости.
Среди воинов, данных в охрану царевича Улугбека, состояла и та сотня из войск Султан-Хусейна, что ходила в Марагу ловить разбойников, да вернулась с пустыми руками. А в этой сотне шел и тот десяток, где каршинец Заяц осенью проиграл свое ухо опасному игроку по кличке Милостивец. С тех пор всю зиму и всю весну по всей сотне не переставали подтрунивать над незадачливым Зайцем: стыд и срам воину, не способному отыграть назад собственное свое ухо! А Милостивец во все это время мытарил Зайца: охотно вступал в игру, но, едва каршинец ставил на кон ухо, отвиливал от игры, ловя всякий повод, прикидываясь, что вдруг вспомнил о неотложном деле, что кто-то его кликнул, и прерывал игру, вставал, поглубже засовывая за пазуху или бережно и медлительно закручивая в кушак пресловутое ухо, давно иссохшее, завернутое в затвердевшую тряпицу. Заяц же, помышляя лишь об отыгрыше, лишился в игре всякого благоразумия, всякой осмотрительности. Он не раз пытался поставить на кон свое уцелевшее ухо, мечтая лишь отыграть отрезанное. Но Милостивец, втягивая Зайца в игру, шел лишь на простые ставки – на мелкую походную добычу, довольный, что отчаяние туманит голову Зайцу, что, в запале наращивая ставки, он всегда играет до полного проигрыша. Вокруг всегда собиралась толпа воинов, знавших обоих игроков. Каждый раз, едва заводилась игра, окружавшие заключали между собой условия, ставя одни на Зайца, другие – на Милостивца, словно не двое отважных воинов Повелителя Вселенной, а два перепела бились смертным боем!
Уселись они и в этот день в стороне от толчеи, в затишье, пометать кости, попытать удач. Давно не выпадало случая поиграть: то кому-то из них случалось маяться в карауле, то одного посылали в разъезд, а другого ставили в караул, то оба попадали в караул, но в разные концы стана. Наконец выпал денек спокойно поиграть.
Расстелили попону. Сели. Подогнули подолы халатов под колени…
– Так… – сказал Милостивец. – Что ж делать?
– Начнем! – прикидываясь спокойным, откликнулся Заяц.
– А ставка?
– Не к чему время тянуть, – ставлю ухо на ухо!
– На отыгрыш? А как ценишь ухо?
– Говорю ж: ухо на ухо!
– Нет. То ухо мне на большой ставке досталось. А толку что? Держу, держу его при себе, а выкупа нет. А нет выкупа – оно в цене падает. Чего стоит ухо, когда у тебя сил нет его ни откупить, ни отыграть? Второе выиграю, два уха за пазухой понесу, а польза есть? Нет. Этак возьми два ореха, да и носи за пазухой. И то: на орехи хоть кто-нибудь польстится, а ухо твое кого прельстит, когда ты его откупить не в силах?
Оскорбительные слова! Вскочить бы, да меч наружу, да отстоять бы честь, смыть бы кровью хулу!
Хулу-то смоешь, а ухо так и останется неотыгранным, неоткупленным! Тут таков оборот, что и кровью пятна не смоешь. Надо смолчать, стерпеть, снести срам до отыгрыша. А уж потом посчитаться с хулителем за дерзость, за весь позор. Тогда, если и накажут, по обычаю, кровью за кровь соратника, и на казнь можно стать с достоинством!
Заяц стерпел, миролюбиво спросил:
– Как же ты его ценишь?
– Срезанное?
– Ты же говоришь, оно дороже моего целого!
– Дороже! Ему цена… – Милостивец, прищурившись, словно все подсчитал, назвал наконец такую цену, что все ахнули: «Ой-вой, вот как дорожится!»
Заяц, кое-чем поживившийся в Мараге, держал все накопленное серебро наготове за пазухой.
– Может, скинешь да без игры дашь выкупить?
– Выкупай! Но скинуть – не скину.
– Столько дать не могу.
– Играй. Ставь на половину. Два раза выиграешь – твое счастье. Проиграешь – эту половину серебром отдашь.
– А если свое ухо выставлю?
– Приму за полцены. К живому уху доложи серебром. До полной цены срезанного. Выиграю – у меня два твоих уха будет, а что в них за корысть? Полцены доложи серебром, при выигрыше мне хоть капля серебра останется. А без этого что?
– Ох, дорожишься! – заколебался Заяц.
Но, давно приглядевшись к Зайцу, в игру вмешался десятник Дагал:
– Прими-ка меня в игру.
– Что ставишь?
– Ухо почем считаешь?
– Я сказал.
– Скинь, пойду на ухо!
– А сколько поставишь?
– Этого хватит? – спросил Дагал, кладя на кон золотую, замысловатую, как кружево, серьгу, украшенную подвесками из лалов.
– Что ж одну кладешь? Парой им было бы веселее!
– Хватит!
Прежде чем дать противнику кости, Милостивец наметанным глазом осмотрел серьгу, подкинул ее на ладони и, дабы соблюсти порядок, заспорил:
– Что ж это? Одна серьга! За такое ухо!
– Какое такое? Хозяин с осени, за всю зиму, не осилил его выкупить. Чего ж оно стоит?
Милостивец не мог опровергнуть эту истину, а Заяц с похолодевшими губами терпел посрамленье: о его собственном ухе говорят, как о какой-то кызылбашской серьге! О аллах, сколько серег, да и колец, да и кое-чего покраше прошло через руки хожалого воина, а все не впрок! Кто-то копит, собирает, гремит в поясе и кольцами и запястьями и под седло заправляет лоскуты парчи, а у Зайца добро не держится. Как бы эта добыча была тут кстати! Случилось бы в Армению пойти, небось снова кое-что к рукам пристало бы. А тут вон, поди, другие пошли в Армению, а Зайца – назад, на голую дорогу. Пока вернешься да достигнешь той Армении, что же там останется!..
Заяц все же вмешался в спор, заявив о своем праве метать первым:
– Я еще не отказался; ставлю в полцены правое ухо, докладываю серебром.
– Наш почтеннейший десятник принял мою цену. Уговор у нас твердый. Ему и метать.
Заяц покорно уступил, пощупывая закрученную в поясе кое-какую мелочь. Как ни щупал, перекрыть ставку Дагала он не мог: кружевная серьга с лаловыми подвесками – большая ставка.
Дагал взял кости и метнул.
Покатившись, они легли было, но одна из них, отскочив чуть в сторону, ударилась о складку кошмы и задержалась на ребре.
Заяц на лету подсчитал: «Семь!»
Но кость с ребра легла на бок: «Пять!»
Заяц обрадовался: «Проиграл!» Он сам не понимал, почему ему было бы легче, если б его ухо осталось за прежним хозяином. «Пять! Меньше не бывает! Прощай, серьга, почтеннейший десятник!»
Сощурившись, чтоб скрыть ликующий взгляд, метнул Милостивец.
Кости раскатились, но вдруг, как живые, сбежались навстречу друг дружке и легли рядом, – невелико выпавшее Дагалу число – пять. Но изредка выпадает и меньшее: «Четыре!»
Дагал протянул черную ладонь, и Милостивец, хмуро порывшись за пазухой, вынул ухо и положил десятнику на ладонь.
Дагал шутливо подкинул на ладони заскорузлую плоскую тряпочку, содержавшую ухо каршинца. Ухо, некогда внимавшее колыбельным песенкам, соловьиным свистам, шепотам милых красоток, громоподобным воинским кличам, мольбам поверженных врагов и воплям пленниц, ухо воина, личное ухо Зайца, стало вдруг собственностью десятника Дагала, и он шутливо подкидывал его на ладони, словно прицениваясь, чего оно теперь стоит, это его имущество.
Заяц замер: в новых руках это ухо казалось ему намного дальше, чем прежде. Втайне он надеялся, что, выиграв у него, набрав в разных играх вдесятеро больше, чем можно запросить за ухо, Милостивец смилостивится в возвратит ухо природному хозяину, но теперь, в руках Дагала, этот выигрыш оказался наравне с любой вещицей, кидаемой на кон, и он вправе за нее спросить, сколько бы ни взбрело в голову.
В довершение позора, зрители, дотоле молча толпившиеся вокруг, теперь обрели голоса и перешучивались насчет Зайца. Что-то кричали ему такое срамное и обидное, что и понимать их не хотелось!
Ерзая на коленях по потной попоне, Заяц принимался то скрести спину, то снова щупал в поясе убогую марагскую добычу и не знал, что делать, как вдруг его язык, будто сам по себе, выговорил:
– А если б мне выкупить, почтеннейший?
– Можно. Сменяю. Стоит оно – доброго коня. Давай сменяю на коня.
– Коня?!
– И не из табунов. А жеребца под седлом. Возьму. Пока не приведешь, на другую цену не согласен. Все слыхали мое слово, братья?
И воины, столпившиеся вокруг, наперебой подтвердили:
– Слыхали слово!
Это был непреклонный уговор, и Заяц понял, что слово, сказанное Дагалом, – булатное слово. Надежда на отыгрыш ушла, наступило время несмываемого позора, и этому позору не будет конца. И что бы он ни свершал, какими бы подвигами ни отличился, навсегда останется позорищем и посмешищем всего войска одноухий воин, ненадежный для игры, слабый для богатой добычи. Он бы пошел на все, стал бы самым свирепым и самым отважным из всего войска, но это была бы служба Повелителю Вселенной, а ухо перекатывалось на ладони десятника. И никакой кровью, никакой отвагой не вырвать его назад из этой растопыренной ладони, шутливо перекатывающей почернелую, плоскую заветную тряпицу.
Но Заяц попытался еще раз:
– Я бы поставил на кон другое ухо.
– При всех сказано: ставь коня. Но если очень желаешь, соглашусь: ставь ухо на ухо, а коня в придачу… Коня отдашь до осени. Не повезет взять коня в битве, выкупи у тех, кому повезет, а как пойдем на зимовку, приведешь мне коня. При всех поклянешься привести, – я поверю, подожду.
– Клянусь!
– Ухо на ухо, коня в придачу?
И мертвеющими губами Заяц повторил при всех:
– Коня в придачу…
В это время кто-то догадался, что подошло время побывать у котлов. Все давно проголодались: выехали до света, а теперь солнце уже клонилось к вечеру. Прервав игру, пошли к котлам. А когда наступало время котлов, вспоминалось давнее прозвище Зайца, приставшее к нему еще в юности, в Каршинской степи, – Пузо. Он устремлялся к котлам так скоро и такими легчайшими шагами, что раньше всех возникал перед поварами и кашеварами. Но встать раньше десятника не посмел.
Дагал добыл у повара баранью кость и с завидной ловкостью, одним рывком губ, сдернул с нее начисто все мясо.
Воины, спеша угодить десятнику, одобрительно засмеялись.
Дагал же, словно совершив удалой подвиг, взял еще одну кость. Рванул мясо, но оно не поддалось. Прикусил его покрепче и еще рванул. И опять ничего не вышло.
Сердито он вернул кость повару:
– Что ж, сырым потчуешь? Сперва надо допечь, а уж тогда и воинов потчевать.
Повар оправдывался:
– Баран больно жилист. Тут не своего стада берешь, – хватаешь, что попадется. Не самаркандская баранина, не с Гиссарских лужков. Тут, бывает, и не разберешь: козел козлом, а зовется бараном.
Но Дагал, наметившись на новую кость, поучительно напомнил:
– У хорошего повара и козел слаще дыни!
– Истинно. Да ведь жилист! Что ж мне, эту кость царевичу подать, а вам ляжку?..
Пока ели, стемнело.
Кайиш-ата беспокойно поглядывал, угодят ли царевичу повара, – старику впервые выпала забота об Улугбеке, – не при повелителе, не под крылом у бабушки, а в чистой степи вся забота обо всем свалилась на одного воспитателя.
Историк затребовал было каких-то разносолов, но Кайиш-ата беззастенчиво напомнил ученому, что в степи и в походе городским прихотям потакать не будет. А Улугбек радовался грубой еде, ибо все простое, воинское напоминало ему привычки деда. И эти повадки Улугбека примиряли воспитателя с воспитанником.
Пока совсем не смерклось, постелили постели. Воины разлеглись по обе стороны ручья, поближе к прохладе.
Кайиш-ата еще раз поехал проверить караулы. Стан затихал, стала слышна какая-то степная птица, попискивавшая невдалеке, среди холмов.
Уже совсем стемнело, и дремота овладела людьми, и то там, то тут раздавались сонные вздохи, всхлипывания, всхрапы… Птица смолкла. Высоко над головой сплетались, переливаясь, созвездия. Еще попищала и вскоре опять смолкла…