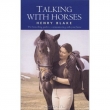Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 87 страниц)
СТАН
Утром Тимур прибыл в Чинаровый сад, проведать семью.
Конюхи отвели лошадей, расседлали и принялись обтирать их шерстяными тряпками, зная, что еще немало придется походить этим коням за долгий день.
Здесь прежде стоял старинный, построенный тебризскими зодчими, удобный дворец Ульджайту-хана. Но Мираншах приказал снести старый дворец, не посчитавшись с тем, что Тимуру он нравился, что Тимур любил в нем останавливаться, когда бывал в этих краях. Старый дворец разломали, хотя, сложенный из крепких квадратных плит, он простоял бы еще тысячу лет.
Тимур придирчиво осмотрел новое строение, воздвигнутое Мираншахом на прежнем месте: оно было хило, вытянуто кверху, чтобы представлялось высоким, и от той высоты здание выглядело еще менее прочным, – казалось, если пнуть эту стену сапогом, она разлетится под ударом, как гнилая дверь в убогой хижине. Все здесь пестро, – не только потолки расписаны, но и самые столбы резные, поверх резьбы тоже были расписаны во все цвета, будто это не дворец правителя, а москательный ряд, где торгуют красками.
Не было порядка и в убранстве комнат. В большой зале настелили всяких ковров, где рядом с темным, как ночной сад, туркменским ковром лежал покрытый зелеными, желтыми и киноварными узорами здешний ковер, а с краю протянулся царственно белый, тонко затканный алыми знаками какого-то неведомого Тимуру мастерства. «Будто образцы товаров выставил напоказ!» сердито покосился Тимур.
Он вошел в помещения царевичей, где его еще не ждали.
Поэтому он застал всех врасплох и радовался, что видит повседневную жизнь милых ему внуков, которую от него всегда спешили заслонить богатыми уборами и чинными обычаями.
Улугбек с Ибрагимом сидели в простеньких халатиках, занимаясь со стариком учителем.
– Уже приступили? – спросил дед.
– Бабушка велела. Сегодня начали! – ответил Ибрагим.
– А без бабушки… Самим не хотелось?
Учитель стоял, согнувшись у стены, охваченный ознобом перед лицом столь опасного посетителя. Но Тимур даже не взглянул на него.
– Знаний надо самим желать. Тогда настигнете желаемое. Кого принуждают, кто идет нехотя, тот ничего не настигнет.
– Не настигнет или не достигнет, дедушка? – лукаво спросил Улугбек.
– Это одно и то же! – строго ответил дед. – Знания тоже норовят выскользнуть, если их не держать крепко. Чуть ослабил их, они и выскользнут. Как ночные бабочки!
И, не дожидаясь ответа от пристыженного Улугбека, Тимур пошел дальше.
Пока он дошел до комнат, где устроились его жены, там, узнав о его прибытии, успели приготовиться. Он застал всех приодетыми, собравшимися в большой зале, залитой белым осенним солнцем, отчего шелка и шитье нарядов сверкали особенно ослепительно.
Великая госпожа Сарай-Мульк-ханым не без труда разместила обширный гарем в тесном и нескладном дворце Чинарового сада.
Она знала, что размещаются в саду ненадолго, что осень в Султании рано кончается, что зиму зимовать здесь не будут, но огромный городской дворец был еще занят, – там один, в маленьком чулане, сидел Мираншах.
Великая госпожа сама перекладывала из котла на блюдо пропитание Мираншаху и отсылала его через весь город под присмотром своих стражей, чтоб между ее котлом и устами низвергнутого правителя это блюдо не побывало в ненадежных руках: за жизнь Мираншаха она отвечала перед Тимуром, если Мираншах угаснет от яда, а не от меча.
Халиль-Султан уже не раз заговаривал с бабушкой о своем несчастном отце. Сарай-Мульк-ханым знала, что нежной любви к отцу у Халиля нет, что ни воинскими подвигами отец не стяжал сыновнего уважения, ни родительскими заботами не пробудил в Халиле любви к себе, но Халиль был сыном Мираншаха и не желал отстраняться от отца в тяжелые дни его жизни.
Халиль уже не раз заговаривал, прося заступничества великой госпожи за отца перед дедом. Другие сыновья Мираншаха, робея перед властной бабкой, не смели об этом ее просить, а только пытались услугами и послушанием расположить ее к себе.
Великая госпожа хорошо понимала мальчиков, но отмалчивалась. Лишь однажды она позвала к себе ближних советников мужа, членов его немноголюдного Великого совета, и расспрашивала их о делах Мираншаха.
Но ни осанистый, украшенный пышной бородой, говорящий тихим, ласковым голосом Шах-Мелик, ни длинный, жилистый, узколобый и длинноносый Шейх-Нур-аддин не смогли ничего сказать ей такото, чего она не знала бы сама. Лишь их намерения были ей любопытны, но своих намерений они еще не могли высказать, ибо не знали, в чем обвинит Мираншаха Тимур.
– Сами видите, великая госпожа, – говорил Шах-Мелик, – государь молился, отдыхал в тишине обители, его высокая мысль еще не снизошла к деяниям мирзы Мираншаха, а предугадать мысли великого государя нет возможности.
– А не жаль ли вам царевича, ведь он сын вашего повелителя?
– О великая госпожа! Мы смеем взывать лишь к разуму повелителя, но перед разумом его все равны – доблестный воин ли, сын ли, амир ли, – разум государя ко всем равно взыскателен, а путь к его сердцу вам, великая госпожа, знаком более, чем нам, смиренным воинам победоноснейшего из завоевателей, – возразил ей Шах-Мелик.
– Эх! Когда он спросит, мы ответим; а что ответим, увидим, когда он спросит, – объяснил ей Шейх-Нур-аддии, позвякивая оружием, с коим не расставался даже в ее покоях, где после его ухода долго пахло лошадьми и кожами.
Эти ответы ближайших соратников мужа не могли успокоить Сарай-Мульк-ханым. Если б дело было ясным, они отвечали бы ей яснее. Значит, Тимур замышляет, обдумывает, готовит что-то такое, о чем не желает еще ни говорить, ни советоваться ни с кем. Она знала, что обратись к нему по такому делу, вызовешь его гнев, долгую немилость, когда он будет месяцами избегать встреч с ней, отклонять ее приглашения, выказывать ей равнодушие щедрым вниманием к какой-нибудь ненавистной ей избраннице. Так много раз бывало, если ей случалось раздосадовать его: он находил какую-нибудь красотку, устраивал празднества в ее честь, осыпал ее дарами и милостями, разбивал для нее сады или строил дворцы и потом говорил великой госпоже: «Здорова ли ты, царица, из-за свадьбы мне было некогда тебя навестить».
Она знала, что ее покорность не отвратит Тимура от других его жен, наложниц или пленниц, но ей было спокойнее, когда увлечения наложницами или пленницами чередовались по извечному обычаю, по мужской прихоти, по праву господина, а не по ее оплошности.
Вот почему она отмалчивалась, когда Халиль взирал на нее печальными глазами и даже когда заговаривал с ней о своем отце.
Спрашивая о здоровье, о детях или внуках, Тимур задерживался то с одной, то с другой из цариц.
Великая госпожа сделала шаг навстречу мужу, но вдруг, словно очнулась от какой-то мысли, чуть попятилась и, колеблясь, замерла. Уже не первый раз она упускала случай заговорить с ним. Этого разговора очень добивался и очень ждал Халиль-Султан.
Тимур заговорил, глядя на нее обычным, не строгим, но и ласковым, чуть пренебрежительным взглядом. И великая госпожа лишь отвечала на вопросы, так и не решившись просить повелителя посетить ее комнаты.
Она помыкнулась было заговорить с Тимуром, когда он еще стоял с ней рядом, осведомляясь у Туман-аги, хорошо ли ей здесь, но он отошел к оживленной Тукель-ханым, успевшей натащить в свои комнаты лучшие вещи со всего дворца, пока другие едва управлялись с распаковкой привезенного.
Тукель-ханым отвечала на его вопросы:
– Благодарствуем, государь. Устроились. При здешней бедности нелегко устроить обитель, достойную вашего посещения, государь, но поэты говорят: «Преданное сердце любящей жены украшает даже нищую лачугу».
– Поэты? Они много мусора валят под копыта наших коней! – ответил ей Тимур, смутно припомнив что-то слышанное от чтеца, какие-то искательные послания поэтов.
Сарай-Мульк-ханым еще попятилась.
Теперь стало уже невозможным перебивать разговор Тимура, – это было бы нарушением тех правил гарема, блюстительницей коих она сама была, старшая жена в большой привередливой семье Повелителя Мира.
Тимур боковым переходом миновал залу, где оставались его спутники, и, намереваясь проверить городской дворец, где работали писцы над описями, хотел уехать один.
Двор, обнесенный сводчатыми службами, опирающимися на могучие столбы, уцелел от прежнего дворца, построенного для Ульджайту-хана, а может быть, еще для старого Аргун-хана. В искусной кладке ничем не украшенных серых стен Тимуру нравилась величественная, непреходящая мощь и красота. Такую он требовал от зодчих в Самарканде, но обогащенную изразцами и мозаикой. Он не догадывался, что это убранство скроет ту мощь, которая ему нравилась: нарочитая пышность несовместима с истинным величием.
В тени двора ждали уже давно переседланные лошади. Тимур заметил, что они стоят неспокойно, норовя потереться о шершавые камни столбов, задирают задние копыта, чтоб почесать бока.
Постоял, глядя на бряцающих сбруей лошадей, и, раздумав ехать в город, вернулся.
Войдя в притихшую залу, он позвал с собой некоторых из военачальников и старших внуков – Халиль-Султана и Султан-Хусейна.
Во дворе, взглянув на чистое, без единого облачка, небо, ткнул в эту бездонную синь плеткой и предостерег:
– Будет дождь.
– Небо сквозное, дедушка! – сказал Султан-Хусейн.
– Дело к зиме. Погода изменчива.
– Ветер с утра дул из Басры, государь. Оттуда дождя не надует! усомнился Шах-Мелик.
– В стане все ли укрыты?
– Юрты расставлены.
– А слоны?
– Попоны для них везли в обозе.
– А наготове ли попоны?
– Догадаются, достанут! – беспечно сказал Султан-Хусейн.
– В походе друг на друга не валят свое дело. Каждый сам за себя стоит, как в битве! – покосился Тимур на внука и пошел к лошадям.
* * *
У восточных окраин Султании, в садах и на полях, раскинули свой стан войска Тимура.
Стан ставили по единожды, издавна установленному монгольскому порядку: одна юрта на десять воинов. Каждые десять юрт, составляя войсковую сотню, ставились вокруг юрты сотника. Вокруг шатра тысячника стояло десять кругов из десяти юрт в каждом. У входа в юрту сотника торчало знамя с тамгой сотни. У шатра тысячника высилось его знамя с полумесяцем под острием древка, с красным конским хвостом под полумесяцем.
Во главе тысячи стоял амир, сам набиравший все это воинство из земледельцев своих владений, из горожан подвластных ему городков. Отбирать в войска старались бездельников, нерадивых, бесполезных людей. Смирных, трудолюбивых пахарей и садоводов без крайней нужды не трогали: земле надлежало давать урожаи, кормить воинов и обеспечивать землевладельцев. Не трогали и крупных купцов: их дело – сбывать награбленные в походах богатства и сперва дать доход амирам, скупая добычу, а продав ту добычу, исправно платить подати сборщикам налогов, пополняя казну, нужную для новых походов. Не брали в войска искусных мастеров и опытных ремесленников, – с них сборы брал староста их ряда, вносил старшине базара, а старшина нес их подать в ту же казну, кормившую войско.
Добычу, собранную в битве, воины сдавали своему сотнику. Тот тысячнику, а тысячник нес ее темнику, начальнику десяти тысяч сабель. Темники отбирали ценнейшие находки в казну, оставляя законную часть себе, и из этой части часть отдавали тысячникам. Тысячники, оставляя чуть больше законной части себе, остальное отдавали сотникам. Сотники, оставляя себе по возможности наибольшую часть, остальное распределяли между десятниками. Воинам доставалось оставшееся от десятников.
Но иногда в походах брали столько добычи, что у воинов накапливался изрядный припас, и они спокойно дожидались того дня, когда в конце похода, а иногда и во время похода им платили жалованье. Во время похода платили после больших и удачных битв, после захвата новых стран и разорения больших городов, когда добычи скапливалось много и предстояли еще более жаркие дела, для которых требовалась бодрость воинов. Однако Тимур всегда норовил выплату жалованья отложить до приказа о возвращении, – в этих случаях получателей бывало гораздо меньше и нерозданных денег в казне оставалось гораздо больше.
Но сколь ни долго приходилось ждать расчета, сколь ни падки были десятники и сотники на обсчет при дележе, воины не роптали: сидя дома, никакой работой столько не заработаешь, сколько доставалось каждому при дележе, и никто из них не ел дома вдосталь, а войскам Тимур всегда находил пропитание, хотя и случались тяжелые дни. Но у земледельца или у городской бедноты вся жизнь была таким тяжелым днем, а в походах случались и праздники. И как ни приметливы были десятники, а из любой битвы удавалось кое-что утаить – то серебряное колечко, то клок дорогой парчи или что-нибудь из городского хлама, пригодное, чтобы сбыть скупщикам, следовавшим за войском, как шакалы за тигром.
И главное, только в походе чувствовали себя люди свободными, как ни строго присматривали за каждым: в тимуровском войске жилось вольготнее, чем под присмотром старосты на родных полях, чем под приглядом хозяина на работе в родных городах. Здесь свободно дышалось от самого ветра, то знойного, то студеного, когда шли по приволью новых, незнаемых стран. И еще была у каждого воина надежда отличиться в битве, схитрить при ограблении города, утаить драгоценность, попасть в милость к сотнику, была надежда, возвратившись из похода, начать спокойную жизнь.
И каждый верил, что так оно и случится: и милость начальников заслужить, кинувшись в опасное место битвы, и сокровища добыть и утаить от зорких начальников.
Здесь, на краю смирного, почти своего города, войску разрешалось жечь костры. У каждой юрты горели очаги, земляки и приятели ходили друг к другу наведаться. Кое-где воины сидели, тихо разговаривая, или, в угоду радивому десятнику, чинили износившиеся за дорогу ремни, точили ножи и кинжалы, штопали одежду, чистили мечи или шлемы, но многие уже отдыхали, развлекаясь игрой.
Стан еще не весь был в сборе. Еще подходили войска, шедшие позади. Им определяли места стоянок в том же порядке, установленном еще Чингиз-ханом, коему Тимур всегда следовал, хотя и прикрывал языческое нутро своих воинов зеленым лоскутом знамени пророка Мухаммеда, знамени священной войны.
Хотя и тихо вели себя войска, усталые после душной, пыльной степной дороги, а все же весь гул голосов, ржанье или визг повздоривших лошадей, звон оружия, стук топориков у очагов, какие-то стуки, окрики, топоты – все это наполняло округу гулом, будто само море подступило к столетним башням Султании.
И только по внезапной тишине, наступившей в стане, горожане могли бы понять, что там что-то случилось.
Смолкли топорики и голоса, даже кони перестали ржать и взвизгивать, в стан прибыл Тимур.
Он приехал проведать, хорошо ли дошли, правильно ли размещены его войска.
Он ехал по узкой тропе между юртами. За ним следовали Халиль-Султан и Султан-Хусейн.
Царевичи хотя и проводили свое время в Чинаровом саду, в семье деда, но и у Халиль-Султана и у Султан-Хусейна, пришедших с войском, здесь стояли свои шатры, возле их шатров блистали златотканые знамена, ибо Халиль-Султан в этом походе начальствовал над всем левым крылом, а Султан-Хусейн – над всеми осадными орудиями и тридцатью тысячами осадных войск, собранных из покоренных народов. В битве у Халиль-Султана было заботой беречь своих воинов и не щадить врагов; у Султан-Хусейна – беречь громоздкие и дорогие орудия, не щадя своих воинов. Но доблестью того и другого царевича в битве считалось умение сочетать бережливость с быстротой исполнения приказов Тимура.
Оба царевича ревниво следили за левым плечом деда – куда он повернет коня, в чьем шатре остановится? Велика честь тому, чей шатер удостоит он посещением, – войско сразу узнает, кто в милости, кто в любви у Повелителя Мира.
Не поворачивая головы, Тимур поглядывал вдоль рядов знающим взглядом, понимая все приметы этой жизни, запоминая всякую пылинку, если она нарушала чистый, как боевая сталь, порядок стана.
Сердце Халиль-Султана упало: дед проехал мимо поворота, где в глубине отливал золотом высокий бунчук начальника левого крыла войск.
«Гневен на отца, а я терпи!» – с досадой и горечью подумал Халиль. А лицо Султан-Хусейна сделалось неподвижным, и он прикинулся, что поправляет шапку на голове, чтоб Халиль не уловил в нем торжества и насмешки.
И вдруг круто, как это любил Тимур, он задрал морду своего легкого, горячего коня. Конь вздыбился и, повернувшись на одних лишь задних ногах, пошел прямо к бунчуку Халиль-Султана.
Тимур остановился у шатра, но остался в седле. Быстро спешившись, Халиль подбежал к стремени деда и, прижав к сердцу руку, поклонился:
– Окажите честь, государь!
Лишь тогда дед оперся о руку Халиль-Султана и вошел в шатер.
Сев напротив входа и возблагодарив бога за благополучное прибытие, Тимур усадил слева от себя хана Междуречья, правнука Чингиз-хана, своего послушного друга, безбрового Султан-Махмуд-хана. Рядом с ханом сел начальник правого крыла войск Шейх-Нур-аддин, с ним – Шах-Мелик, круглоглазый Аллахдада, и лишь после Аллахдады занял свое место Султан-Хусейн, ибо хотя Аллахдада начальствовал тоже над тридцатью тысячами воинов, но эти тридцать тысяч были боевой конницей, и Тимур считал их по значению выше, чем осадные войска царевича Султан-Хусейна. Следом за царевичем опустился Шейх-Маннур, предводительствовавший слонами и в этом походе подчиненный восемнадцатилетнему Султан-Хусейну. Дальше садились, сами устанавливая свои места, остальные темники, оказавшиеся в стане.
Справа, где, по обычаю Тимура, на дворцовых пирах усаживались его жены, а на походных пирах – тысячники, сели начальники тысяч, размещаясь по возрасту. Сюда пришли только те из тысячников, которые состояли в левом крыле Халиль-Султана, как, если бы Тимур остановился в шатре Султан-Хусейна, собрались бы тысячники из его стенобитных и осадных войск. Все понимали: Тимур гостил не у своего внука, не у царевича Халиль-Султана, чей шатер его осенял, даже не у начальника левого крыла войск, а у всего левого крыла своего воинства.
Тысячники, заняв места справа от Тимура, разместились по возрасту, и рядом с Тимуром оказался кривой на левый глаз, с глубокой вмятиной в левой кости лба старый соратник Тимура Хызр-хан, длинный старик с тонкими сухими губами и жидкими пучками желтовато-белых усов.
Хызр-хан был лишь десятником в битве за Ургенч, где отличился, когда предатель Кейхосров кинулся, с копьем наперевес, на ставку Тимура. У Хызр-хана убили коня, и, отягченный кольчугой, десятник отошел от свалки, видно выискивая лошадь, чтоб снова сесть, но увидел Кейхосрова, мчавшегося во главе разгоряченной конницы, и, улучив мгновенье, не отстранился, а прыгнул на могучую грудь вражеского коня. Конь споткнулся и опрокинулся, а Кейхосров, метнув к небу красными сапогами, свалился под свою же конницу. Отряд предателя смешался, выволакивая из-под лошадей своего разъяренного и одуревшего главаря.
Так было потеряно то мгновенье, которое нельзя было упускать Кейхосрову, ибо наперерез ему мчался заслон Тимура, и ставка повелителя стала недосягаемой для врага.
Когда принесли Хызр-хана, Тимур увидел лоб, вдавленный копытом коня, и глаз, вытекший под тем же копытом, и сказал:
– Отлежится, будет тысячником: смел, сметлив, предан.
С тех пор прошло много лет. Хызр-хан бился во многих битвах на берегах Волги и на берегах Тигра, на берегах Куры и на берегах Инда, он везде был смел, зорок, предан, но так и остался тысячником, ибо, чтобы стать темником, надо было владеть областью, с которой собиралось бы по десять тысяч воинов. Такой области Тимур Хызр-хану не жаловал, а Хызр-Хан старел, возглавляя все ту же тысячу и славя бога за ниспослание Тимуровой милости.
Когда на пиру в Дели старейший из тысячников Сафарбек подавился куском телятины, старейшим из тысячников, неожиданно для себя, оказался Хызр-хан, никогда не думавший о своем возрасте. С тех пор бывшему десятнику случалось сиживать на пирах плечом к плечу рядом с Тимуром.
Халиль по долгу хозяина сел у входа и спросил деда, как почетнейшего из гостей:
– Велите нести кумысу, государь?
– Время кумыса прошло. Нынче дождь будет. Надо к непогоде готовиться. Давай бузу…
Военачальники переглянулись, – в этакий светлый день пророчит непогоду!
Один лишь Хызр-хан посмел вымолвить:
– Истинно, государь!
Тимур не любил, когда так поспешно с ним соглашались, если оснований к этому не было. Сощурившись, Тимур повернул голову направо:
– Почему это истинно?
На грозный вопрос Хызр-хан ответил твердо:
– Лошади чешутся, государь.
Тимур одобрительно кивнул:
– То-то!
В словах Тимура содержался тот приказ, который надлежало незамедлительно выполнить, и, не смея встать от царской беседы, темники незаметно подзывали то одного, то другого из своих сотников, шепча им приказ: подготовить весь стан к ненастью.
Тем временем Тимур продолжал разговор с Хызр-ханом:
– И что ж ты?
– Велел, государь, всей своей тысяче сдвинуть юрты теснее, кошмы натянуть, дров запасти – все, что следует.
– А других не остерег?
– Указа не было. Я их остерегать начну, а они над стариком посмеются. Однако кое-кому сказал: вон Ходжи-Усуню, Кара-Огузхану тож. Они послушались, они меня знают.
– Ну-ка, брат Хызр-хан, по своему разуму не на своем ты месте. Сядь-ка от меня слева. Там тебе сидеть!
Это была великая честь! Большой почет! Высокая награда – тысячнику сидеть с темниками.
Взамен этой чести Хызр-хан предпочел бы получить в удел хороший тумень, тогда он разумно собирал бы по десять тысяч воинов; а остальных своих подданных сумел бы научить так трудиться, чтоб и этих воинов вдосталь обеспечить, и самому исправно получать подати.
Внесли большой глубокий котел и, поставив его перед Халиль-Султаном, подали царевичу резной деревянный черпак.
Налив золотую чашу густой бузы, Халиль-Султан, придерживая вздернутый длинный рукав халата, поднес чашу Тимуру.
Тимур, прежде чем принять чашу левой рукой, показал на свою бессильную правую руку и виновато проговорил Халиль-Султану:
– Извините!
Словно здесь не знали о бессилии его правой руки!
А приняв чашу, тотчас подал ее Султан-Махмуд-хану.
– Выпейте, великий хан! – попросил Тимур.
Султан-Махмуд-хан отказался, но отказался лишь из вежливости перед старшим по возрасту.
Тимур повторил:
– Выпейте, выпейте, великий хан!
Султан-Махмуд-хан снова отказался, но тоже лишь из вежливости, как перед дедушкой хозяина юрты.
Тимур настаивал:
– Выпейте, просим вас, великий хан!
Больше ничем не превосходил его Тимур, ибо ханом необъятного царства именовался он, Султан-Махмуд-хан, и, ваяв из руки Тимура тяжелую чашу, хан, лишь пригубив ее, возвратил Тимуру.
Халилю было неприятно это притворство деда.
«Повелитель Мира показывает, что кровь Чингиз-хана значимей всяких побед и всякого могущества! Притворщик!» – думал Халиль-Султан, отгоняя более резкое восклицание: «Лицемер!», которое Халиль-Султан давно подавлял в своем сознании, не позволяя ему облачиться в слово.
Но Султан-Хусейну эта игра Тимура, видно, была по душе: он одобрительно улыбался, глядя, как Тимур уважительно допивал возвращенную ханом чашу.
Едва допив, Тимур протянул чашу не хозяину, а Шейх-Нур-аддину и тем самым избрал его левым, почетным старшиной, чьей обязанностью было возвращать чашу хозяину.
Шейх-Нур-аддин неуклюже пересел вперед, на войлок, между Тимуром и хозяином, неумело запрятывая под себя свои долговязые ноги.
Он вернул чашу Халиль-Султану с капелькой бузы, не допитой Тимуром, ибо допить чашу без остатка считалось проявлением жадности и невежеством.
Халиль-Султан снова наполнил золотую чашу из деревянного черпака и подал ее, став на левое колено и по-прежнему оттягивая правый рукав, тысячнику Хурам-беку, занявшему по возрасту освободившееся от Хызр-хана верхнее место среди тысячников, рядом с Тимуром.
Так, по праву хозяина, Халиль-Султан избрал правого старшину, обязанного принимать чашу от хозяина и подавать ее гостям.
Старый вояка, покраснев от неожиданной чести настолько, что седая его коса, как показалось Халилю, задымилась, вспотев, подал чашу Тимуру.
Тимур выпил ее, никому не предложив, и отдал Шейх-Нур-аддину, а Хурам-бек тем временем занял свое место впереди, напротив Шейх-Нур-аддина.
Третью чашу Тимур, снова приняв ее из дрожащей руки Хурам-бека, пригубил и отдал Султан-Махмуд-хану, а хан протянул ее Шах-Мелику:
– Выпейте, брат!
Тем временем неподалеку от этой юрты несколько воинов из десяти тысяч Шах-Мелика, сдвинувшись в кружок на мягкой белой кошме, метали кости.
В те часы, когда повелитель находился в стане, внимание десятников бывало поглощено присутствием повелителя, и воинам можно было спокойно пометать часок-другой эти обманчивые, покрытые сетью трещинок, пожелтелые от множества горячих и потных ладоней кости с черными коварными точками.
Маленький каршинец по имени Мумтоз, по прозвищу не то Пузо, не то Заяц, горячился: три недели назад он проигрался дочиста. Проигрался настолько, как никогда не бывало с ним, заядлым игроком. Но и противник оказался упорным. Воин, по прозвищу Милостивец, родом кашгарец, в игре оказался стоек и ловок. Остальные игроки, выходцы из Бухары, играли вяло, будто нехотя, а проигрывая, хитрили, ища причину, чтоб увильнуть от дальнейшей игры. Проиграли целый день, пока их не подняли в поход, и в тот день игру Заяц окончил с небывалым позором: проиграл ухо! Он сам не ожидал, что так случится. Когда нечего стало ставить на кон, Милостивец сказал:
– Попытайся. Может, отыграешь?
– А ставка?
– Давай на ухо.
Заяц поколебался. Если он проиграет, Милостивец отрежет ему ухо, и тогда целью всей жизни Зайца станет отыгрыш этого уха или выкуп его. Нет позора тяжелее, чем такой, когда собственное твое ухо принадлежит другому и валяется у него, завернутое в пояс или в тряпку.
Но еще глубже позор, означающий полное падение игрока, когда в условленное время потерявший ухо не сможет выставить ставку, равную цене уха, или выставит, но проиграет снова.
Тогда у выигравшего право на выигранное ухо возрастает вдвое, ставка к следующей игре на отыгрыш уха удваивается и срок отыгрыша укорачивается.
Если к договоренному сроку бывший хозяин уха не выставит на кон условленной ставки или не отыграет уха, владелец этого выигрыша имеет право поставить выигранное ухо на кон в игре с другими игроками, назвав цену уха. И тот, кто примет и выиграет эту ставку, забирает ухо себе, завертывает его в свою тряпку и может в своих играх ставить, проигрывать и отыгрывать это ухо, будто это уже не ухо с головы живого воина, а козья шкурка или серебряное кольцо. И пока ухо перекатывается с кона на кон, нет в стане человека более презренного, более жалкого, чем воин со срезанным ухом, столь слабый, что несостоятелен для выкупа и неискусен для отыгрыша. И тогда, как ни свешивай косу на висок, как ни прилаживай шапку набекрень, ничем не скроешь своего срама и позора от наглых, насмешливых, назойливых взглядов, усмешек, вопросов.
Так вот, надо было случиться, чтоб Заяц, проигравшись дочиста, испугался, что проиграл небольшой крест, украшенный красным и синим камушками, который давно, еще в Грузии, достался ему при схватке в одной из деревень. Крест был искусно вычеканен, и Заяц нередко любовался им, если бывал уверен, что никто не видит этой вещицы в его руках. Теперь десятник мог дознаться, что Заяц в своей игре ставил такие ценности, каких воину припрятывать не положено. Надо было во что бы то ни стало отыграть крест назад.
И когда он услышал от счастливого противника это пренебрежительное предложение: «Давай на ухо!», Заяц вскипел: «Отыграю крест!» – и ответил с усмешкой, уверенный в отыгрыше:
– Давай!
– На все?
– На все!
– Не много ли?
– Ухо!
– Дорожишься, трудно тебе будет отыгрывать.
– Моя забота!
– На, мечи!
Договорившись о стоимости всего своего проигрыша, Заяц на всю цену выставил ухо. Он был уверен, что, проиграв девять раз подряд, в десятый непременно выиграет: редко бывает, чтоб кость десять раз кряду оказывалась битой!
Заяц метнул. Вышло девять. Немного, но он и не ждал непременно всех двенадцати.
Метнул Милостивец. Вышло одиннадцать, чего не выпадало за всю игру.
Заяц попросил три дня сроку на возврат долга, но вгорячах слишком много посулил за выкуп и за три дня не смог достать даже половины того, что надо.
Через три дня он пришел к Милостивцу и, при трех свидетелях отозвав его в степь, за камни, молча стал на колени.
Милостивец так ловко, одним махом, срезал ему ухо, будто всю жизнь изо дня в день резал уши прославленным воинам Завоевателя Вселенной. При этом Милостивец дал обещание никому не показывать креста, предостерегая:
– Только б бухарцы не разболтали!
Но с бухарцами Заяц договорился, и за небольшие подарки они согласились молчать.
Так было проиграно ухо Зайца, и вот сегодня те же игроки снова сошлись для игры. Тут, на окраине чужого, хотя и давно завоеванного торгового города, Зайцу посчастливилось минувшей ночью принять от двоих запоздалых прохожих воздаяние за неприкосновенность их жалкой жизни.
Прикинув цену добычи, Заяц явился к Милостивцу и предложил отыгрыш.
Милостивец с оценкой добычи согласился, но за ухо назначил двойную цену, а выменять ухо на добычу без игры отказался.
– Твое право! – приуныл Заяц.
Играли уже час.
Надо бы сразу было ставить на ухо, но Заяц вздумал хитрить, отыграться помаленьку. Кости ему давались, – он выигрывал.
Разыгравшись, он наконец сказал:
– Ну, давай?
– Ухо?
– Давай!
Он поставил на кон договоренную цену и метнул. Вышло, как и в прежний раз.
– Девять!
– Священное число! – усмехнулся бухарец.
Милостивец постучал костями между ладонями.
– Ну!
– Одиннадцать!
– Не иначе это сам бог тут! – убежденно сказал бухарец, пока Заяц, обомлев, вглядывался в роковые кости.
– Ладно! – крикнул Заяц. – Ставлю второе ухо на отыгрыш первого!
– Срежу! – предупредил Милостивец.
– Ставлю! – настаивал Заяц.
Но судьба на этот раз уберегла последнее ухо Зайца: появился десятник, и надо было скрыть от его глаз все ценности с кона.
За это время буза в котле у Халиль-Султана кончилась. Все уже выпили по нескольку чаш: как ни медлительно двигалась чаша по кругу, никто, приняв чашу, не задерживал ее, – заставлять остальных гостей ждать считалось зазнайством, желанием привлечь к себе внимание, поставить себя выше других.
Халиль-Султан громко черпнул по дну котла, налил последний черпак, держа усталой рукой тяжелую чашу, и подал ее самому ближнему, сидящему налево от него молодому тысячнику, своему ровеснику, амиру Дарбанди, приговаривая:
– Ну, на дорожку!
Амир, пригубив, передал чашу соседу слева. Тот же передал следующему слева. Так и прошла эта последняя чаша от младших к старшим, и каждый ее передавал дальше; дошла она до Тимура, и он, пригубив, передал ее Султан-Махмуд-хану. Хан передал ее Шах-Мелику, Шах-Мелик – Султан-Хусейну, и, наконец, дошла она, всеми пригубленная, но никем не выпитая, до Шейх-Нур-аддина. Шейх-Нур-аддин возвратил ее хозяину.