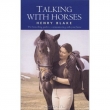Текст книги "Звезды над Самаркандом"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 76 (всего у книги 87 страниц)
ПЕРС
Настала ночь в Дамаске.
Смолкла последняя молитва. Люди разбрелись к своим постелям. В городе наступил покой.
Но Ибн Халдун не обрел ни мира, ни покоя. Одна за другой приходили тревожные вести. Войско Тимура, отвоевавшись в Антепе, сломив, не щадя сил, неприступную твердыню Халеба по пути шествия, пошло дальше на города арабов.
На этом пути многое открывалось перед Тимуром, славнейшие города Востока – Бейрут, Дамаск, Багдад, Иерусалим, Каир… Из них Багдад уже видел воинов Тимура, уже знал их, изведав кровь и огонь нашествия, запомнив, как Тимур попрал добро и разум ради того лишь, чтобы попрать разум и добро.
Войско султана Фараджа, приведенное из Мисра, усиленное здешними воинствами, благодушно отдыхало, похохатывая при россказнях о Тимуровых победах, самоуверенно поглаживало ладонями ребристые рукоятки мечей или похожие на змеиные головки эфесы сабель, когда кто-нибудь поговаривал, что среди татарского войска есть отчаянные богатыри.
Такие россказни и беспокойные слухи не доходили до султана Фараджа, ибо он в те дни пребывал в дальнем углу старого дворца, где раскидистые деревья заслоняли окна. От обитателей дворца деревья загораживали многолюдный суетный мир, а от суетного мира – обитателей дворца со всеми их забавами и хлопотами.
Туда, наверх, на второй ярус дворца, пошел Ибн Халдун.
Над лестницей тяжело покачивался на длинной медной цепи большой кованый фонарь, где тускло, чадя, потрескивая, тлел фитиль светильника. Фонарь был велик, а огонек в нем мал.
От ребер фонаря по стенам расползались и молчаливо передвигались широкие тени, а лестница оставалась во тьме; подниматься пришлось осторожно, почти на ощупь, останавливаясь, чтобы отдышаться, то на одной, то на другой из высоких стертых ступеней.
Наконец он вступил на дощатый пол галереи, длинный, во всю длину дворца, в том дальнем конце, где светился такой же большой фонарь с боязливым огоньком на дне.
Ибн Халдун пошел, скрипя половицами, певшими под пятками на разные голоса – то жалобно и пугливо, то женственно и нежно, то стеная, то визгливо и зло, словно он наступил им на больное место. Днем они так не голосили, днем они были безмолвны под уверенными, быстрыми шагами людей, а под осторожными, крадущимися пятками царедворцев, как и сейчас, когда шел Ибн Халдун, поскрипывали, повизгивали, посвистывали на весь ночной двор.
Когда магрибец с облегчением наконец дошел до дальнего фонаря, половицы смолкли. Настала тишина. Тогда за дверью, перед которой висел фонарь, Ибн Халдун услышал смутный гул празднества – девичьи песни, вскрики, бубны, свирель и тот равномерный самоуверенный глуховатый бой барабана, который все звуки подчинял своей размеренной поступи, словно шел слон, ступая по коврам бархатными ногами.
Ибн Халдун неподвижно постоял перед дверью.
Здесь галерея кончалась той лестницей, где накануне суетилась хромая старуха.
В фонаре шло обычное движение. Внутрь таких фонарей ставили плошку с маслом, окунали в него фитиль, и он тлел до утра, то чадил, то вспыхивал, то, странно и беспричинно потрескивая, разбрасывал красные искры, пока не выгорало все масло. Запахом горелого жира и копоти пропитался весь неподвижный воздух галереи, и даже дерево двери оказалось маслянисто, когда ладонь Ибн Халдуна прижалась к ней со всей силой, чтобы толкнуть створку и войти.
В часы, когда султан отдыхает, можно нарушить его покой, только если государству грозит опасность, а когда султан развлекается, надлежит ждать конца развлечений, каковы бы ни были дела. Но в Дамаске со дня прибытия не было часа, когда султан не развлекался бы.
Султан в Дамаске попал во власть хлопотливых здешних сводней, перенявших свое дело от предшественниц, а у предшественниц, сменявшихся поколение за поколением, это дело процветало, совершенствовалось, оттачивалось, закалялось, как сама дамасская сталь, тысячи две, а может быть, и три тысячи лет со времен Вавилона. Да и до Вавилона оно было прибыльным делом в умелых руках, когда человеческое сладострастие нуждалось в усердии изощренных утешительниц.
Султан едва лишь вступил на стезю мужских утех, но сводни хлопотали, соперничали, приводя девушек, изрядно обученных всему, что нужно девушке, чтобы манить к себе. Сводни ликовали, когда их девушки оказывались столь хороши, что душа султана влеклась порой сразу к нескольким. Весь опыт, через который за многие годы прошли эти сводни, они терпеливо передавали своим ученицам, готовя и сбывая их для самых затейливых забав.
Ладонь Ибн Халдуна уперлась в маслянистую дверь, но он медлил с последним усилием: нехорошо среди ночи вступать в покои резвящегося султана. Но Тимуру оставалось не столь много дней пути досюда, с утра надо было решительно действовать от имени султана. Не повидавшись же с ним, опасно ссылаться на его имя.
Тимуру оставалось не столь много дней пути досюда…
Ладонь нажала на твердь двери, и она отворилась. Ибн Халдун, по детской привычке, отер ладонь о грудь рубахи, а ему навстречу кинулись всполошенные старухи, пригибаясь от смирения и, несмотря на робость, пытаясь преградить путь постороннему, хотя они и знали, сколь значителен был этот посторонний.
Опытные в делах, перед которыми другие застеснялись бы, сводни оттеснили Ибн Халдуна в укромный угол, откуда видно было и султана, и залу, полную девушек.
Вдоль стен в светильниках колыхалось пламя, отчего чудилось, что даже деревянные почернелые столбы, подпиравшие потолок, колышутся. А девушки, танцующие или перебегающие, казались невесомыми, неземными: колеблющийся свет искажал их движения.
Барабан равномерно, глухо, самоуверенно подчинял своей поступи ряд недораздетых красавиц, сомкнутых в пляске.
Смуглая толстуха, почти ничем, кроме длинных кос, не прикрытая, охватила ногами и руками высокий барабан, и он ухал под ее пухлыми пальцами.
Уловив взгляд историка, хромая сводня подмигнула:
– О покровитель! Она с барабаном только шалит. Она и без барабана дело знает. О!.. Как знает!..
И прищелкнула языком, сощурив глаза.
Среди этого круговорота, меж этих прозрачных, призрачных покрывал, в кругу розоватых, и смуглых, и чернокожих дев восседал султан в блестящих позлащенных доспехах, с мечом на коленях, в островерхом шлеме, венчанном страусовыми перьями, как, бывало, обряжались франкские крестоносные рыцари, красуясь на турнирах. Память и предания о них крепко держались среди арабов и, как сказки, пересказывались над младенческими колыбелями.
Ибн Халдун терпеливо ждал в столь неудобном месте хотя бы краткого затишья, чтобы предстать перед султаном с недоброй вестью.
Но девушки сменяли друг друга, музыканты же не смолкали, барабанщица барабанила размеренно, как бьется сердце, и постепенно Ибн Халдун сам вовлекся душой в девичьи пляски среди искренней наготы, ликовавшей вокруг.
По знаку старух девушки постелили на пол иссиня-черный ковер, и среди залы словно разверзлась непроглядная бездна. Половину светильников погасили, все погрузилось в полутьму. Из этой полутьмы на ковер упали белотелые широкобедрые персиянки в серебристом шелке, как в легком тумане.
Барабан бил мерно, настойчиво.
Персиянки затеяли ласковый танец, раскинувшись на полу. Казалось, их гибкие тела томятся и нежатся, воспарив над бездной, ибо не стало видно ковра под ними.
Барабан ускорял свое биение, бил уже не столь равномерно – порывистей, глуше.
Тогда к этим раскинувшимся белотелым плясуньям кинулись негритянки. Объятия танцовщиц были их танцем, где темные тела слились с темнотой ковра и оказались невидимы, а белые сверкали в таких неожиданных поворотах, что у Ибн Халдуна прервалось дыхание. Лицо он сморщил так, будто во рту перекатывал невыносимо горячий комок.
Погасли последние светильники.
В полной тьме слышен был только нарастающий, ускоряющийся, прерывистый бой барабана, и не то чудилось, не то слышалось такое же глухое, прерывистое дыхание плясуний.
Вдруг внесли факелы.
Зала засияла золотисто-алым, нестерпимо ярким, как полдень, пламенем.
На полу уже не оказалось ни девушек, ни ковра.
Только барабанщица в изнеможении валялась, отвернувшись от откатившегося барабана.
Ее торопливо покрыли шалью, подняли и увели.
Султан вдруг в углу среди старух увидел Ибн Халдуна.
Никогда на лице мальчика историк не знал такой растерянности, испуга, стыда.
Оступившись, султан встал, а сводни, догадавшись, что тут сейчас не до девушек, одним мановением убрали всех прочь из залы и сами исчезли.
Забыв, что обе его руки сжимают меч, выпрямившись, султан Фарадж, как во сне, шел к своему наставнику.
Наконец Ибн Халдун понял, что ему тоже надо идти к своему султану, и пошел, поскальзываясь и спотыкаясь на каких-то безделках и обломках, валявшихся на полу.
– Вы пришли? Уже столь поздно? – спросил султан.
– Еще не поздно, но времени не осталось.
– Как тут поступил бы мой отец? В таком случае?
– Если бы он был в вашем возрасте, он поспешил бы в Каир отсюда.
– Без войска?
– Взяв с собой столько, чтоб в пути не бояться ни львов, ни разбойников.
– А остальные?
– Останутся. Остановить татар.
– И отстоять город!
В этом дополнении к своим словам Йбн Халдун уловил согласие. Фарадж не отказывался уехать, но опасался за Дамаск.
– Когда войско спокойно за вас, оно станет крепче биться.
– Я в Каире буду ждать известий о победе!
– Еще бы!
Ибн Халдун, откланявшись, попятился к двери.
– Ночь, государь.
– А Тимур далеко?
– Их путь сюда измеряется немногими днями.
– Когда же они успели?
– Они скоро ходят. В том их сила.
– Но не завтра же!
– Нет. Но завтра надо отправиться вам.
– Я обдумаю ваши слова.
– Прежде чем они дойдут сюда, вам следует быть подальше отсюда.
– Я обдумаю…
В сенях, вдевая ноги в туфли, Ибн Халдун дышал легче: он опасался возражений. Самонадеянный мальчик кинулся бы возглавить войско. Это выглядело бы красиво. Но это перепутало бы все стройные расчеты опытного человека. Теперь султан уедет, и судьбу Дамаска Ибн Халдун возьмет в свои руки.
И султан отправился назад в Каир.
Никаких торжеств при отъезде не было. Народу не было объявлено об отъезде Фараджа. Пятитысячный отряд, предназначенный сопровождать султана в Каир и хранить его там, вышел в путь заранее и остановился ждать в одном дне перехода. Сам же султан проехал через Дамаск с небольшой свитой. По городу пошел слух, что никакая опасность Дамаску не грозит и поэтому султан выехал поохотиться на львов.
Некоторые дамаскины поудивились:
– На львов? Но где же он их найдет?
В окрестностях Дамаска львы давно не показывались, а вот в Магрибе, неподалеку от Туниса, львы бродили стадами и, случалось, нападали даже на караваны. А через Сфакс, как рассказывали, больные львы проходили купаться в море и зимой отлеживались на теплых отмелях острова Джерба. Там, в Магрибе, может быть, и охотились на львов, хотя и неизвестно, зачем на них охотиться, а здесь такой охоты не бывало. Видно, придумал все это какой-нибудь магрибец, забыв, что тут Дамаск, а не Кейруан.
Но львы ли, не львы ли, охота ли, поход ли, султан Фарадж отбыл, и никому не следовало знать, что он отбыл далеко и безвозвратно.
Сводням приказали своих девиц по-прежнему держать во дворце, как было при султане. Музыкантов отпустили, не велев приходить до возвращения султана с охоты.
Девицы бродили по женской половине дворца, лениво баловались и возились между собой и порой вспоминали, хорошо ли новенькое вооруженьице султана Фараджа. Кормили их хуже и музыкой больше не развлекали.
А за стенами дворца никакого покоя уже не осталось. На базаре, оказалось, за день раскупили всю крупу, пшеницу, просо, рис, бобы, горох, чечевицу. Всякие припасы, пригодные для долгого хранения, подорожали. К концу базара цены поднялись втрое, – видно, народ догадался, что не о львиной шкуре хлопотал султан, отъезжая вдаль от Дамаска.
Но крупу скупали не столько беспечные жители, сколько прозорливые купцы.
По всем улицам вокруг базара началась распродажа домашней утвари, одежды, драгоценностей: жителям нужны были деньги, чтобы запасти крупу. Если случится осада, станет не до колец, не до нарядов.
Жители пытались поскорее сбыть свое достояние, а купцы уже сговаривались придержать съестные товары, цен не сбавлять, торговать по сговору.
Вдруг на базаре вздорожали мешки.
У кого нашлись порожние мешки, сбегали за ними, продали задорого: мешки понадобились купцам вывезти из базарных закромов и амбаров в укромные места все запасы круп, муки, сушеных плодов, вяленого мяса.
Через день в хлебных рядах опустело, словно метлой вымели.
Подорожали большие кувшины – надо запасать воду.
У кого было все запасено, принялись втихомолку сгребать серебряные деньги и в кисетах, в кувшинчиках, в медных банках закапывать в землю втайне от соседей, замуровывать в стены.
По городу в харчевнях еще жарили и варили мясо, но хлеба уже никто не давал. К мясу подавали всякую зелень, но перец, лук берегли: перец и лук вздорожали; их можно было, подвесив под потолок, долго хранить при любой осаде. Не подавали подливку к мясу: жир, стекавший с вертелов, сливали в кувшины, убирали про запас.
Хлеб, кто по извечному обычаю пек его дома, теперь изловчились так печь, чтоб радостный домашний дух свежего хлеба, которым прежде каждая хозяйка гордилась, теперь не достигал ноздрей соседа.
На базарных площадях и улицах много людей молча останавливалось и стояло вдоль стен, вглядываясь в странный, примолкший базар.
Еще слышались голоса продавцов, неуверенно хваливших какие-то лежалые товары. Кое-где скрипели арбы. Медленно, молча прохаживались покупатели между рядами пустых лотков и прилавков. Вчерашний жаркий, суетный, самозабвенный базар умолк.
Казалось, все это множество оторопевших людей здесь погружается в незримые колдовские волны, замолкая, окостеневая каждый на том месте, где остановился.
Еще и врага не было видно, еще и караваны приходили в город и без опасенья уходили отсюда, но жизнь окостенела.
В городе, опасающемся длительной осады, наступили особые дни, когда на опустошенных базарах купцы терпеливо и уверенно сели ждать голод. Голод был желанным подспорьем в любой торговле: даже отъявленные скряги становятся безропотными, сговорчивыми, платят, что ни спросишь, когда голод внутри свистит пронзительным несмолкаемым свистом, заглушая робкое ворчанье благоразумия.
Старик в круглой черной шапочке, в черном камзоле, перехваченном в поясе, со сборками ниже поясницы, какие носят купцы из Ирана, известный всему базару богач, хозяин многих караван-сараев, состарившийся в этой толчее, одряхлевший под перезвон караванных колокольцев, опираясь на палочку, пошатываясь от возраста, долго ходил один мимо гладких дощатых прилавков, где прежде громоздились груды всякой снеди – вяленых колбас из Сиваса, копченой баранины, соленой птицы, всего, что пригодно подолгу выдерживать дальние дороги, – запасы для путешествующих с караванами. Знакомое место. Перс тут всегда сам закупал припасы для караванов и сбывал их в своих караван-сараях, немало получая пользы от таких перепродаж.
Теперь на гладких обжитых досках только красные осы толклись, улавливая запах снеди, но, кроме запаха, уже ничего не осталось.
Ходил один, пожевывая беззубыми деснами.
Этому старику, в юности прибредшему сюда из Тегерана, за всю жизнь не выпадало дня, чтоб не спеша погулять по всем рядам. Теперь он, как ребенок, выскользнувший из-под родительского присмотра, то мелкими шажками перебегал площадь, то стоял, глазея на какую-нибудь диковину.
Так дошел он до рядов, где купцы из поколения в поколение безучастно сидели у входа в лавки, заслоняя спинами свои товары.
Старик остановился перед такой лавкой. Грузно прислонившись к двери, подремывая, сидел продавец, а над продавцом на диво всему Дамаску вывешено было покрывало, прозрачное, как воздух, но сотканное из серебряных и золотых нитей и на вес тяжелое. Не было цены такому покрывалу!
Старик постоял, пожевывая, не отрывая глаз от покрывала. Он знал ему цену. Такие ввозили в Дамаск из Индии через его караван-сарай. Вдруг он расхохотался так громко, весело, заливисто, как смеются дети от щекотки. Так расхохотался, что даже выронил палочку.
Полусонный сиделец испуганно привстал и подал старику палочку.
Купцы, продавцы, сидельцы, разносчики окружили перса, озадаченные его хохотом и встревоженные, словно это было предзнаменованием беды.
А он хохотал долго. Палка, как живая, подпрыгивала в его руке, пока, успокоившись, он отдышался и, стоя среди толпы, ткнул палкой в середину покрывала, в золотую розу, лучистую, как солнце.
Ткнув палкой, оставив на розе пыльное пятнышко, старик спросил:
– Кто это купит?
Купцы молчали, спеша понять, к чему клонит перс, задавая странный вопрос.
– Не знаете? – подмигнул перс. – А я знаю – никто!
Купцы выжидательно молчали.
– Уберите такой товар, – строго, уже без улыбки сказал перс, – и ступайте домой. В этом городе у вас уже нет покупателей.
– А мы уступим в цене, – усмехнулся хозяин.
– Покупатели не придут. Ступайте домой.
– Что делать дома?
– Совсюду сгрести и закопать серебро. Подальше припрятать припасы.
И, раздвинув окружавших его людей, вышел из круга и пошел дальше, посмеиваясь своим мыслям.
– Старость! – снисходительно ухмыльнулся сиделец, норовя подольститься к купцам.
Глядя вслед выгоревшей, порыжелой войлочной шапочке богача, один из купцов напомнил:
– Он однажды уже высидел осаду. Он знает, что сказать.
Часть войск ушла с султаном в Каир. Другая часть осталась в городе. Теперь власть над этим войском, а значит, и судьба города оказалась в руках Ибн Халдуна.
Дамасский базар готовился пережить осаду. Запереться. Затаиться. Запрятать припасы в тайники. Сокрыть сокровища. Откупиться от грабежей и разбоя. Случалось в былые времена немало нашествий, когда купцы откупались и уцелевали на своих местах, а в плен, в изгнание, в рабство шел только неимущий народ.
Но не весь Дамаск был базаром.
Ибн Халдун приметил: ремесленники и простой люд ходили друг к другу, собирая оружие, объединяясь в дружины, а купцы – сгребая золото для откупа.
Тысячи дамаскинов готовились биться с врагом, отбиваться, стать не в осаду, а в оборону. Стать и выстоять. И отстоять свои дамасские, дамаскинские обычаи.
Из слободы в слободу ходили жители, сбивались в дружины, переубеждали недоумков, готовых оборонять каждый только свою слободу. От этих сборов, договоров город гудел. Никому не сиделось по домам, все ходили по улицам, выстаивали у своих калиток, сидели на корточках, упершись спинами в стены.
Ибн Халдун, окруженный надежной охраной, проезжал по таким возбужденным улицам, видел эти сборы, слышал этих людей, готовых на смертную битву. Иногда он останавливался и, не сходя с седла, выслушивал кого-нибудь из почтенных жителей, сворачивал в узкие переулки к ремесленникам, вглядывался, вдумывался в эту жизнь, судьба которой, оказалось, теперь зависит от него.
Тимур шел в эту сторону.
Разъезды разведчиков появились на дорогах неподалеку от города. Небольшой отряд ворвался в пригородные сады и увел оттуда молодых женщин и юношей. Уцелевшие прибежали в город с недобрыми вестями. По городу потянулись слухи и страхи, расползаясь, как дым перед ненастьем.
Эта безнаказанная смелость Тимуровых разведчиков озадачила Ибн Халдуна. Он послал несколько своих отрядов, приказав ловить смельчаков и везти сюда.
С того же дня сперва разрозненными обозами, а вслед за тем сплошным потоком со всех сторон ко всем крепостным воротам Дамаска потянулись беженцы из ближних городов, селений, хозяйств. Все, кому не манилось попасть в рабство либо под копыта нашествия, сбегались в Дамаск.
Беженцы ютились среди сородичей в знакомых слободах или караван-сараях, но вскоре свободных пристанищ не осталось. Шатры, шалаши, палатки скопились на городских площадях, во всех городских закоулках. Беженцы забрались было и в дворцовый сад, благо он был просторен, но вскоре новоселов оттуда выдворили по указанию Ибн Халдуна. Он велел затворить крепостные ворота, и впредь беженцам следовало уходить в другие, в дальние города, в сторону от нашествия, дабы Дамаск не задохнулся от многолюдья, да и никаких припасов не напасешься в случае осады при таком избытке людей.
Хотя городские улицы на ночь перегораживались и стража возбраняла хождение по городу после ночной молитвы, беженцы по всему Дамаску допоздна жгли костры, готовя еду. Не хватало воздуха от дыма и гари. Всякой снедью пахло отовсюду. Над всем городом опустилось столь плотное облако дыма, что даже днем солнечный свет тускнел, как в пасмурную погоду, но прохлады от того не прибывало.
Ибн Халдун смотрел на этот Дамаск.
Хотя город простоял уже тысячу лет или две тысячи лет, та история кончилась. Начинается новое тысячелетие. Ибн Халдун стоит у начала. Или это конец предыдущего тысячелетия, а новое еще только подступает? Как понять это?
Всю жизнь он вникал в историю. Но вникнуть в события, которые пока только складываются, трудно, а их надлежит еще и осмыслить, и описать.
Для этого труда из всех здравствующих историков жизнь избрала его, старейшего из них и опытнейшего. И чтобы он все это видел своими глазами, поставила его в самый водоворот событий, столь значительных для Дамаска. И вот Ибн Халдун еще не знает: начало ли это, завершение ли эры в истории этого города, да и всей Сирии… История избрала его, но, избрав, даст ли она ему время и силу…
Он писал «Введение» долго. Многие годы он смотрел на жизнь, которая его удивляла, мучила и ждала, чтобы он не только пересказал ее, но и осмыслил. Будет ли снова так – время и сила?..