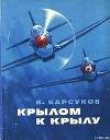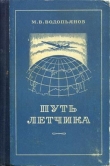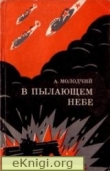Текст книги "Небо остается чистым. Записки военного летчика."
Автор книги: Сергей Луганский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Простите,– перебил меня Володя, поднимаясь из-за стола. Прищурясь, он всматривался в ту сторону, где была дверь. Там стоял посыльный. За ним пришли.
В этот день поговорить нам больше не пришлось. Так и не закончив обеда, Володя наскоро попрощался, схватил шлемофон и побежал к своей «девятке». Срочный вылет. Такое у нас случалось частенько.
Начальника политотдела воздушной армии генерала В. И. Алексеева все летчики уважительно звали Батей. Василий Иванович не только знал всех «стариков» своей армии, но и их семьи, регулярно переписывался с некоторыми, помогал посылками. У меня, например, до сих пор сохранилась с ним самая теплая дружба.
Бывший боевой летчик, генерал водил самолет сам. Он посадил машину в углу нашего аэродрома и не спеша стал вылезать из кабины.
Прилетел генерал на легком двукрылом самолете У-2. Некоторые называют этот самолет иронически «кукурузником», но, ей-богу, машина эта заслужила на фронте самую высокую репутацию.
Вначале гитлеровцы называли самолет полупрезрительно, полуиронически «рус-фанер». Они были правы: машина действительно сделана из дерева и обтянута полотном. Тихоходная, с низким потолком, она предполагалась для использования на фронте только для связи. Хороша она для первых шагов авиационного спортсмена, для обучения будущего летчика. Но для боя!… И все же этот небесный тихоход, этот «рус-фанер» оказался очень ценной машиной в воздушной войне. Его минусы превратились в достоинства. Малая скорость и малая высота полета позволяли машине в ночное время беспрепятственно и вместе с тем с абсолютной точностью сбрасывать на голову врага груз авиабомб. Маленький самолетик, этот труженик войны, простой, нетребовательный к аэродромам, взлетавший с любых площадок, заправлявшийся несколькими ведрами горючего, наносил немалый ущерб врагу. Фашисты бесились, но так и не придумали средств борьбы с этими ночными, больно жалящими осами.
Ироническое прозвище этих машин сменилось на грозное. Фашисты прозвали их «черт-машин». И недаром за каждый сбитый «черт-машин» гитлеровские асы награждались Железным крестом. Но сбить его было не так-то просто. Однажды я наблюдал за тем, как наш маленький «кукурузник» вел бой с немецким бронированным стервятником. На бреющем полете наш летчик искусно маневрировал вокруг огромного развесистого дерева, а разозленный немец, грохоча из пулеметов, проносился, взмывал и снова бросался в атаку. Его подводила огромная скорость самолета, он никак не мог попасть в увертливый «кукурузник». Поединок напоминал бой коршуна и мухи. И все же «муха» выбрала удачный момент, неожиданно ударила из пулемета в хвост промелькнувшему «мессершмитту». Вражеский самолет врезался в землю. А «рус-фанер» спокойно полетел своей дорогой.
Недаром командующий воздушными силами фронта генерал Т. Т. Хрюкин уважительно заявлял: «У-2 важная сила 8-й воздушной армии».
Так вот, такой «рус-фанер» и приземлился на нашем аэродроме, из него вылез генерал Алексеев. К генералу побежали встречающие. В комбинезоне, в полной летной форме Батя ничем не отличался от простого летчика. Стягивая перчатки, он шел навстречу.
– Товарищ генерал…– начал было, вытянувшись по стойке «смирно», рапортовать парторг нашего полка, но Батя прервал его и протянул для приветствия руку.
Поздоровавшись, генерал В. И. Алексеев спросил, где капитан Луганский.
– В воздухе,– озабоченно ответил И. Ф. Кузьмичев.– Долго вот что-то нет.
Как обычно, дожидаясь нашего возвращения, Кузьмичев все чаще поглядывал то на часы, то на небо. Это были самые неприятные минуты для тех, кто оставался на аэродроме. Вернутся, не вернутся? Сколько вернется, кого не будет? Генерал понимал озабоченность наших товарищей. Не донимая больше расспросами, он стал терпеливо ждать.
В тот день мы вернулись с боевого задания без потерь. Было еще довольно рано, всего одиннадцатый час утра.
Но к этому времени мы успели сделать уже два боевых вылета
Не зная, что прилетел Батя, мы собрались завтракать. Завтрак нам принесли прямо к самолетам. Мы с ребятами расположились на земле.
– Вот они,– сказал И. Ф. Кузьмичев.– Идемте.
– Нет-нет. Пускай спокойно позавтракают,– остановил его генерал.
Он взял комиссара под локоть и, расхаживая, принялся расспрашивать о жизни в полку. Генерала интересовало, получены ли листовки с обращением ленинградцев. Листовки в полк еще не поступали, но содержание их летчики уже знали. Из кольца вражеской блокады ленинградцы обратились с письмом к защитникам Сталинграда. В обращении запоминались такие волнующие строки: «Вы своей доблестью, мужеством, массовым героизмом при защите от фашистского зверя родного города прославили себя в веках. С мыслью о Сталинграде к станкам встают ленинградцы, с именем вашего города, как с боевым кличем идут в бой воины Ленинградского фронта. Сталинград – это теперь клятва на верность Родине, пример стойкости, образец мужества…»
В те же дни в адрес Сталинградского Совета депутатов трудящихся пришла телеграмма от мэра английского города Ковентри.
«Ковентри – наиболее пострадавший город Британии, с глубоким восхищением приветствует защитников героического города Сталинграда, чей пример вдохновляет каждого честного человека подняться против общего врага».
Телеграмму зачитывали на КП фронта, познакомили командиров и политработников. В ответе мэру Ковентри сталинградцы пожелали англичанам вместе со своими союзниками американцами быстрее открывать второй фронт, чтобы ускорить разгром фашистских захватчиков.
Генерал и Кузьмичев неторопливо прохаживались по краю поля. Летчики завтракали. Техники в это время заправляли машины.
Через пятнадцать минут В. И. Алексеев взглянул на часы:
– Ну, пошли.
Я издали заметил на поле аэродрома знакомую фигуру генерала. Батя неторопливо шагал к нам.
Летчики вскочили. Я коротко доложил.
Генерал внимательно всматривался в лица летчиков.
– Как дела?– расспрашивал он.– На самолеты не жалуетесь?
– А чего на них жаловаться? Летаем. Но если будут получше этих – не откажемся.
– Скоро, скоро, товарищи, все будет. Был большой разговор со всеми конструкторами. Понимаете?… И вообще скоро все будет иначе.
В словах генерала нам почудился намек на какие-то изменения в обстановке. Уж не наступление ли? Наконец-то! Скорей бы уж!
Не знаю, каким образом, но слухи о близких переменах начали просачиваться сначала в штабы, потом к солдатам. Действует так называемый беспроволочный солдатский телеграф. А здесь, под Сталинградом, каждый солдат ожидал изменений еще и потому, что враг был остановлен и остановлен надежно, больше немцам не удалось продвинуться ни на метр. Но сколько же можно стоять друг против друга? Такова была нехитрая солдатская логика.
И еще одно. С наступлением ноября на нашем фронте основной объем воздушной работы стал перекладываться на плечи истребителей. Все чаще некоторым из нас стали даваться задания не допускать разведчиков противника в тыловые районы фронта. Толковать такие задания можно было только так: мы оберегали места сосредоточения наших войск. А любому военному понятно, что сосредотачивают войска только перед тем, как послать их в наступление.
Дежурство наших истребителей в воздухе стало постоянным. Группы самолетов, сменяя одна другую, закрыли фронт и успешно перехватывали вражеские машины. В дальнейшем это сыграло огромную роль: немецко-фашистское командование так и не добыло сведений о крупном сосредоточении наших войск, не разгадало планов подготовки решительного контрнаступления.
Итак, фронт жил ожиданием близких перемен. Остановив врага, мы собирали силы для ответного удара. Намек на долгожданное наступление уловили мы и в словах генерала Алексеева.
Закончив расспросы о житье-бытье, генерал на минуту замолчал и переглянулся с И. Ф. Кузьмичевым. По лицу полкового комиссара скользнула одобрительная усмешка.
Батя полез в планшет и достал новенький партийный билет.
– Твой!– значительно произнес генерал, показывая мне билет.
Я невольно вытянулся по стойке «смирно». Генерал поздравил меня со знаменательным событием, по-отечески похлопал по плечу:
– Много говорить не буду, но такое у человека бывает раз в жизни… Ладно, спрячь и пошли-ка в сторонку.
Расстегнув комбинезон, я бережно спрятал партийный билет в нагрудный карман гимнастерки.
После, так сказать, официальной части, Василий Иванович принялся расспрашивать меня о семье. К тому времени жена с дочкой сумели добраться до Алма-Аты и прислали мне весточку. Жить они стали вместе с моей матерью.
– Смотри, как все хорошо получается,– порадовался вместе со мной Батя.– Дай-ка мне их адресок.
Достав свою пухлую записную книжку, генерал пристроил ее на планшете и, сильно щурясь, начал писать крупным четким почерком.
– Значит, в Алма-Ате обосновались?– приговаривал он, записывая.– Хороший город?
– Товарищ генерал, так я же сам из Алма-Аты!
– Я спрашиваю, как там жизнь? Дорого все? Есть ли что на базаре? Снабжение-то… сам понимаешь.
– Там мама. Сестра там. Огород есть, сад. Не пропадут. Теперь уж не пропадут! Главное – что добрались.
– Да, это хорошо. И очень удачно, что родные у тебя далеко от фронта. Им сейчас забыть все это нужно. Представляю, как они добирались Сейчас на железных дорогах бог знает что творится.
– Они пешком пошли, товарищ генерал.
– Ну, не до самой же Алма-Аты они тащились пешком.
В это время над полем взвилась ракета: на вылет! Я осекся на полуслове и умоляюще поглядел на генерала.
– Ну, ничего не поделаешь,– сказал он, пряча записную книжку.– Давай, беги. Смотри, ребята уж в машинах. Я, может быть, дождусь тебя!– крикнул он вслед.
На бегу я обернулся и покивал: хорошо. Техник уже стоял у моего самолета, чтобы помочь мне подняться. И. Ф. Кузьмичев потом рассказывал, что Батя долго ждал возвращения нашего звена, но так и не дождался. Времени было в обрез, а ему в этот день предстояло побывать в нескольких полках.
Генерал В. И. Алексеев не случайно оговорился относительно недалеких перемен. О том, что в скором времени наши войска перейдут к решительным действиям, стало говорить многое. В наш полк и в соседние начали поступать непрерывные пополнения летного состава и техники. Правильно мы догадались и по характеру наших охранных полетов. День ото дня в прифронтовой полосе происходила сугубо засекреченная концентрация мощных резервов танков и пехоты. Но главное, что говорило о приближении долгожданного дня, это тот боевой наступательный дух, который постепенно овладевал каждым бойцом, каждым командиром.
В день 25-летия Великой Октябрьской социалистической революции в приказе Наркома обороны было сказано: «Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!»
Особенно радовало нас, что авиационные полки получили большое количество новых самолетов-истребителей, летные данные которых позволяли нам теперь вести бой не только на виражах, но и успешно применять излюбленный немцами вертикальный маневр. К тому времени военные заводы, перебазированные на Восток, уже наладили серийный выпуск новых марок. С каждым днем самолетов становилось все больше. Чувствовалось, что теперь не немцы, а мы будем наращивать свою мощь. Скоро, очень скоро придет праздник и на нашу улицу.
Приближался намеченный Ставкой день наступления. Предстоящая операция, условно названная «Уран», отличалась своей целеустремленностью, смелостью замысла и огромным размахом. Контрнаступление мыслилось, как стратегическая операция трех фронтов – Юго-Западного, Донского и Сталинградского. Советским войскам предстояло прорвать оборону врага, разгромить его войска северо-западнее и южнее Сталинграда, а затем, наступая по сходящимся направлениям, окружить и уничтожить всю ударную немецкую группировку.
Разгром основных сил немецко-фашистских войск под Сталинградом создавал условия для развертывания общего наступления Красной Армии на всем советско-германском фронте.
Успех этой операции во многом зависел от решительных действий танкистов, поэтому основные силы авиации должны были взаимодействовать с танковыми соединениями. Для того, чтобы расчистить танковым корпусам дорогу, выделялись истребительная и бомбардировочная авиация.
Впервые за все время войны нам представлялась возможность в широких масштабах применить военно-воздушные силы для поддержки сухопутных войск.
К началу контрнаступления в составе трех фронтов имелось 25 авиадивизий с общим числом более 1300 самолетов. Предполагалось также использовать и соединения авиации дальнего действия численностью в 200-300 бомбардировщиков.
Нельзя не отметить, что в эти дни была произведена организационная перестройка. В целях создания полнокровных авиационных полков и дивизий вместо двух эскадрилий по девять самолетов новые штаты предусматривали в истребительных и штурмовых полках три эскадрильи по десять машин в каждой. Теперь звено состояло не из трех самолетов, а из двух пар. Наши летчики стали драться парами, в расчлененных боевых порядках. Это было продиктовано всем опытом предыдущих боевых действий.
Теперь мы были уже не те, совсем не те, что начинали войну.
Для прорыва вражеской обороны были созданы мощные группировки пехоты, танков и артиллерии. Одна на северном крыле, в составе трех танковых и двух кавалерийских корпусов, и другая на левом фланге в составе двух механизированных и одного кавалерийского корпусов. Обе группировки должны в течение трех дней замкнуть кольцо окружения.
Координацию действий трех фронтов Ставка возложила на начальника генерального штаба и представителя Ставки А. М. Василевского.
До начала контрнаступления остаются считанные дни. Наша разведка доносит, что немцы и не подозревают о предполагаемом ударе. С немецкой педантичностью они ведут беспорядочную бомбардировку наших переправ и железнодорожных станций.
Враг даже не подозревает, что мы способны на активные и мощные противодействия.
В эти напряженные дни, когда враг, все более ожесточаясь, продолжал беспрерывные атаки сталинградских руин и не догадывался заглянуть чуть подальше, в наш тыл, где собирались мощные силы, много дел было у политработников. Наш полковой комиссар И. Ф. Кузьмичев знакомил молодых пилотов с боевыми традициями полка, рассказывал о подвигах героев-летчиков.
– Скоро, скоро, ребята, наступит веселое время,– говорил Иван Федорович.– Скоро и мы пойдем. И как пойдем!
Надо было видеть, как загорались глаза летчиков. Кончилось наконец отступление. Враг еще был силен, он еще не потерял надежды опрокинуть наши войска в Волгу, но теперь мы были совсем не те, что прежде. За Волгой, на запад, лежали тысячи километров поруганной фашистами родной земли. Эта земля ждала избавления от неволи, она ждала освободителей.
Душевный подъем воинов был так велик, что многие авиаторы изъявили желание идти в бой коммунистами. Во всех авиационных полках, изготовленных к удару, сотни лучших летчиков, штурманов, техников были приняты в члены и кандидаты партии.
Знаменательного дня все ждали как праздника. И теперь, по истечении времени, снова и снова не перестаешь удивляться той самонадеянности, с какой гитлеровцы вели войну. Ничто не заставило их почувствовать беду. Наоборот, геббельсовская пропаганда вовсю трубила, что после Сталинграда наступит полный крах советского государства. И это не было обычным пропагандистским трюком: падения Сталинграда, считали немцы, следует ждать с минуты на минуту. Такое твердолобое убеждение в собственном превосходстве принесло горькие плоды. Немцы проглядели подготовку к колоссальному наступлению. Они и в мыслях не держали, что припертые к Волге русские войска способны на мощный контрудар.
Утром 19 ноября залп многих тысяч орудий и минометов возвестил начало сражения. Долгожданный час возмездия наступил!
Грозный, все потрясающий гул прокатился над степью – началась артиллерийская подготовка атаки. Огонь орудий и минометов уничтожал живую силу и технику на позициях вражеской обороны. Такого огневого шквала немцы еще не видели со дня вторжения. Недаром артиллерия, «бог войны», отмечает свой традиционный праздник именно 19 ноября.
К сожалению, низкая облачность и туман обрекли авиацию почти на бездействие.
Едва забрезжил рассвет и в атаку пошла пехота, с аэродромов поднялись и взяли курс на позиции врага мелкие группы бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей. Низкие серые облака висели над заснеженными полями, сверху падали хлопья снега, видимость оказалась отвратительной. Налеты с воздуха не дали должного эффекта. Правда, в этот день почти бездействовала и авиация противника.
Не улучшилась погода и на другой день, но все же летчики мелкими группами и в одиночку наносили удары по врагу. Поддерживая успешное наступление сухопутных войск, экипажи бомбили и штурмовали вражеские аэродромы. Больше всего уделялось внимания самым крупным аэродромам врага – в Тацинской и Морозовском, на каждом из которых находилось до 300 самолетов. Об эффективности наших налетов говорят сами немцы. Впоследствии один из битых гитлеровских генералов, фон Манштейн, писал: «Гитлер приказал обеспечить всем необходимым окруженную армию Паулюса, а обеспечивать было нечем, так как аэродромы Морозовский и Тацинская подверглись жесточайшему разгрому, в результате которого материальная часть и горючее были уничтожены, а личный состав наполовину перебит, другая же половина разбежалась неизвестно куда».
Вернувшись из полетов, мы стояли у своих машин и с радостным волнением прислушивались к могучим звукам все нарастающего боя.
Наши войска идут в наступление!
Немецко-фашистское командование, не ожидавшее удара подобной силы, было захвачено врасплох. Советские ударные части стремительно развивали успех.
Ежедневно на своих летных картах мы отмечали продвижение наступающих войск.
Стремительно шла по отвоеванной земле наша 5-я танковая армия. Поддержанные авиацией, танкисты двигались в район города Калача, где должны были соединиться с войсками Сталинградского фронта и завершить окружение вражеских войск.
Под мощными ударами наших войск немцы откатываются. Разведка, действующая в тылу противника, а также пленные сообщают, что штаб генерала Паулюса спешно перешел на дивизионный командный пункт. За время наступления это уже вторая «кочевка» Паулюса со своим штабом. Бегает как заяц! Это тот самый Паулюс, который еще в 1940 году, будучи постоянным заместителем начальника немецкого генерального штаба, разрабатывал предложения относительно группировки войск для войны против; Советского Союза, порядка их стратегического сосредоточения и развертывания. На основе докладной записки, Паулюса Гитлеру оперативный отдел генерального штаба составил проект директивы знаменитого плана «ОСТ». В декабре 1940 года в кабинете Паулюса был проигран штабными генералами подготовленный план Восточной операции. И вот теперь этот гитлеровский стратег под ударами советских войск мечется и не может найти себе места. Наконец наступил день, когда клещи советских войск сомкнулись. На аэродроме у нас всеобщее ликование. Летчики поздравляют друг друга, обнимаются и целуются. Настоящий праздник!
Снова в полку мы увидели Батю. Генерал прилетал как добрый вестник. Ликующие летчики чуть не закачали его. Подлетая в воздух, генерал умолял отпустить его на землю. Куда там! В конце концов пришлось вмешаться Кузьмичеву.
Переведя дух, генерал перешел к делам. Окруженная группировка, сказал он, и не подумает добровольно сложить оружие. Попав в котел, немцы будут пытаться всеми силами разорвать кольцо окружения. Генерал сообщил нам, что окруженным немецким войскам Гитлер направил специальную телеграмму. «6-я армия временно окружена русскими,– писал Гитлер.– Армия может поверить мне, что я сделаю все от меня зависящее для ее снабжения и своевременного деблокирования. Я знаю храбрую 6-ю армию и ее командующего и уверен, что она выполнит свой долг. Адольф Гитлер».
Немецкая авиация, предупредил генерал Алексеев, станет постоянно опекать окруженных. И вот тут нам предстоит показать себя.
Мы горячо заверили Батю, что «опеку» над окруженными целиком возьмем на себя. Над «котлом» и воробей не пролетит!
На следующий день мы узнали о размерах фашистской группировки.
Начальное кольцо оперативного окружения было замкнуто менее чем за сто часов, В кольцо окружения попали 22 немецко-фашистские дивизии с многочисленной техникой. Территория «котла» отлично простреливалась дальнобойной артиллерией в любом направлении.
Вооруженная передовой советской военной наукой. Красная Армия полностью развенчала пресловутую доктрину немецких генералов, перед которой долгое время преклонялись военные специалисты многих стран.
:В результате Сталинградской победы Красная Армия прочно захватила стратегическую инициативу и перешла в общее наступление на огромном фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа.
В период разгрома окруженной группировки врага в небе Сталинграда с рассвета дотемна шли напряженные воздушные бои.
Генерал Алексеев правильно предвидел: для снабжения находившихся в «котле» войск немецкое командование сосредоточило почти всю свою транспортную авиацию, сняв для этого самолеты с воздушных линий Берлин – Париж и Берлин – Рим. На транспортные самолеты были посажены лучшие инструкторы летных школ Германии.
Все это напоминало лихорадочные действия зарвавшегося игрока.
Становится известно, что немецкие соединения в «котле» начинают перегруппировку, создавая группу прорыва окружения. Немецкое командование отдало приказ: уничтожить, сжечь или привести в негодность излишки снаряжения и военного имущества, поврежденные танки, пушки, грузовики, средства связи, запасы обмундирования, документы. Это была агония перед бесславным концом.
На Котельниковском плацдарме приказом Гитлера создана группа армий «Дон». Главнокомандующим группой назначен Эрих фон Манштейн. Ее задача – восстановить положение и деблокировать армию Паулюса,
К нам в руки попадает приказ Паулюса по армии. «Солдаты 6-й армии!
Армия окружена, но не по вашей вине. Вы всегда стойко держались даже тогда, когда враг у вас за спиной. Своей цели – вас уничтожить – он не добьется. Много еще я должен потребовать от вас: вы должны преодолеть все' трудности и лишения, в мороз и холод выстоять и биться с любыми численно превосходящими силами противника! Фюрер обещал нам помощь. Вы должны драться до тез пор, пока не победим. Поэтому держитесь. Фюрер нам поможет».
И фюрер из кожи лез, чтобы помочь своим обреченным дивизиям. Ежедневно тяжело груженные самолеты Ю-52 направляются к «котлу». Они везут боеприпасы, продовольствие. Но большая часть грузов не доходит до места назначения.
Попытка германского командования снабжать армию Паулюса по воздуху окончилась полным провалом. Советские летчики надежно блокировали «котел». Представитель Ставки по авиации – командующий ВВС Красной Армии генерал-лейтенант А. А. Новиков – издал специальную директиву по организации воздушной блокады вражеской группировки. Основное ее требование было сформулировано предельно просто: «Уничтожение транспортных самолетов противника считать основной задачей».
Немецкие транспорты упрямо лезли к «котлу», а истребители били и били их. Мы расстреливали самолеты, и они огромными факелами валились на землю. Это была месть. Это было ликование. Кончились дни отступления. Теперь наш праздник.
Летчики, штурманы, техники, воины авиационного тыла не жалели сил, чтобы вырвать у врага победу. В дни боев над окруженной группировкой немецких войск по всем фронтам прогремело имя летчика-штурмовика, славного сына казахского народа Нуркена Абдирова. Летчик Абдиров был подбит во время штурмовки вражеских позиций. Самолет Абдирова загорелся. И тогда, собрав свою волга в кулак, летчик решил повторить подвиг капитана Гастелло: он направил горящую машину прямо в скопление вражеских танков. Тяжелый взрыв разметал вражеские машины, изготовившиеся для боя.
Примеров самопожертвования, героизма можно привести множество.
За время ликвидации окруженной группировки вражеская авиация понесла огромный урон. В воздушных боях были разгромлены лучшие летные части фашистской Германии. Там она потеряла своих опытных летчиков и штурманов. После Сталинграда в военно-воздушных силах Германии стал ощущаться недостаток в летчиках. Ликвидировать его противник не смог до конца войны.
…Знакомая мне «девятка» неутомимо сновала в беспорядочном бою. Бои стали обычным явлением на подходах к границам сталинградского «котла». В морозном небе далеко-далеко протянулись три дымовых хвоста – последний путь горящих машин. Бой не ослабевал ни на минуту.
Торопясь на смену эскадрилье, в составе которой на неутомимой «девятке» дрался Володя Микоян, мы с ходу врезались в беспорядочный строй «мессершмиттов» и «лавочкиных».
На моих глазах «девятка» с ястребиного захода атаковала вражескую машину, и еще один дымный след потянулся к земле. В этом хаосе беспрерывных пушечных и пулеметных очередей трудно было решить, правильно ли выбран тот или иной маневр. Не мудрено было получить шальную очередь или попасть под огонь своего же товарища. Я заметил, что, выходя из атаки, «девятка» как будто потеряла маневренность. Поврежден мотор? Или ранен летчик? Во всяком случае, с этого момента я старался быть поближе, чтобы в нужный момент прикрыть пострадавшего товарища.
На поврежденном самолете Володя устремился в новую атаку, пристроившись за вражеской машиной. Но я заметил, что следом за ним увязался «мессершмитт».
«Девятка» выписывала сложнейшие фигуры, ни на шаг не отставая от намеченной жертвы. Немец свечой вверх – «девятка» за ним, немец в вираж – «девятка» как привязанная. Но следом за самолетом Володи Микояна все это сплетение фигур выписывал и пристроившийся к нему «мессершмитт», а уж за ним и я. Такой каруселью мы и носились в стылом зимнем небе над Волгой. Оглушительно ревели моторы, но огня никто не открывал. Каждый из летчиков старался «увидеть в прицеле заклепки вражеской машины».
Но вот длинной очередью Володе удалось поджечь «мессершмитт». Вражеский самолет задымил и потянулся к земле. Ничего не подозревая о погоне, «девятка» легла в неглубокий вираж, открыто подставляя себя под огонь.
Видя все это, я понял, что медлить нельзя ни секунды. И мне удалось опередить Володиного преследователя. Пушечная очередь почти в упор разворотила вражескую машину. На землю полетели обломки.
Не убавляя газа, я вышел из атаки и взмыл вверх, набирая высоту. Убедился, что на хвосте у меня никого нет. Можно было атаковать снова. Но враг уже уходил и бой затихал. Я стал всматриваться вниз, пытаясь разглядеть самолет Володи Микояна. Его не было. Хотя, вот он! «Девятка», словно обессилев, плелась устало и безучастно. Я догнал ее лишь сейчас, рассматривая вблизи, увидел, насколько пострадала она в бою: фюзеляж был изрешечен, крыло еле держалось.
В кабине за стеклом фонаря я рассмотрел Володю. Он повернул в мою сторону лицо, улыбнулся слабенькой улыбкой усталого человека и опустил голову на штурвал. «Девятка» тотчас же начала зарываться. «Ранен?…» Но нет, машина снова выровнялась, и я увидел, что Володя делает отчаянные усилия, чтобы не свалиться в штопор. «Хоть бы дотянул до аэродрома!…»
Однако я тут же заметил, что «девятка» плетется совсем в обратную сторону – на запад. Куда он? Я поправил наушники.
– Володя… Володя… Разворачивайся. Разворачивайся, слышишь?
Но в наушниках было тихо. «Девятка» клевала все чаще.
– Володя, ты не туда летишь! Слышишь? Володя, поворачивай домой.
Все напрасно. Изрешеченный самолет упрямо тянул на запад.
Я надеялся, что с остатками сил Володя все же сумеет добраться до своего аэродрома. А нам надо поворачивать, уходить в обратную сторону. Беспокоило и другое – в любую минуту могли показаться «мессершмитты». В нашем положении отбиться от этих стервятников было бы трудно. Но впереди, там, куда мы летели, пока чисто. Надо пользоваться затишьем, разворачиваться и идти домой.
Как сильно ранен Володя? Почему не откликается? Становилось ясно, что летчик начинает терять сознание.
Я хотел было пресечь курс «девятки», чтобы показать, куда надо лететь, но тут, видимо, силы совсем оставили раненого летчика, и машина перевернулась, а еще через мгновение загорелась.
Зная по опыту, что теперь положение поправить немыслимо, я все же сделал несколько кругов, но купола парашюта так и не увидел. «Девятка» ударилась о землю. Еще одна безымянная могила отважного человека. Сколько их было в наших бескрайних степях…
После воины мне довелось встретиться и разговаривать с Анастасом Ивановичем Микояном. Потерю сына Анастас Иванович перенес мужественно. В то тяжелое для Родины время в боях под Сталинградом многие семьи понесли невозвратимые утраты, Так, в кровопролитных боях под Сталинградом был смертельно ранен командир пулеметной роты курсантского учебного батальона Рубен Ибаррури, сын секретаря ЦК Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури. С большим трудом раненого переправили через Волгу и доставили в госпиталь. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь ему не удалось. Рубена похоронили в поселке Средняя Ахтуба. Смертью героя погиб в боях под Сталинградом Тимур Фрунзе, сын легендарного М. В. Фрунзе, и многие-многие другие. Имена их свято чтут однополчане, товарищи по фронту, весь наш народ.
Система воздушной блокады оказалась весьма эффективной. Враг потерял на аэродромах и в воздухе более тысячи самолетов. Почти семьдесят процентов из них транспортные. Несмотря на все потуги Геринга, генерала Рихтгофена организовать снабжение по воздуху немцам фактически не удалось.
Не получая необходимых подкреплений, окруженная группировка противника с каждым днем теряла свою боеспособность.
За подписью Вальтера Ульбрихта – депутата рейхстага, Эриха Вайнерта – писателя Берлина, Вилли Бреде-ля – писателя Гамбурга среди немецко-фашистских войск, запертых в «котле», распространяется листовка с призывом прекратить бессмысленное кровопролитие и капитулировать. Это самое разумное, что остается сделать окруженным. Положение в «котле» с каждым днем резко ухудшается. Нет продовольствия, начался голод. Немцы получают в Сталинграде по 50 граммов хлеба в день. Своим союзникам они не дают и этого.
Наши разведчики сообщают, а пленные немецкие солдаты подтверждают, что в окруженных войсках введено чрезвычайное военно-полевое законодательство. За маломальский проступок – недовольство командованием, высказывание критических мыслей, протест против сокращения хлебного пайка или за необеспечение медикаментами – предусматривается самое тяжелое наказание. Только за последние дни вынесено около 400 смертных приговоров солдатам и даже офицерам, которые немедленно приведены в исполнение. Такими чудовищными мерами гитлеровское командование хочет заставить своих солдат продолжать сопротивление.