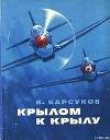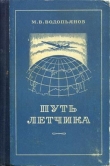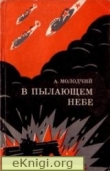Текст книги "Небо остается чистым. Записки военного летчика."
Автор книги: Сергей Луганский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Глаз у разведчика был исключительно точен. Это своеобразный дар человека – быть разведчиком, и авиационное начальство особенно дорожило такими людьми.
В одном из полетов самолет Драченко подбили, и летчик попал в плен. Раненый, он еле вывалился из кабины горящего самолета, нашел силы раскрыть парашют и потерял сознание от резкой боли – стропами парашюта ему сильно ободрало лицо.
В плену Иван прошел все круги ада. Был в лагере, бежал, снова поймали. Дополнительные муки принесли ему глаза, талантливые глаза воздушного разведчика. Помимо всего, глаза у Ивана были редкой красоты, и для женского населения аэродромов лихой штурмовик был просто неотразим. Заметили красоту глаз пленного летчика и немцы. Забрав Ивана из барака, они поместили его в больницу и там, под наркозом, вырезали один глаз.
Наши войска освободили Драченко из лагеря. Истощенный, без глаза, измученный издевательствами, бывший штурмовик вернулся в родной полк. Узнав, что нашелся Драченко, его вызвал командир корпуса генерал В. Рязанов.
– Куда теперь тебя, Иван?– спросил генерал, всей душой стараясь ему помочь.
Драченко ответил твердо:
– Только на штурмовик!
– С одним-то глазом!…
– Прошу, товарищ генерал! Разрешите! Я сумею.
И сумел. Сумел же Маресьев летать без обеих ног, смог вернуться в строй и одноглазый штурмовик. И снова летал он в разведку, и снова не знал ошибок его точный глаз.
Помимо разведывательных полетов Иван Драченко водил свой грозный ИЛ и на штурмовку. У летчика к ненавистному врагу был свой счет, и он торопился получить по нему. В октябре 1944 года Ивану Григорьевичу Драченко присвоили звание Героя Советского Союза. Он был одним из немногих летчиков, который стал кавалером Ордена Славы трех степеней.
И вот теперь этот человек стоял передо мной в коридоре госпиталя, мы держали друг друга за плечи и всматривались. На лице Ивана была черная повязка, но другой глаз был все тот же: веселый, насмешливый, непередаваемой красоты.
– Ну, как ты, что?– почти одновременно спросили мы друг друга и рассмеялись.
Неожиданная встреча взволновала нас обоих. Мы ушли в сад, сели на скамейку.
Иван Драченко жил и работал в Киеве. О многих своих фронтовых товарищах он ничего не знал: где они, что с ними? И мы принялись вспоминать.
Ах, эти воспоминания боевых, давно прошедших лет! Прошедших, но не забываемых никогда. Война с фашизмом стала частью всей жизни нашего поколения. «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Эти слова стали как бы символом отношения народа к своим героическим сынам.
Теперь трудно припомнить, в какой последовательности развивались наши воспоминания, однако твердо помню, что мы много говорили о недавнем «открытии» имени Михаила Девятаева, тоже летчика и тоже, как и Драченко, побывавшего в фашистском плену.
Михаил Петрович Девятаев, как я уже писал, был сбит в бою в июле 1944 года и попал в плен. Какие только мучения не перенес он в концентрационном лагере, но ни на одну минуту не оставляло его решение совершить побег и вернуться в свою часть. Наконец возможность бежать представилась – и какая возможность! Однажды с группой военнопленных он работал на аэродроме. Поблизости стоял заправленный для полета бомбардировщик «Хейн-кель-111». И пленные под руководством Михаила Девятаева решились на отчаянный шаг – они захватили самолет. Девятаев поднял в воздух тяжелую машину. Самолет с пленными на борту направился через линию фронта и благополучно совершил посадку на нашей территории.
После дерзкого побега пленных в лагере начался настоящий переполох. На место происшествия, на аэродром на острове Узедом, примчался сам рейхсмаршал Геринг. В бешенстве он учинил страшный разнос, срывал погоны с офицеров. Комендант лагеря военнопленных и несколько охранников были приговорены к расстрелу.
О подвиге героя узнала вся страна, весь мир. Михаилу Петровичу Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Сейчас он водит по Волге быстроходный корабль на подводных крыльях. Недавно, в дни празднования 19-й годовщины образования ГДР, с острова Узедом пришли радостные вести: в Карлсхагене был торжественно открыт монумент в честь подвига советского летчика Девятаева и его товарищей.
Как бывшего штурмовика, Ивана Драченко интересовала судьба тех, с кем он вместе летал. Я ему рассказал, что его фронтовой товарищ Талгат Бегельдинов живет в Алма-Ате, работает в Управлении ГВФ.
– Значит, летает?– спросил обрадовано Иван.
– Нет. Уже не летает. Заместитель начальника Управления.
Летал из наших ребят только Дмитрий Глинка. Он водит пассажирские лайнеры на международных трассах.
– А Дунаев? Помнишь?– спросил Иван.
– Коля Дунаев здесь, в Москве. Работает во Внуково.
– Значит, тоже поближе к самолетам… Генерал В. И. Алексеев, Батя, был уже на пенсии, И. Кузьмичев жил в Мичуринске, работал в обществе по распространению политических и научных знаний. Евгений Меншутин, мой ведомый, закончил после войны институт цветных металлов и сейчас работает в министерстве. Коля Шутт в Кишиневе, в Досаафе. Рассказал я и о своем фронтовом технике Иване Лавриненко. Он теперь инженер-подполковник, работает в авиаучилище.
– Все возле авиации, все,– с грустной ноткой говорил Драченко, покачивая головой.
Невеселые воспоминания вызвал у него мой рассказ о судьбе Ивана Корниенко. Корниенко тоже побывал во вражеском плену. После войны он не оставил авиацию, поехал служить на Дальний Восток. Корниенко работал инструктором по технике пилотирования, помогал молодым летчикам осваивать новую технику. В одном из полетов Иван разбился.
О гибели Корниенко мы узнали от его жены Раисы.; Она приехала в Москву хлопотать о пенсии.
Несколько иначе сложилась судьба еще одного нашего фронтового товарища. Однажды по телевидению передавался спектакль «Барабанщица». На титрах с фамилиями авторов спектакля мелькнуло знакомое имя: композитор Леонид Афанасьев. Оказывается, композитора хорошо знал Иван Драченко: быший летчик из 948-го штурмового полка. Летчики знали его по музыке к популярной песне «Первая эскадрилья».
Нас было двенадцать верных друзей – Надежные руки и крылья, Нас было двенадцать веселых парней – Первая эскадрилья.
За фронтовые подвиги Леонид Афанасьев награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Александра Невского, медалями.
Во время тяжелого ранения его парализовало, и он потерял речь. И все же воля летчика поборола страшные недуги. Он вновь вернулся в любимое небо и в январе 1945 года повел в бой свою первую эскадрилью.
В 1951 году майор запаса Л. Афанасьев с отличием закончил консерваторию в моем родном городе Алма-Ате. За дипломную работу «Концерт для скрипки с оркестром» ему была присуждена Государственная премия.
Сейчас бывший штурмовик – автор нескольких симфоний, одна из них посвящена летчикам. Он написал музыку к двенадцати кинофильмам,– в том числе к фильму «Прыжок на заре», показывающему армию сегодняшнего дня, новое поколение летчиков, пришедшее на смену ветеранам.
А грянет беда – подросли сыновья,
И тоже мечтают о крыльях!
Нас будет двенадцать, как прежде, друзья,
Первая эскадрилья!
…Многих мы вспомнили с Иваном в ту памятную встречу. День медленно клонился к закату, когда мы поднялись со скамейки. По аллеям сада тихим шагом прогуливались люди в больничных пижамах. Большинство попало сюда из-за последствий войны – давали знать себя фронтовые увечья. Иван жаловался на сильные головные боли.
– От глаза,– говорил он, трогая черную повязку.-
Что-то они, сволочи, нарушили тогда… Ну, а ты? Где это
обгорел так? С курорта? Неужели что-нибудь заварится опять? Как думаешь?
Это не было любопытством праздного человека. Говорил фронтовик, хорошо знающий, что такое война и все, что с ней связано.
– Посмотрим,– ответил я.– Но думаю, что не посмеют.
эпилог
– Товарищ Маршал Советского Союза! Полковник Луганский по вашему вызову прибыл!
Командующий противовоздушной обороной страны Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов, выслушав мой рапорт, выходит из-за огромного служебного стола.
В приемной командующего дожидается множество народу с эмблемами различных родов войск. На нескольких столиках непрерывно звонят телефоны. Бесшумные адъютанты и помощники привычно ведут прием посетителей, отвечают на телефонные звонки. Иногда раздается короткий густой звонок над дверью, ведущей в кабинет командующего, и тогда высокий адъютант с погонами подполковника быстрыми шагами пересекает приемную и скрывается за массивной дверью. Вернувшись из кабинета, он молча идет к своему столику и делает какую-то запись на чистой странице огромного блокнота, или же не громко, но внятно произносит фамилию ожидающего приема офицера и, посторонившись, пропускает его в дверь. Только что, перед тем как мне войти, он назвал мою фамилию.
Маршал С. С. Бирюзов еще раз вызывает адъютанта и отдает приказание не соединять его некоторое время по телефону, затем указывает мне на кресло у стола.
Огромный кабинет командующего залит ярким солнечным светом. Над Москвой сияет ясный погожий день. На стене кабинета висит большая карта страны. Эта карта знакома мне, и я привычно нахожу точку, где в настоящее время расположена моя дивизия.
После нескольких вопросов о службе, о состоянии дивизии командующий переходит к делу, ради которого я я вызван в Москву. Маршал говорит, что командование противовоздушной обороны считает меня вполне подготовленным для выдвижения.
– Я думаю, вы согласитесь, Сергей Данилович.
– Разрешите отказаться, товарищ Маршал Советского Союза!– сразу же заявляю я, поднимаясь с кресла.
– Почему?
– Прошу оставить меня командиром дивизии. По-моему, это сейчас самое творческое дело для авиационного командира. К тому же я еще не так давно принял дивизию.
Но главное – мне хочется получше освоиться в роли комдива.
Я волнуюсь. Командующий, не перебивая, внимательно слушает мои доводы.
Когда я закончил, он на некоторое время задумался. Пальцы его барабанили по кожаной обивке глубокого покойного кресла.
– Ну что ж,– проговорил он наконец, поднимаясь,– Причины вроде бы убедительны. Но имейте в виду, что к этому разговору нам еще придется вернуться. И может быть, в самом недалеком времени. До свиданья. Желаю успеха. И учтите – скоро вам предстоят серьезные экзамены.
Протянув на прощание руку, командующий повернулся и пошел к своему столу.
Что заставило меня отказаться тогда от, казалось бы, лестного предложения? Скажу откровенно: сознание того, что я еще не готов к выполнению ответственных задач.
Мирные годы для нас, военных, были временем, прежде всего, повседневной учебы. Каждый летчик должен быть все время «на высоте»: в совершенстве знать и владеть новейшей, непрерывно поступающей техникой.
Учились в полках не только рядовые летчики. Серьезно занимались и командиры всех степеней. Огромный и сложный механизм военно-воздушных сил должен быть все время в четком, хорошо отработанном состоянии.
Развитие техники, рост скоростей самолетов, их «потолка» позволяли врагу применять совершенно иные методы и формы шпионажа. Отошло время, когда шпион или диверсант под покровом темноты крался через границу, заботясь, как бы не хрустнула под ногами ветка. Получив в руки современные самолеты, враг стал использовать для своих грязных дел небо.
Кстати, о том, как закончилась попытка одного из таких нарушителей совершить разведывательный полет, в свое время много писалось.
Американский самолет «Локхид У-2» нагло пересек советскую границу, но в районе Свердловска был сбит зенитной ракетой. Летчик Фрэнсис Пауэре выбросился на парашюте и попал в плен.
Скандал получился громкий,– на весь мир. Комичность положения усугублялась тем, что вначале появилось сообщение о сбитом самолете и погибшем летчике. Американцы, полагая, что болтать некому и концы надежно спрятаны в воду, поспешили отречься вообще от всей затеи с этим разведывательным полетом. Велико же было изумление хозяев шпиона Пауэрса, когда он вдруг «ожил» и стал давать откровенные показания на суде. Конфуз был полным. Американцы, только что заявившие официально о непричастности к этому полету, после показаний пленного летчика прикусили язык и долгое время хранили похоронное молчание.
Напрасно американская пропаганда болтала, что Соединенные Штаты являются поборником мира и далеки от мысли вмешиваться в дела других государств. Факты доказывали обратное.
Повседневные учения советских авиаторов включали в программу технику пилотирования, стрельбы, отработку мобилизационной готовности.
Предупреждение маршала С. С. Бирюзова о предстоящих серьезных экзаменах как раз и касалось нашей боевой готовности: вскоре стало известно, что для проверки выучки авиаторов приезжает Главный инспектор Министерства обороны СССР Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский.
Готовясь к инспекции, все службы нашего большого и сложного «хозяйства» постарались не ударить в грязь лицом. Нервозности, горячки не было, но ожидание строгого экзамена накладывало на жизнь подразделения определенный отпечаток. Всем нам хотелось показать, что враг, как бы он ни был силен, встретит мощный, сокрушительный отпор.
…День военных летчиков, как правило, начинается рано.
Позавтракав, попрощавшись с семьей, отправляюсь на службу. Машина уже ждет меня у подъезда.
Быстро подъезжаем к штабу. Там уже заведенным порядком начинается очередной служебный день. Доклад начальника штаба. Все, как обычно. Но нет, не все. Закончив докладывать, начальник штаба с плохо скрываемой улыбкой подал мне служебную телеграмму. Я развернул сложенный листок. «Поздравляю генеральским званием. Желаю… и т. д. Бирюзов». Кровь невольно ударила мне в лицо. Хоть я и не согласен с известной поговоркой: «Плох тот солдат, который не стремится в генералы», но за годы войны, за годы военной службы я привык исполнять свое дело добросовестно, с полной отдачей сил и, признаюсь, оценка свыше всегда радует.
День, таким образом, начался приятно, и наш разговор с начальником штаба утратил обычную служебную сухость.
– Вот и случай отметить!– сказал я, все еще заглядывая в листочек телеграммы.
– Разрешите и мне присоединиться к поздравлениям, товарищ командир!
– Спасибо!
Входят начальники отделов штаба – опытные, боевые офицеры. Как правило, все они имеют академическое образование. У каждого из них свои накопившиеся служебные дела. До приезда Главного инспектора остается совсем немного времени, а вопросов, требующих немедленного решения, возникает все больше и больше. И я, позабыв обо всем, с головой ухожу в неотложные дела.
Как уже говорилось, ракетная техника, став реальностью, принялась развиваться поразительными темпами. Иногда даже кажется, что авиация уже отжила свой век. И не мудрено, что в среде специалистов иной раз стали раздаваться голоса относительно того, не заменит ли ракета самолет полностью, во всех аспектах мирного и военного применения.
Как старый летчик, хочу высказать свое мнение. Мне кажется, у авиации есть такие отрасли, где ракета никак не может вытеснить самолет (причем я не имею в виду применение гражданской авиации). Просто на смену сегодняшнему самолету придет машина будущего.
Известно, что агрессивные генералы из некоторых стран мечтают о так называемой «кнопочной войне», когда нажатием кнопок из кабинетов можно пускать ракеты и уничтожать целые страны и народы без участия солдат, на которых они все больше не надеются. Однако сами они, эти генералы, сокрушаются тем, что нынешние ракеты – механизм очень громоздкий и сложный – не могут соперничать с человеком, способным вмешаться и исправить ошибку. Например, известная американская ракета «Атлас» имеет 26 метров длины и состоит из 300 тысяч всяческих деталей. Каждая из этих деталей может стать причиной неисправности и сорвать выполнение заданной программы полета. А вот мнение небезызвестного английского фельдмаршала Монтгомери: «Насколько можно предвидеть, пилотируемые самолеты сохранятся еще долгое время… Человеческий мозг – это единственный механизм, способный действовать в непредвиденных условиях».
И не случайно до сих пор на вооружении армий всех стран мира состоят пилотируемые аппараты тактического назначения, применяемые как средство ближнего боя, воздушной разведки, для взаимодействия с наземными войсками, а также для перехвата воздушного противника. Лишь на смену отжившим свой век авиационным пулеметам и пушкам пришли ракеты различного назначения: «воздух – воздух», «воздух – земля», «воздух-корабль» и другие.
Кое-что из новинок авиационного вооружения мы смогли продемонстрировать Главному инспектору Министерства обороны СССР.
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский прибыл к нам с группой командиров.
Незабываемое впечатление осталось от личного знакомства с Константином Константиновичем Рокоссовским. Обаятельный внешне, высокий, подтянутый, приветливый, он производил большое впечатление своей внимательностью ко всем офицерам, независимо от положения и звания, вежливостью и, я бы сказал, какой-то утонченностью обращения, характеризующей человека высокой культуры н благородства.
Нет нужды говорить о том, какой славой, поистине всенародной, пользовалось имя маршала К. К. Рокоссовского во время войны. Велик его авторитет был в войсках. И теперь мы были горды и считали большой честью, что проверку нашей боевой готовности проводил этот прославленный военачальник.
Константин Константинович, заложив за спину руки, стоял на самом солнцепеке и терпеливо ждал начала воздушных учений. Он не подгонял, не торопил, не вмешивался в распоряжения, и постепенно его ровное доброжелательное настроение передалось всем присутствующим. Пропали нервозность и скованность, неизбежные при наездах такого высокого начальства.
– А ну-ка, интересно,– проговорил маршал, когда в небе показались стремительно приближающиеся точки.
Он взял в руки сильный полевой бинокль, висевший у него на груди.
– «Миги»?– узнал он приближающиеся самолеты.
– Так точно! Атака по мишеням на земле.
Не отрывая бинокля от глаз, К. К. Рокоссовский проследил, как истребители четко развернулись в линию и, не сбавляя своей бешеной скорости, разом устремились к земле. Мишени были скрыты от наших глаз, но я знал, что там поставлены бочки с горючим и при попадании должен последовать взрыв. Истребители блестяще выполнили задуманный маневр: спикировав, они точно, безошибочно расстреляли все до единой мишени – взметнулось пламя, повалил черный дым.
– Красиво!– одобрил маршал. Потом он отнял от глаз бинокль и, наклонившись ко мне, проговорил:– Но старовато. Атаки по наземным точечным целям превосходно практиковал еще покойный Иван Семенович Полбин.
Вам не приходилось наблюдать?
Ну как же! Кто же из авиаторов не знал этого знаменитого генерала и его не менее знаменитую «вертушку», когда «петляковы» грозно выходили на цель? Слава богу, генерала Полбина мне приходилось прикрывать не раз и не два.
– Большой был мастер!– сказал К. К. Рокоссовский, снова поднимая к глазам бинокль.
Учения продолжались по заранее намеченному плану.
Вот по «команде» с земли, одними нажатиями кнопок, в небо взмыла летающая мишень. Мишень еще не набрала высоты, как сверху, словно коршун, на нее спикировал хищный и неудержимый «миг» и расстрелял ее ракетой.
– «Воздух – воздух»?– оживился маршал, не отрываясь от бинокля.– Но какая скорость у этого вашего… у мишени?
– Скорость небольшая, товарищ Маршал Советского Союза,– ответил я.– Тип самолета старый. Сейчас мы покажем поновее.
– Прошу вас.
С соседнего аэродрома поднялся бомбардировщик Под крыльями у него были подвешены две мишени планеры с реактивными жидкостными двигателями. Набрав достаточную высоту, бомбардировщик отцепил планеры и отвалил в сторону. Все кто был на наблюдательном пункте не открывали глаз от биноклей. Планеры, раскрашенные в яркий красный цвет, четко выделялись на фоне блеклого неба. Вот по команде с земли на них взревели реактивные моторы и, оставляя за собой длинные ленты инверсионного следа, устремились в бескрайний простор пятого океана. Они шли со скоростью более 800 километров в час – ни дать ни взять реактивные истребители, «нарушившие» покой нашего неба.
Откуда-то со стороны наперерез «нарушителям» понеслись маленькие стремительные «миги». Они были далеко от нас, но в сильные полевые бинокли просматривались отлично. Это и в самом деле было захватывающее зрелище: воздушный бой современных истребителей, перехват условных воздушных нарушителей.
Красные точки планеров почти совсем потерялись в небе, когда истребители-перехватчики приблизились к ним на дистанцию атаки. И мы увидели, как от каждого истребителя отделился какой-то снаряд и понесся к цели. Это были ракеты «воздух – воздух». На наших глазах произошло прямое попадание, и объятый пламенем «нарушитель»– управляемый по радио планер-мишень – начал падать. Когда длинный шлейф черного дыма достиг земли, произошел взрыв.
– Вот это уже стоящее дело,– удовлетворенно проговорил К. К. Рокоссовский, потирая утомленные глаза. Он еще раз взглянул на небо, где уже не было ни «нарушителей», ни «часовых», и сказал:– Ну, Сергей Данилович, командуйте дальше. Что у нас еще на сегодня?
…Всесторонняя и глубокая инспекция констатировала высокий уровень боевой подготовки. Уезжая, маршал К. К. Рокоссовский благодарил офицерский состав за продемонстрированные выучку и мастерство, а выступая перед офицерами с подробным разбором инспекционных учений, подчеркнул еще раз, что советские авиаторы доблестно несут свою почетную вахту по охране родного неба. Маршал специально обратил внимание всех присутствующих на то, что даже при самом строгом, самом придирчивом подходе инспекции ни по одному из пунктов проверки не было выставлено троек. Лишь две четверки,– остальные же только пятерки.
В глубоком молчании слушали прославленного военачальника собравшиеся в зале офицеры. Здесь были и убеленные сединами летчики, прошедшие незабываемую школу Великой Отечественной войны. Были и совсем молодые ребята, недавно окончившие военные училища. Всех их взволновали события последних дней, когда подразделение жило в напряженной обстановке, максимально приближенной к боевой.
Экзамен на зрелость, умение управлять новой совершенной техникой часовые неба выдержали с честью. И каждый из них испытывал законную гордость, услышав из уст маршала К. К. Рокоссовского высокую оценку их боевой подготовки. Дружными продолжительными аплодисментами ответили летчики на заключительные слова маршала, выразившего уверенность, что небо над нашей Родиной было, есть и останется чистым от любого, даже самого могучего врага.