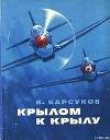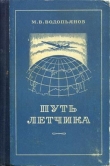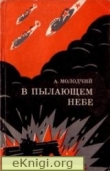Текст книги "Небо остается чистым. Записки военного летчика."
Автор книги: Сергей Луганский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Новое сообщение из «котла»– Паулюс со своим штабом перебрался в подвал больницы. Пленный немецкий генерал показал на допросе: «Паулюс окончательно надломлен. Он сдался бы немедленно, но получил от Гитлера радиограмму – не омрачать десятилетие фашистского строя в Германии, которое будет отмечаться 30 января 1943 года. Паулюс с нетерпением ждет этой даты».
Однако несмотря на приближающийся юбилей фашизма, немцы сдаются в плен целыми подразделениями. Затравленный Паулюс перебирается из подвала больницы в универмаг на площади Павших борцов. На пленных жалко смотреть. Грязные, вшивые, одетые в рванье, измученные морозами, они еле волокут ноги и, как заведенные, бормочут заученные слова: «Гитлер капут!» Жалкий финал самоуверенных вояк. Не получился юбилей у Гитлера! Как раз 30 января вечером советские войска обложили универмаг, в подвале которого засел Паулюс со своим штабом. Немцам ничего не оставалось делать, как выкинуть белый флаг.
Чтобы не омрачать своего праздника, фашистское paдио Берлина объявило: «Генерал-фельдмаршал Паулюс, находясь в Сталинграде, носил с собой два револьвера и яд. Попал ли он в советские руки, будучи в бессознательном состоянии (поскольку он несколько дней назад был тяжело ранен) или мертвым – еще неизвестно».
Так заврались фашистские заправилы в Берлине, не сумев выручить своего генерала.
А генерал Паулюс в это время живой и невредимый, только очень исхудавший, под надежной охраной переправлялся в штаб Донского фронта.
Закончилась кровопролитная битва на Волге. 200 дней и ночей безуспешно штурмовали отборные части гитлеровцев Сталинград. Здесь, в глубине России, нашли они свой бесславный конец.
По утверждению пленных генералов, только в период с 24 января по 2 февраля, т. е. почти за неделю, было убито и умерло более 100 тысяч немецких солдат и офицеров.
Поражение на Волге заставило Берлин объявить по всей Германии траур. Так на белый флаг Паулюса Германия ответила черными флагами траура.
После Сталинграда наш полк перевели в один из приволжских городов. Там предстояло нам получить новые машины ЯК-1, пополнение в летном составе, а заодно и отдохнуть.
Признаться, мы совсем отвыкли от мирной обстановки. Более полутора лет шла война, более полутора лет мы только и знали, что вылеты, штурмовки, воздушные бои. И вот тыловой город, уличное движение, машины, поток людей, гремя, несется трамвай, а на подножке, размахивая портфелем, пристроился мальчишка. Несколько девчушек чинно переходят оживленную улицу. Старик в шапке пирожком засмотрелся на световую рекламу нового кинофильма. Милиционер на перекрестке четко регулирует уличное движение. Хорошо!
Зима выдалась снежная. Улицы очищались от снега только в центре, чуть подальше снег лежал нетронутым слоем, лишь к калиткам вели протоптанные тропинки. Очень часто на город набегали жестокие ветры. Разогнавшись на просторах заволжских степей, ветер врывался в городские улицы, гудел в проводах и поднимал такие тучи колючего снега, что становилось сумеречно. Окраинные избушки заносило по самую крышу. В остальные же дни стоял ядреный солнечный мороз, и снег под нашими ногами скрипел тонко и пронзительно.
Пожалуй, лучшим нашим отдыхом в то время было бесцельное хождение по улицам. Все летчики, едва выдавалась свободная минута, отправлялись в город.
И, неторопливо гуляя по оживленным улицам, мы как о чем-то невозвратном вспоминаем все, что довелось увидеть и пережить на фронте. Причем воспоминания эти приходят в голову неожиданно, по каким-то, видимо, непостижимым законам контраста. Мне, например, часто видится, как я возвращаюсь с боевого задания и вдруг различаю внизу впечатляющую картину. Под крыльями моего самолета тянется огромное кладбище вражеской боевой техники. На заснеженных полях чернеют остовы сгоревших танков и бронемашин.
Кто-то из ребят вспоминает, как пленных немцев пришлось спасать от румын. Происшествие случилось на переправе через Волгу. Когда паром с пленными достиг середины реки, румыны согнали немцев к самому краю и начали сталкивать их в Волгу. Сталкивая своих «друзей», они смеялись и приговаривали: «Фриц хотель Вольга! Вот Вольга! Прыгай Вольга! Буль-буль!» Пришлось вмешаться охране. Так обернулась на русской земле «дружба» чужеземных захватчиков. Бывшие союзники готовы были перервать друг другу горло.
Но война наложила свой отпечаток и на город. Через несколько дней, немного освоившись, мы уже стали замечать и ночное затемнение, и деловитые указатели бомбоубежищ, а главное – какие-то сумрачные, замкнутые лица жителей. Люди словно забыли о веселье и беспечности.
На улицах встречалось много военных. Да, война чувствовалась и здесь.
На заводе, который наладил конвейерное производство истребителей Як-1, нас поразило обилие ребятишек школьного возраста. Это были ремесленники, заменившие у станков ушедших на фронт отцов и братьев. Нам рассказали, что ребята сутками не уходят с завода, ночуют здесь же. Все они, как правило, намного перевыполняют нормы. Значит, это их руками собирались те машины, которые мы получали на фронте? Это их руки помогали нам бить врага в небе Ростова и Сталинграда? Золотые ребячьи руки!
– Эх, Серега,– вздохнул как-то Федор Телегин.– Ребятишки-то, видал? Им бы еще играть…
Но не об играх думало это поколение советских ребятишек. Когда враг разбомбил военный завод, ребята вместе со взрослыми в короткий срок восстановили производство, а потом сутками не отходили от станков.
И на такую страну Гитлер занес свою лапу. Да никогда ни одному врагу не удастся поставить на колени наш героический народ! Интересно, понимают ли это все новоявленные претенденты на мировое господство?…
Последние дни прошли в хлопотах.
Мы вдруг почувствовали, что успели свыкнуться с жизнью в тылу.
Приближалась весна. Все чаще из глубины заволжских степей налетал влажный ветерок, донося аромат талых снегов. Днем, в затишье, сильно припекало. С крыш землянок весело булькала капель. По ночам, правда, еще крепко подмораживало.
Днем, когда таял снег и начинали куриться редкие проталины, техники копошились у самолетов без теплых комбинезонов. Самолеты приземлялись, разбрызгивая жидкий снег. Унты намокали так, что таскать их приходилось с великим трудом.
Наша тыловая жизнь подходила к концу. Как-то вечером Федор Телегин попросил меня зайти к нему в землянку.
Хлопотливый день кончился, и командир полка сидел на постели по-домашнему. На столике под лампой я разглядел запечатанный конверт.
– Удивительное дело,– сказал он, заметив мой взгляд.– Так не хочется домой писать. Что я им скажу? Опять на фронт? Изведутся же все. Хоть не пиши.
Он был прав: сообщать родным такие вести не поднималась рука. Я заметил, что, едва пришел приказ вылетать в тыл, на переформирование и отдых, все летчики написали домой в тот же день. Дескать, живые и ничто теперь не грозит. А вот если снова на фронт…
Мы долго сидели с ним в тот ранний весенний вечер. Чуть слышно потрескивала керосиновая лампа. Мне тоже следовало садиться и писать письмо родным, но я, радуясь хоть какой-то, пусть временной, оттяжке, не торопился уходить к себе.
На прощание Федор попросил меня сходить завтра в запасный полк и отобрать пополнение.
– Только смотри, бери дельных парней,– наказывал он.
– Ну, будто сам не знаю.
– Машины теперь у нас что надо,– говорил Федор.– Хорошие парни нужны.
Утром я пришел в казарму запасного полка. Молодые летчики только и говорили, что о разгроме немецких войск под Сталинградом.
– Возьмите меня, товарищ капитан!– посыпались просьбы.– Меня!… Меня!…
Фронтовой опыт научил с первого взгляда узнавать дельных летчиков. В полк подобрались крепкие, надежные ребята. Мы прошли с ними долгий боевой путь.
Вскоре наш полк перелетел под Курск. Там в предвидении боев летней кампании создавался Резервный (впоследствии Степной) фронт под командованием генерал-полковника И. С. Конева. По многим приметам, на которые уже был наметан глаз бывалого фронтовика, время надвигалось горячее.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Четвертый год второй мировой не предвещал гитлеровским стратегам ничего хорошего. После Сталинградской битвы начался все ускоряющийся процесс распада всей фашистской коалиции.
События на Восточном фронте позволили западным союзникам развернуть активные действия в Северной Африке. В мае 1943 года англичане и американцы окружили в Тунисе и взяли в плен восемь немецких и шесть итальянских дивизий вместе с их боевой техникой. Эта победа союзников поставила фашистский блок перед угрозой выхода Италии из войны.
В этих условиях весной 1943 года перед гитлеровским руководством встала задача выработки дальнейшей стратегической линии и плана боевых действий на предстоявшее лето. По тому вопросу среди военных руководителей вермахта возникли большие разногласия. Были сторонники предложения Муссолини, который советовал попытаться заключить временное перемирие с Советским Союзом, чтобы полностью развязать руки для войны на Западе и Средиземном море. Однако окончательный верх взяло мнение генерального штаба сухопутных войск, считавшего, что прежде всего надо решающим образом подорвать наступательную мощь Советской Армии и только после этого переместить основные усилия на борьбу против англо-американских войск. К этому мнению присоединился и сам Гитлер.
После тщательного изучения всех вариантов действий было принято решение провести крупную операцию против группировки советских войск на Курском выступе. Этот выступ глубоко вдавался в расположение немецких войск. Ликвидация его сулила немецкому командованию крупные оперативно-стратегические преимущества.
Наступлению под Курском в немецких планах отводилась роль центрального события всего 1943 года.
Ни к одной операции гитлеровское командование не готовилось с такой тщательностью, как к этой. Основная проблема состояла в восполнении потерь в людях и вооружении и создании надлежащей группировки войск для наступления. В Германии был издан «Указ фюрера о широком использовании мужчин и женщин для задач обороны империи». В стране была объявлена тотальная мобилизация.
Готовя наступление под Курском, гитлеровское командование бросало в игру свою основную карту. Ему нужен был выигрыш, любой ценой.
Для проведения операции «Цитадель» (так был назван план операции) германское командование сосредоточило до 50 дивизий, около трех тысяч танков и самоходных орудий, более двух тысяч самолетов – три четверти всей авиации, действовавшей на советско-германском фронте. Особенно большие надежды возлагались на новый самолет «Фокке-Вульф-190», имевший сильное вооружение – четыре пушки и шесть пулеметов – и большую скорость: свыше 600 километров в час. Этот истребитель, по расчетам фашистского командования, должен был господствовать в воздухе.
На Курскую дугу были переброшены танковые дивизии СС «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Райх», оснащенные новинками германской танковой промышленности: мощными машинами «тигр» и «пантера» с толстой броневой защитой. Эти танки гитлеровская пропаганда называла сверхсекретным оружием, которое изменит весь ход войны.
Уверенное в успешном завершении задуманной операции, фашистское верховное главнокомандование пригласило на советско-германский фронт для наблюдения за ходом наступления турецкую военную миссию и группу высших румынских офицеров. Союзники, а также те, на чью помощь рассчитывали гитлеровцы в случае удачи, должны были своими глазами убедиться в силе и мощи немецкого оружия. Фашистские стратеги из кожи лезли, чтобы всячески принизить значение поражения на Волге, показать его как незначительный, частичный неуспех гитлеровского командования.
В канун наступления Гитлер обратился к личному составу ударных группировок с воззванием: «С сегодняшнего дня вы становитесь участниками крупных наступательных боев, исход которых может решить войну. Ваша победа больше, чем когда-либо, убедит весь мир, что всякое сопротивление немецкой армии в конце-концов все-таки напрасно».
Однако советское командование своевременно разгадало замыслы врага. Правильно оценив сложившуюся обстановку на советско-германском фронте, Ставка решила использовать выгодные условия обороны под Курском, измотать ударные группировки противника, перейти затем в контрнаступление и разгромить их.
Последующие события показали, что это был наиболее правильный план действий.
Перед Красной Армией стояла сложная и ответственная задача: выдержать удар чудовищной силы, перемолоть в боях основные силы врага, а затем перейти в решительное наступление, внеся тем самым коренной перелом в ход всей войны.
На участке предполагаемого наступления Ставка создала мощный оборонительный узел. Войска двух фронтов: Центрального и Воронежского должны были принять на себя главный удар гитлеровских армий. Кроме того в тылу наших войск был создан так называемый Резервный фронт. В составе двух фронтов, оборонявших Курский выступ (не считая Резервного фронта), имелось 1300 тысяч человек, около 20 тысяч орудий и минометов, около 3600 танков и самоходных артиллерийских установок, 3130 самолетов с учетом авиации дальнего действия. Таким образом наши войска превосходили противника как в живой силе, так и в технике.
Нас, летчиков, особенно радовала насыщенность фронта новейшими самолетами. Теперь положение изменилось самым решительным образом. Летом 1943 года советские Военно-Воздушные Силы по количеству самолетов на фронте превосходили немецко-фашистскую авиацию в два раза.
Таким образом, вся эта небывалая по размаху операция с самого начала была нацелена советским командованием на успешное контрнаступление.
Огромную работу при подготовке войск к сражению – по повышению их политико-морального состояния, воспитанию у солдат и офицеров стойкости, чувства ответственности за удержание рубежа – проводили Военные Советы всех трех фронтов, политорганы, партийные и комсомольские организации. Политической работой занималась также большая группа ответственных партийных работников. Многие секретари обкомов были назначены членами Военных Советов армий.
И воины клялись: «Мы уничтожали и уничтожили гитлеровскую гадину под Сталинградом, уничтожим ее и здесь, под Орлом и Курском. Будем стоять насмерть. Враг не пройдет! Наступать будем мы!»
Начало июля. Сводки Совинформбюро пока неизменно гласили: «На фронте ничего существенного не произошло». Но это было предгрозовое затишье. Теперь известно, что в самый канун операции Гитлер вновь собрал руководителей вермахта и произнес перед ними исступленную речь. Он выразил непоколебимую уверенность в полном успехе, подчеркнув, что никогда еще за все время войны с Россией немецкие войска не были так подготовлены к боям и не имели в таком изобилии тяжелого вооружения, как под Курском.
Истекали последние часы напряженного ожидания. Громадные армии стояли друг против друга. Поединок огромного скопления войск и техники должен был вот-вот начаться.
Сражение началось на рассвете 5 июля.
Накануне мы облетывали район предстоящих боевых действий. Это было тем более необходимо, что местность представляла собой удивительно однообразную равнину, лишь кое-где пересеченную небольшими оврагами и балками. Ориентиров абсолютно никаких. Предвидя горячие дни, мы понимали, насколько гибельным может оказаться отсутствие хоть каких-нибудь приметных точек на местности. Я помнил из опыта финской войны, как некоторые наши летчики, заблудившись среди снежного однообразия, не в состоянии были найти родной аэродром, садились где попало.
Такие же случаи могли повториться и здесь.
Нужно было очень четко засекать, сколько минут мы летели от своего аэродрома. Возвращаясь, мы отсчитывали такое же количество времени и начинали искать внизу аэродром. Нетрудно понять, насколько ненадежен такой метод. Хорошо бы иметь на местности железную дорогу, водокачку, ветряк. Словом, что-нибудь приметное.
Обычно летчики очень быстро обживают незнакомую местность. Один-два полета, и наметанный глаз привычно засекает какие-нибудь приметы на местности, и теперь уж летчик, куда бы его ни забросило, откуда бы он ни возвращался, никогда не пролетит знакомого участка.
Однажды, возвращаясь с боевого задания, мы заблудились и долго кружили над степью, разыскивая свой аэродром. Судя по часам, мы уже давно должны прилететь. Но аэродрома внизу не видно. Летим еще, кружим, высматриваем. Степь и степь. В сердца начала закрадываться тревога: горючее на исходе, а местность незнакомая. По компасу ориентироваться невозможно: влияние Курской магнитной аномалии. Положение складывалось безвыходное. Сажать самолеты на брюхо в поле? Но это – неминуемо попасть под военный трибунал. Что же делать?
В наушнике слышится дружная брань, но ведь руганью дела не поправишь.
Я отдал команду по радио:
– Кто знает дорогу – выходи вперед!
Однако самолеты продолжали бестолково кружиться – дороги никто не знал.
Парами и поодиночке самолеты разлетались в разные стороны и вновь сходились. В таком положении никому из летчиков не хотелось отставать от товарищей. Вокруг, кто куда ни полетел бы, было одно и то же: степь. Неужели всей эскадрильей придется садиться в поле?
Неожиданно слышу чей-то торопливый взволнованный голос:
– Товарищ, кажется, вижу ориентир!
– Конкретней!
– Колонна! Большая колонна! Пехота идет.
Действительно, далеко на горизонте, на самом почти краю степи двигалась, поднимая пыль, колонна. Видимо, по густой пыли и засек ее летчик. На душе стало легче: все хоть люди, живые существа. Направляемся навстречу пехотинцам. Колонна все видней. На глаз машинально определяю: примерно с батальон. Но различить, чьи это солдаты, наши или немцы, невозможно. Решаем подлететь еще ближе. Идем почти на бреющем полете.
Сверху видно, что солдаты, увидев самолеты, забеспокоились. Видимо, раздалась команда, и колонна начала разбегаться. Солдаты залегают и готовятся открыть огонь.
«Ну, если немцы,– думаю,– то придется угостить, а если наши…» Снижаемся еще и с облегчением видим: наши!
С трудом удерживая машину в горизонтальном положении, я оторвал клочок карты и кое-как нацарапал карандашом: «Где Новый Оскол? Покажите». Засунул записку в перчатку и, чуть не задевая пехотинцев по головам, бросил перчатку на землю.
Пехотинцы, разглядев на наших крыльях звезды, снова сбились в кучу. Подобрали перчатку, оживленно жестикулируют. Потом десятки пилоток полетели в одну сторону, указывая нам нужное направление. Вот спасибо-то!
Меньше всего думая о боевом построении, мы потянулись в указанную сторону. Забота у всех была одна: только бы долететь. Горючего оставалось едва-едва. Через семь минут показался наш аэродром. Сели. Но один самолет так и не дотянул до места и приземлился на самой границе поля.
После этого происшествия Федор Телегин собрал весь полк. Стали искать выход из положения. Ведь начнись бои, каждая минута будет на счету. Из кабины некогда будет выскочить. А тут мыкайся по степи, разыскивай аэродром. Отсутствие верных ориентиров грозило сорвать всю работу нашего полка. Предложения, помнится, были самые различные. Но в конце концов приняли предложение кого-то из командиров эскадрильи: прямо на земле были нарисованы указатели – огромные стрелы шириной пять метров и длиной метров пятьдесят. Сверху их отлично видно.
Но какой-никакой, а выход был найден. И вскоре нам представился случай, да не один, проверить до начала решающих боев, насколько полезны летчикам эти указатели, намалеванные в степи.
В ходе подготовки к боям на Курской дуге наша авиация вела упорную борьбу с ВВС противника, наносила удары по железнодорожным объектам, штабам, узлам связи. Вела, так сказать, текущую фронтовую работу.
В этот период у нас случилось два заметных события. Я говорю о крупных воздушных операциях с целью уничтожения вражеской авиации непосредственно на аэродромах. В первой из них участвовало шесть наших воздушных армий.
Мы нанесли удар сразу по семнадцати аэродромам противника. Скрытность подготовки обеспечила внезапность и высокую эффективность такого массированного удара советской авиации. Ущерб, нанесенный противнику, был велик: за три дня он потерял более 500 самолетов. А вообще в результате обеих операций мы уничтожили около 800 вражеских машин.
Эти потери сильно обескровили противника перед началом основного сражения.
Возвращаясь со штурмовок, мы отлично замечали намалеванные на земле стрелы, и больше у нас никто не блуждал над бескрайней степью.
Накануне начала сражения по обеим сторонам фронта установилось глубокое затишье. Последняя передышка.
Вечером 4 июля меня вызвал Федор Телегин. Когда я вошел в отгороженный уголок командира полка, Федор, не дав мне доложить, как того требовал устав, лихорадочно поманил рукой:
– Заходи, заходи скорее! Садись, смотри.
Меня удивила его возбужденность. Оказывается, только что пришел приказ – завтра на рассвете вылетать на Харьков, бомбить аэродром. Собственно, основную работу будут выполнять штурмовики, мы же, как обычно, идем в прикрытие.
– Значит, что же, началось?– спросил я. Как-то не верилось, что подошел, незаметно наступил день начала великих боев.
– Начинается. Но что начинается!– Телегин догадывался о масштабах предстоящих сражений, и все же действительность скоро превзошла все наши ожидания.
Советскому командованию стало известно, что по немецким планам, операция «Цитадель» начнется завтра, и оно решило нанести по скопившимся для наступления войскам противника мощный удар артиллерии и авиации. Удар намечалось нанести в самый ранний час, когда пунктуальные немцы только-только продерут глаза.
Чтобы обеспечить устойчивость и непрерывность управления авиацией, была развернута широкая сеть запасных и вспомогательных пунктов управления. Телегин рассказал, что в штабе армии и в соединениях проводились специальные занятия по вопросам организации взаимодействия, использования различных средств управления. Большинство командиров, которым предстояло управлять авиацией над полем боя, побывали на тех направлениях, где, по мнению командования фронта, противник мог вести наступательные действия.
– Вроде бы все должно пройти без заминки,– говорил Федор, ожесточенно зарываясь пальцами в волосы.– Но – бой ведь! Сам понимаешь.
Он рассказал, что наши разведчики, вернувшись из поиска, притащили пленного сапера. Пленный рассказал, что завтра утром немцы переходят в наступление.
– Значит, по Харькову?– спросил я, склоняясь над картой.– А разведданных достаточно.
– Вполне,– ответил Федор.
Его беспокоило другое: знает ли враг о том, что мы собираемся упредить его удар?
– Как думаешь, встретят они нас или нет?– спросил он.
– Едва ли.
– А вдруг?
– Видишь,– рассудительно ответил я,– по самой логике, немцы так готовились к наступлению, так вроде бы все рассчитали, что сейчас ни о чем другом и не думают – только бы в наступление! Знать бы должен их – не первый год воюем.
– А все-таки надо учитывать самый худший вариант,– решительно сказал осторожный командир полка.
В тот вечер мы долго просидели над картой. Смеркалось, Федор зажег лампу. Перед началом таких ожесточенных, затяжных боев важно было продумать каждую мелочь. К тому же мы оба уже успели убедиться, что на войне мелочей не бывает. Особенно для нас, летчиков.
Засиделись допоздна. Кажется, все продумано, все учтено. Голова горела. Федор поднялся и с наслаждением потянулся. Сна не было. Он дунул на лампу и в кромешной темноте мы вышли из землянки. Стояла тихая звездная ночь. Невольно подумалось, что в такую вот ночь самым приятным звуком был бы глухой стук ступиц возвращающейся с поля брички или конский храп и звяк пут, когда стреноженная лошадь вдруг делает неуклюжий скачок по мокрой от росы траве. Ребятишки, приехавшие в ночное, разложили бы небольшой костер, и он уютно светился бы в непроглядной черноте ночи… Обо многом может задуматься в такую тихую июльскую ночь человек на войне. И не верилось, что на сотни километров вокруг сейчас скопилось, замерло и ждет условного сигнала такое количество самой совершенной техники, что, обрати ее человек не на взаимное смертоубийство, а на мирный созидательный труд, жизнь на земле стала бы прекрасной.
– Иди, поздно уже,– негромко проговорил Федор, задумчиво глядя куда-то в темноту.
Я промолчал. Уходить не хотелось.
Через несколько минут Федор вдруг оживился и произнес, с трудом унимая нервное возбуждение:
– А поспать-то нам сегодня так и не придется!
Июльская ночь коротка. Едва только забрезжило на востоке, раздался рев множества авиационных моторов.
Сначала в воздух поднялись два полка «илов». Штурмовики построились в свой обычный боевой порядок и плотной грозной тучей двинулись на запад. Там было еще темно.
Следом за штурмовиками поднялся и наш полк.
Триста пятьдесят самолетов, поднявшись почти одновременно, отправились бомбить и штурмовать аэродромы в Померках, Сокольниках, Микояновке, Тамаровке. В боевые порядки построились пикирующие бомбардировщики генерала И. С. Полбина, штурмовики генерала В. Г. Рязанова, несколько полков истребителей. Командиры соединений сегодня тоже поднялись в воздух.
Вчерашние опасения Федора Телегина оказались не напрасными. Не везде наши летчики застали немцев на земле. Много «юнкерсов» и «мессершмиттов» уже успели взлететь с глубинных аэродромов. И все же удар нашей авиации был сокрушителен. Противник сразу потерял более шестидесяти самолетов. И надо было видеть, в какое замешательство пришел противник, когда наша артиллерия и авиация обрушили мощные удары по пехоте, занявшей исходное положение для атаки, по огневым позициям артиллерии, командным и наблюдательным пунктам. Замешательство врага было таково, что в районе Обояни, например, основные силы немцев вынуждены были отложить начало своего наступления на полтора-два часа. А такие задержки в условиях тщательно продуманной, расписанной по часам и пунктам операции значат очень много.
Харьков мы увидели на рассвете. На окраинных улицах пустынно. А дальше, над центром города, какой-то сизый туман. Сквозь пелену тумана вырисовывается знаменитый Дом промышленности, он полуразрушен. За поселком Алексеевкой можно разглядеть желтоватую линию противотанкового рва.
Как ни надеялся враг на успех «Цитадели», но об обороне Харькова он не забывал ни на минуту. В течение полутора лет укреплялась оборона города. Всех жителей Харькова немцы под страхом смерти заставили работать над сооружением противотанковых рвов, блиндажей, дотов и траншей. Кроме того перед городом тянулись многочисленные ряды колючей проволоки и обширные минные поля. Противотанковый ров опоясал весь город, а в глубине была сконцентрирована хорошо укрытая артиллерия.
Туман над городом все реже, и вот уже можно рассмотреть одну из красивейших площадей Харькова – площадь Дзержинского. Вернее, то, что от нее осталось. Площадь окружают полуразрушенные здания. А вон там парк, известный под названием «Сокольники». Его деревья искалечены, земля изрыта воронками, траншеями.
В свете занимающегося дня армада штурмовиков выглядит зловеще. Мы летим сверху, и нам хорошо видно, как они идут – грузно, тяжко, плотным карающим строем.
По радио связываюсь с ведущим группы штурмовиков, которую нам предстоит прикрывать. В наушниках отзывается знакомый голос Ивана Драченко, веселого, красивого и отчаянного парня.
– Сегодня понадежней прикрой, Сережа!– просит Драченко.
– А когда тебя прикрывали ненадежно?
– Так вот я и говорю: как всегда!– быстро находится Иван.
– Будь спокоен!
С приближением к Харькову строй нашей армады распался. Каждому соединению дано свое задание – ведь Харьковский аэроузел насчитывает восемь аэродромов. Отделяются и уходят в сторону «пятляковы» под командованием генерала Полбина. Их объект расположен чуть дальше. Штурмовики, которых мы прикрываем, похожи сейчас на живые существа, я гляжу на них, и мне кажется, что они, как хищные птицы, чувствуют приближение цели. Что-то меняется в их строе, в самом почерке их полета. Появляется какая-то устремленность, нетерпеливое желание броситься, вцепиться, растерзать. Я представляю, что должен чувствовать враг, завидя эти грозные машины над головой, особенно когда они, ревя и завывая, заходят и пикируют несколькими волнами, не давая времени опомниться и перевести дух.
Но вот в небе начинают вспыхивать белесые букетики разрывов. Это проснувшиеся зенитчики открывают поспешный огонь. Скоро разрывов становится больше, а через минуту просыпается вся немецкая оборона. Завидев приближение штурмовиков, да еще в таком количестве, враг открыл ураганный зенитный огонь. Он в панике, он не ожидал «гостей». Однако поздно. К тому же наши летчики заранее знали об огневых точках обороны и обошли их. Что касается самолетов противника, то с харьковских аэродромов они не успели и подняться.
Намеченный для удара аэродром прямо под нами. Я смотрю на него и завидую штурмовикам: им предстоит действовать, как на учебном полигоне. Ровными рядами замерли на поле самолеты. Каждый из них уже заправлен и готов к полету. Но не будет теперь для них полетов. Они не взлетят никогда, они обречены. Штурмовики, умело перестраиваясь, заходят на бомбежку. Истребителям пока работы не предвидится.
Построившись в своеобразный хоровод, самолеты один за другим пикируют на обреченный аэродром.
В утреннем воздухе, кое-где перебиваемые панической немецкой речью, звучат возбужденные русские голоса,– я отчетливо слышу их в наушниках.
– Я «Ландыш», я «Ландыш»,– захлебываясь, докладывает радостный молодой голос Ивана Драченко.– Разрешите работать?
– Я «Фиалка», я «Фиалка»,– откликается густой и неторопливый командирский голос.– Работу разрешаю.
И так без конца,– обычная рабочая сумятица в эфире. Часто подключаются посты наблюдения и управления: живет вся сложная и продуманная система взаимосвязи.
Черные грузные машины со звездами на распластанных крыльях носятся низко над землей. Сначала «илы» сбросили бомбы. Аэродром заволокло дымом. Со второго захода на землю полетели реактивные снаряды. В заключение штурмовики прошлись по тому, что осталось на аэродроме, из пушек. Они не любят оставлять после себя хоть какие-то огрехи.
Аэродром разбит. Горят склады, рвутся боеприпасы. Все поле усеяно обломками горящих «юнкерсов». Враг не ожидал налета: он был слишком уверен во внезапности своего удара.
Сбросив смертельный груз, штурмовики легли на обратный курс. Теперь нам нужно смотреть в оба – гитлеровцы, конечно, постараются перехватить непрошенных гостей. Ведь паника поднялась по всему немецкому фронту.
Немцы встретились на подходе к линии фронта. Они караулили нас. «Мессершмитты» навалились стаей. С запоздалой яростью и ожесточением они пытались разбить строй штурмовиков, внести хаос и тогда, нападая на одиночные машины, забить, заклевать до смерти. Штурмовики изредка огрызались огнем, продолжая держать строй. Они не ввязывались в бой, и это, казалось, удесятеряло бессильную злобу вражеских истребителей. Так шавки, задыхаясь от хриплого лая, налетая и трусливо отскакивая, провожают мимо своих ворот сильного невозмутимого противника.