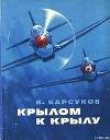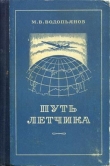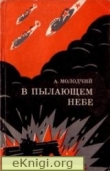Текст книги "Небо остается чистым. Записки военного летчика."
Автор книги: Сергей Луганский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
– Сокол… Сокол…– монотонно повторяю в микрофон.
Скоро в наушниках отзывается раскатистый басок Покрышкина. Я объясняю ему нашу задачу и прошу прикрытия на всякий случай.
– Сегодня может быть жарко. Большой вылет,– говорю я и посматриваю наверх, где хозяевами голубого бездонного неба плавают еле различимые «кобры».
– Будь спокоен,– доносится уверенный голос издалека.– Нам сверху виднее.
– Нам – это кому: начальству?– решаю я подзадорить старого приятеля. Покрышкин в чине полковника командует истребительной дивизией. Для нас он – большое начальство.
– Ладно, ладно,– миролюбиво басит Покрышкин,– не задирайся. Надо будет – зови.
Разговор прекращается, потому что снизу, с земли, начинают часто, лихорадочно бить зенитки. В воздухе повисли дымные букеты разрывов. Я глянул вниз – линия фронта.
Штурмовики, не обращая внимания на заградительный огонь, деловито принимаются за привычную работу. Гудящие броненосцы проносятся над передовыми позициями, поливая из пушек и пулеметов. После них на земле настоящий хаос. Но долго любоваться их работой не приходится. По опыту знаю, что где-то на подходе истребители врага. Сегодня они очень запоздали, видимо, нечетко сработала разведка.
Предчувствия не обманули. Первые звенья «мессершмиттов» показались в небе. Но что это? Звено за звеном, еще и еще… Сколько же их сегодня? Такого количества истребителей немцы давно уж не поднимали в воздух.
Отдаю команду, и все истребители нашего прикрытия устремляются навстречу врагу. Надо перехватить гитлеровцев подальше от штурмовиков. Интересно, видит Покрышкин, какой затевается бой?
Раздались первые очереди. Первый дымный след потянулся к земле. Нелегко нам сегодня, очень нелегко. Пытаясь использовать свое численное превосходство, немцы бросили одну группу самолетов против истребителей, другую – против штурмовиков. Успевать везде было трудно. Не разорваться же!
Гляжу по сторонам и не вижу «кобр». Куда же они девались? Ведь только что были!
– Сокол… Сокол… Сокол, черт! Саша, неужели не видишь?
Но «кобры» и без того уже спешили нам на помощь. В лихорадочном маневрировании я все же успел разглядеть, как четверка покрышкинских истребителей стремительно свалилась сверху и подожгла два «мессершмитта». Сразу стало легче. Немцы отхлынули.
– Хорошо, «Сокол»! Молодец, Саша!
– Ладно, ладно…– рокочет знакомый басок.
– Ах ты, дьявол!– неожиданно выругался я, заметив, что почти на самом хвосте у меня повис черный «мессершмитт». Бросаю машину в пике, разгоняюсь и вдруг резко перехожу на вертикаль и сразу же в боевой разворот. Темно в глазах от перегрузки, стучит в висках кровь. Но вот отходит от глаз мутная пелена, и я, переводя дух, вижу, что немец отцепился. Вот ведь, чуть не заговорился! Нет, в бою надо быть все время начеку.
С помощью восьмерки «кобр» мы рассеяли немецкие самолеты по всему небу. Прорвавшиеся было к штурмовикам «мессершмитты» попали под огонь и тоже убрались восвояси.
Тем временем «илы», закончив штурмовку, повернули домой. Я поблагодарил Покрышкина за помощь, и мы устало потянулись на свой аэродром.
«Кобры», проводив нас, снова набрали высоту. Для них, свободных стрелков, охота продолжалась.
Но это было лишь начало дня.
После обеда кто-то из ребят, вернувшись с задания, в великой панике стал рассказывать, что видел у немцев какой-то небывалый самолет: летает, как метеор, позади него вьется пятиметровый огненный хвост. Пропеллера нет совсем. Дьявол, угнаться за ним невозможно…
– Только ты на него, а он – фр-р-р!– и мимо. Как снаряд! И лупит из пушек напропалую. Попался если на дороге – каюк!
– А у тебя с глазами как – все в порядке?– насмешливо поинтересовался Шутт. Летчик обиделся.
– А ты пойди-ка, сам сунься! Герой… Я посмотрю.
Это тебе не «мессеров» гонять.
– Придется посмотреть,– как ни в чем не бывало согласился Николай.
Но рассказ очевидца ребята слушали внимательно, много раз переспрашивали и с сомнением покачивали головами. Неужели немцы пустили реактивный истребитель? Созданию реактивной авиации большое внимание ими уделялось еще до войны. Готовясь к нападению, немцы усиленно форсировали конструирование нового самолета. И вот реактивный истребитель в небе. А в том, что этот как раз реактивный самолет, сомнений быть не могло. Слишком характерны были все приметы, рассказанные очевидцем.
В последний период войны, сознавая близкое поражение, гитлеровское командование все внимание сосредоточило на формировании истребительных соединений. Бомбардировочные эскадры были расформированы. Летчиков срочно переквалифицировали в истребителей, а сами бомбардировщики приспособили под самолеты-снаряды. Однако это «последнее достижение конструкторской мысли», как рекламировали их немцы, было очень неэффективно. Наши истребители легко перехватывали самолеты-снаряды и уничтожали.
Но вот реактивный истребитель. Значит, немцы хоть под занавес, а пустили все же его в небо.
Желая убедиться в этом чуде собственными глазами, я сам несколько раз поднимался в воздух и наконец увидел небывалый самолет. Да, все было так, как рассказывал летчик. Немцы сконструировали реактивный истребитель.
Конечно, существенного перелома в войне эта новинка принести немцам не могла. Противник располагал лишь небольшим количеством реактивных машин, которые не были еще как следует освоены. Таким образом, они не могли оказать какого-нибудь существенного влияния на ход борьбы в воздухе.
Но все же на первых порах, когда эта новинка авиационной техники появилась в небе, перед нашими летчиками встали серьезные трудности. Было ясно, что хоть и временных, а осложнений не миновать. Слишком уж необычным, нарушающим все привычные представления показался нам новый самолет.
Мне довелось наблюдать реактивную машину в бою. Обладая небольшим запасом горючего, самолет некоторое время свободно планировал над своей территорией, выбирая для атаки удобный момент. Наконец истребитель набирал огромную скорость и, оставляя после себя длинный хвост огня, устремлялся в бой. Скорость его была в полтора раза больше, чем у обычных наших поршневых машин. Реактивный самолет пронизывал наши порядки снизу вверх, расстреливая все, что попадалось на пути. Попадался ему штурмовик – сбивал штурмовик, «петляков» или истребитель – сбивал того и другого. И все это совершенно безнаказанно.
Признаюсь, что ребята сначала было запаниковали, но скоро нашли способ бороться и с реактивными (благо, на нашем участке фронта их было очень мало, буквально единицы).
Первым сбил реактивный истребитель наш летчик Гари Марквеладзе. Потом, сразу же после боя, он рассказывал, как это произошло. Увидев, что на него несется реактивный самолет, Гари схитрил – он подпустил его поближе, затем ловко вильнул в сторону, а когда немец, разогнавшись на страшной скорости, пролетал мимо, влепил в него пулеметную очередь. Немца погубила скорость. На такой огромной скорости он был лишен возможности маневрировать. И нам сразу вспомнился наш отечественный «кукурузник». Со своей тихоходностью он был поистине неуязвим для стремительных «мессершмиттов». Вот и теперь – не так уж, оказывается, страшен реактивный истребитель с его сумасшедшим разгоном. Отскочи, увернись в сторону и бей, как в мишень. Разогнавшись, реактивный самолет не способен на ловкий маневр.
Сбитый реактивный истребитель упал на нашей территории. Остатки его бережно собрали. Летчики долго осматривали необычный самолет, удивляясь многим конструктивным новинкам. Не знаю, но в то время, видимо, еще ни у кого из нас не появлялось и мысли, что мы стоим на пороге совершенно новой эпохи в самолетостроении. А ведь многим из нас скоро довелось летать с такой скоростью и на таких самолетах, что даже и не снились. Но человек быстро осваивается с любой, даже самой необычной техникой.
Получив на вооружение реактивные истребители, мы в скором времени настолько свыклись с ними, будто всю жизнь только и летали на них. Мне, например, уже после академии, в послевоенное время, пришлось как-то попасть в затруднительное положение. Я совершал на реактивном истребителе ночной полет. Так уж сложились обстоятельства, что нужно было садиться не на подготовленную дорожку аэродрома, а в поле, ночью, на брюхо. И что же? Припомнив опыт войны, когда садиться на брюхо приходилось частенько, я довольно удачно посадил и реактивный истребитель.
Однако вернемся к боевым делам. Герой дня Гари Марквеладзе ходил именинником. Он стал самым популярным летчиком, получил орден Красного Знамени.
Трудно начавшийся день завершился печально. Уже под вечер в воздушном бою мы потеряли хорошего летчика, Героя Советского Союза Ивана Корниенко. Произошло это неожиданно, как случается любое несчастье. Мы осознали, что произошло, лишь тогда, когда увидели подбитый самолет.
Потеря товарища всегда болью ложится на сердце. Иван Корниенко был прекрасным летчиком. Вместе с ним мы воевали в тяжелые дни Сталинградской битвы, затем Курск, Харьков, Сандомир. Уж в каких, казалось бы, переделках не побывал Иван Корниенко, и оставался жив. А тут…
Самолет Корниенко не горел, даже не дымил. Стараясь понять, что произошло, я кружился совсем близко. Сквозь фонарь видно было, что летчик почти все время роняет голову на руль. Сомнений быть не могло: Иван ранен. Вражеская пуля угодила в летчика.
Под нами была чужая территория. Бугры, кустарники, большой овраг. Даже самолет не посадить. Вернее, посадить можно – на брюхо, но уж взлететь не удастся.
Нарядная, с несколькими рядами звездочек на фюзеляже, машина Ивана Корниенко обреченно опускалась к земле.
Как потом выяснилось, Иван действительно был ранен. Борясь с беспамятством, летчик все же нашел силы посадить машину и сразу потерял сознание. Очнулся он от грубых толчков. Открыл глаза: какие-то люди в непонятной форме. Не немцы, но и не наши.
– Вылезай, друг. Отлетался!
«Власовцы!» Корниенко обмер.
Желая выслужиться перед немцами, предатели не гнушались никакой грязной работой. Недаром гитлеровцы использовали их при самых кровавых расправах с мирным населением оккупированных территорий. Видя, что война немцами проиграна и неминуемо приближается расплата за предательство, за преступления перед своим народом, власовцы в безысходной злобе творили неслыханные бесчинства. Они искали любого случая, чтобы сорвать накопившуюся злобу, хоть как-то потешить свои гаденькие трусливые душонки.
Захватив раненого летчика, предатели долго измывались над ним. Они, конечно, поняли, что им в руки попал далеко не рядовой летчик. У Ивана Корниенко вся грудь в наградах, звезда Героя Советского Союза, на фюзеляже боевой машины несколько рядов звездочек. Заслуги Корниенко в боях с фашистами, как ни странно, спасли ему жизнь. Власовцы не решились прикончить столь важного пленного. Поиздевавшись вдоволь, они доставили его в жандармерию.
После допросов и новых издевательств немцы бросили раненого летчика в лагерь. Иван потом рассказывал о мучениях, которые ему пришлось испытать в плену. Он показывал уродливые шрамы на теле, рваные раны от зубов овчарок. «Звери, а не люди. Что делают, что они только делают!»
В конце концов Корниенко удалось бежать из плена, и он вернулся в родной полк. Но случилось это много позднее, когда мы были уже в Германии.
Германия. Мы на немецкой земле! Свершилось то, о чем мы мечтали в тяжелые дни Ростова и Сталинграда, исполнилось желание умирающих, но не сдающихся ленинградцев и одесситов, севастопольцев и москвичей. Карающий меч опустился на логово зверя. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет…»
Советские солдаты шагали по земле фашистской Германии, советские танки грохотали по великолепным автострадам, по которым еще недавно устремлялись на Восток завоеватели мирового господства, нашедшие смерть в бескрайних просторах России. В немецком небе проплывали эскадры краснозвездных машин. Теперь они летели не на Курск и Смоленск, не на Белгород и Харьков. Нет, на наших штурманских картах теперь были Дрезден и Берлин.
Мы домолачивали издыхающую фашистскую гадину. Мы помнили Бабий яр и ленинградских дистрофиков, мы помнили печи Освенцима и Майданека, мы не забыли слез русских вдов и сирот, оставшихся на пепелищах сотен и тысяч городов и сел.
Мы принесли в Германию огромный счет, но мы пришли сюда со светлой, благородной миссией – растоптать свастику, развеять по ветру прах фашизма. Пусть больше мир не будет знать крови, насилия, горя.
Советские солдаты в Германии… Я помню испуг немецкого обывателя, ожидавшего звериной ярости победителей, а вместо этого получившего паек из солдатских ротных котлов. Я помню немецкую детвору, худеньких напуганных ребятишек, к которым привязывались всей душой наши летчики и официантки. Иван Корниенко, сбитый немцем русский летчик, истерзанный в немецком плену, бывало, плакал скупыми злыми слезами, вспоминая издевательства в лагере, но как он ласков и по-отечески трогателен был с немецкими ребятишками. Из души этого человека ничем нельзя было вытравить светлые отцовские чувства. Немцы оказались бессильными сделать это.
Советские солдаты на немецкой земле… Помню, как в благоговейном молчании стояли мы в Бунцлау у могилы, где похоронено сердце победителя Наполеона русского полководца М. И. Кутузова. Через Бунцлау уже отступали битые русскими орды завоевателей,– через Бунцлау лежала столбовая дорога позора захватчиков и торжества победителей. И как гимн священному оружию советского солдата читали мы, наследники кутузовской славы, скупые строки эпитафии на памятнике русскому фельдмаршалу:
«До сих мест князь Кутузов-Смоленский довел победоносные Российские войска, но здесь смерть положила предел славным дням его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя!»
Святые, запоминающиеся слова!
В Германии стояла ранняя весна, весна нашей победы. Советские войска сжимали кольцо вокруг последнего оплота фашизма – Берлина. Вот-вот должно было взвиться алое знамя над рейхстагом.
Завершающие сражения беспримерной в истории войны проходили при небывалом подъеме войск. Все, от рядового солдата до Верховного Главнокомандующего, были проникнуты сознанием того, что происходящие события имеют всемирное значение.
Борьба за быстрейшее овладение фашистской столицей была не только вопросом военного престижа. Как теперь стало известно, взятие Берлина имело огромное политическое значение, ибо уже в те дни, когда еще фашизм не издох окончательно, над его смердящим полутрупом затевалась ожесточенная возня западных политиков. Вот что, в частности, писал в послании президенту США от 1 апреля 1945 года давнишний недруг Советского Союза У. Черчилль:
«Ничто не окажет такого психологического воздействия и не вызовет такого отчаяния среди всех германских сил сопротивления, как падение Берлина. Для Германского народа это будет самым убедительным признаком поражения… Кроме того существует еще одна сторона дела, которую вам и мне следовало бы рассмотреть. Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьезные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому, я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на Восток…».
Невозможно без возмущения читать эти бессовестные строки старого политического торгаша. Предоставляя русскому народу истекать кровью, британский премьер внимательно следил за обстановкой на Восточном фронте, чтобы не прозевать момента открытия второго фронта. Союзники высадились не воевать, а продвигаться как можно дальше на Восток.
А ведь всего два месяца назад У. Черчилль обратился к И. В. Сталину с панической телеграммой. Он буквально умолял Верховного Главнокомандующего спасти армии союзников, стоящие накануне краха в результате мощного удара немцев в Арденнах. И советские войска, верные союзническому долгу, начали наступление значительно раньше намеченного срока. Удар с Востока заставил немцев оттянуть силы из района Арденн. Американцы и англичане вздохнули: спасены!
И вот человек, моливший о спасении и получивший его, не переводя духа затевает против своего спасителя – я имею здесь в виду весь советский народ,– затевает против него грязную интригу. Надо ли удивляться, что через два года после окончания войны У. Черчилль выступил в Фултоне со своей знаменитой речью, положившей начало так называемой «холодной войне», атмосферу которой мы ощущаем до сих пор.
Однако я забежал вперед. Пока что победоносные войска Советской Армии грозно приближались к обреченному Берлину.
С выходом советских войск к Одеру воздушная обстановка на фронте неожиданно усложнилась. Немецкая авиация резко повысила боевую активность. Объяснялось это просто: базируясь на стационарный берлинский аэроузел, немцы могли действовать даже при сильных снегопадах и дождях. У нас же грунтовые аэродромы были испорчены. Больше того, даже столь несовершенные базы находились у нас в 120-140 километрах от линии фронта. В отдельные дни противник совершал более трех тысяч самолетовылетов и явно господствовал в воздухе.
Трудные условия весны потребовали от наших авиаторов максимального напряжения сил. К сожалению, я в эти дни был неожиданно отозван с фронта и принять участие в боях за фашистскую столицу мне не довелось.
Как-то поздно вечером в штабе полка раздался длинный звонок. Звонил порученец командующего фронтом маршала И. С. Конева. Он передал мне приказание маршала явиться к нему завтра утром.
Ехал я в полной надежде, что вызов связан с подготовкой предстоящей операции. Иногда, готовя крупное наступление, штаб фронта вызывал и командиров полков. А тут ведь предстояло брать Берлин.
Юркий армейский «виллис» быстро бежал по ровной автостраде. В Германии дороги были прекрасные: широкие, умело спрофилированные, с бетонным покрытием. Одно время, когда дожди вконец испортили наши грунтовые аэродромы, мы использовали эти дороги. Брался какой-то участок автострады, указывался объезд для автотранспорта,– и аэродром готов.
Кое-где на дорогах был побит бетон, но наши саперные части на скорую руку уже подлатали, и сейчас поток машин на предельной скорости катился по направлению к фронту.
Маленький немецкий городок носил следы недавних ожесточенных боев.
Штаб фронта помещался в подвальном помещении уцелевшего здания.
На меня уже был заказан пропуск.
В низких сводчатых комнатах, где помещались службы штаба, полно народу. Усиленная охрана стоит у двери, за которой находится узел связи. Оттуда то и дело выходят озабоченные адъютанты.
Приема у командующего пришлось ждать недолго. Я вошел в большой кабинет И. С. Конева. Маршал сидел за столом, заваленным картами.
Четко, по-уставному доложил о прибытии. Иван Семенович медленно поднялся из-за стола.
Еще направляясь в кабинет командующего, я понял, что никакого большого совещания в штабе не предвидится. Поэтому не давала покоя мысль – зачем же все-таки меня вызвали? Нельзя было ни о чем догадаться и по первым вопросам маршала. Он поинтересовался состоянием полка, самочувствием летчиков. Но я чувствовал, что не это главное.
Несколько раз еле слышно звякал полевой телефон на небольшом столике, маршал снимал трубку и, не называясь, слушал. Затем бросал одно, два слова, и трубка опускалась. Входил порученец с какими-то бумагами, командующий просил оставить их на столе.
При свете, падавшем из большого окна, я разглядел лицо маршала. Оно было очень утомленным. Видимо, сказывалось нечеловеческое напряжение многих месяцев войны. На плечи И. С. Конева ложились самые ответственные задания по разгрому врага. Он был под Москвой, когда враг приблизился к нашей столице на расстояние орудийного выстрела. Ставка послала его под Курск, он вел войска через Днепр. Теперь армии маршала И. С. Конева нацелены на Берлин.
Командующий фронтом взял меня за локоть и подвел к окну. Напротив, отгораживая панораму городка, краснела кирпичная стена брандмауэра. Маршал заговорил наконец о том, зачем я был вызван в штаб. Оказывается, Военный Совет фронта решил послать меня на учебу в Военно-Воздушную академию.
– Как, сейчас?– невольно вырвалось у меня.
– Конечно,– спокойно ответил командующий.– Зачем же ждать? У вас какое образование?… Ну вот, всего лишь училище. Этого мало, а после войны станет совсем недостаточно. Надо учиться.
Сдержанно, но решительно я попросил отложить отъезд на учебу до окончания войны. На самом деле, было обидно уезжать из-под самых стен Берлина. – Прошу оставить!– настаивал я.
Иван Семенович минуту помолчал, с каким-то напряжением вглядываясь в глухую стену за окном, затем повернулся и подошел к своему рабочему столу с картами. Лицо командующего сделалось серьезным.
– Будете учиться,– сказал он.– Осталось нам не много…
Он разговаривал со мной, но по выражению лица, по тому, как глаза его привычно разбирались в мешанине стрел и стрелок на большой карте, можно было понять, что мыслями он был уже далеко: там, где предстояло быть завтра, послезавтра уходящим в наступление полкам. Я понял, что возражать бесполезно, и мне ничего не оставалось, как ответить коротко, по-военному: «Слушаюсь».
Не поднимая головы, командующий спросил, на кого остается полк. На сдачу полка мне предоставлялась неделя. – Разрешите идти?
Маршал оторвался от карты, потер глаза. Затем он вышел из-за стола и в раздумье прошелся по кабинету. Годы, казалось, нисколько не имели над ним власти. Он был такой же, каким я его видел под Курском, затем под Львовом на аэродроме нашего полка, таким он остался и после войны – на параде Победы, где маршал вел наш сводный полк, на работе в Министерстве Обороны, где мне довелось впоследствии бывать у него на приеме.
– Все мы понимаем,– негромко, как бы в задумчивости проговорил командующий, расхаживая по кабинету,– все понимаем, что сейчас наступает самое главное. Берлин!
Вот он, рукой достанешь… И все же надо ехать.
Он опустил голову, разглядывая носки начищенных сапог. Затем вдруг оживился, глаза его заблестели.
– А в Москве сейчас хорошо! Приходилось бывать в Москве?… Любите Москву? Ну, еще бы! Да теперь уж недолго. Скоро войне конец.
Неслышно открылась дверь, вошел адъютант. Он приблизился к командующему и что-то сказал ему на ухо.
– Хорошо,– ответил маршал и снова обратился ко мне.
– Разрешите идти?– тотчас спросил я.
Командующий не стал меня больше задерживать. Его ждали дела.
Прощаясь, И. С. Конев поинтересовался, хорошо ли я экипирован для поездки в Москву. Признаться, мысль об этом мне и в голову не приходила.
Маршал вызвал кого-то из порученцев и распорядился обеспечить меня всем необходимым. В частности, лично от себя он подарил мне великолепный трофейный «мерседес».
– В Москву на своих колесах въедешь,– рассмеялся он.– Да и в Москве… Парень ты молодой, видный, машина пригодится. Холостой?
– Женат, товарищ маршал.
Иван Семенович махнул рукой:
– Все равно пригодится!
Сборы в дорогу недолги. Наступил и день прощания с родным полком.
Очень удачно, что день тот выдался ненастный. Полетов не было, все летчики на аэродроме.
– Сергей, полк построен!– сказал И. Ф. Кузьмичев, входя с улицы. На бровях его висели капельки дождя.
– Льет?
– Да не очень. Пойдет – перестанет. Потом опять.
Нерусская какая-то погода.
– Ну, пошли!
Я в последний раз оглядел штабную комнату, навсегда расставаясь с привычным фронтовым бытом. Мы вышли из штаба. Полк построился на поле в полном составе.
– Ого!– произнес я, увидев всех своих ребят в четком строю. Этот момент отдавания последних военных почестей уезжающему командиру запомнился на всю жизнь.
– С кого же начать?– спросил я замполита.
Иван Федорович, глядя на меня грустными расстроенными глазами, пожал плечами.
Первой стояла эскадрилья Дунаева.
– Ну, Коля…– произнес я, и мы обнялись.
Я стал обходить строй, пожимая летчикам руки. Но вот Николай Шутт, наш отчаянный, веселый товарищ. Разве удержишься от объятия?
– Прощай, Коля!
– До свиданья!– поправил меня Шутт и, отступив в строй, молодецки взял под козырек.
Иван Корниенко, старый фронтовик, ко всему перенесший еще и плен. После всех испытаний он, кажется, навсегда разучился улыбаться. Сейчас он смотрит на меня растроганно, на какой-то миг опускает глаза. Прощай и ты, боевой товарищ!… Он первым освободился от объятий и сказал, как пообещал:
– Увидимся еще.
Длинный строй полка. Знакомые, ставшие родными лица товарищей. Мы обнимались, целовались и клялись найти друг друга после войны – не терять фронтового товарищества.
Где-то на самом краю строя я нашел Ивана Лавриненко.
– Доброй дороги, товарищ командир,– проговорил он, с трудом сдерживая волнение.
С ним мы долго не могли разжать объятий. Где и когда нам еще придется встретиться? Да и придется ли вообще? Велика страна, и пойди-ка сыщи в ней человека.
Вечером в столовой накрыли прощальный стол. Последний вечер в полку. Не знаю, ушел ли кто-нибудь из друзей в ту ночь спать.
После вчерашнего дождливого дня и довольно ненастной ночи наступило чистое, промытое утро. Мой «мерседес» уже был подготовлен к дороге.
Все вроде! В последний раз хлопает дверца машины. Летчики машут руками, пилотками. До свиданья, друзья!… Еще несколько щемящих сердце минут, и я вывел машину на автостраду. Теперь путь мой лежал на восток, домой.
Но на прощанье война еще раз напомнила о себе. Я проезжал какой-то хутор. Начинался день, и коровы, степенные, породистые, медленно уходили в лесочек, уже начинавший зеленеть. Вдруг там, куда ушли коровы, раздалось несколько оглушительных взрывов. Я резко затормозил и выбежал на обочину. Оказалось, что коровы подорвались на оставленных в лесочке минах. Война никак не хотела уходить с этой земли, даже издыхая, она цеплялась и вредила из последних сил.
С полчаса посидел на обочине, покуривая и греясь на солнышке. Взрывы, заставившие меня затормозить, скоро забылись. Не о них думалось в такой ясный весенний день. Я вздохнул, вспомнив оставленный полк, но скоро, очень скоро умиротворенное состояние вновь овладело мной. Нет, все-таки конец. Кончилась! Я поднялся и пошел к машине.
Вставало солнце, в лицо бил ветер родных полей. Фронт оставался все дальше позади, позади оставался и весь привычный уклад военной жизни. Я ехал в Москву, к новой жизни, и ощущение покоя, мира, счастья все крепче западало в душу.