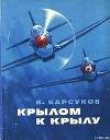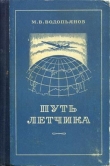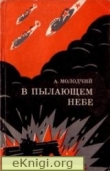Текст книги "Небо остается чистым. Записки военного летчика."
Автор книги: Сергей Луганский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
У нас в академии в день подписания капитуляции фашистской Германией занятия во всех аудиториях начались как обычно. Короткая суматоха, когда слушатели торопятся занять места, быстрые шаги преподавателей в опустевших коридорах, и вот – тишина, внимание. Учебный день пошел своим чередом. Видимо, он так и прошел бы, ничем не выделяясь из сотен других дней, заполненных занятиями, если бы не радостное известие: в самом начале своей лекции генерал Чугунов, наш преподаватель, сообщил о том, чего давно уже ждали. Что тут началось! За партами сидели одни фронтовики, люди, знающие цену поражениям и победам, испытавшие горечь утрат, ранений, фронтовых испытаний. Уж слишком долга и тяжела была война, как нетерпеливо ждал народ этого счастливого часа!
Понемногу шум пошел на убыль, слушатели неохотно расселись по местам. Но не было уже прежнего внимания и сосредоточенности. Лихорадочно блестели у всех глаза. До занятий ли было в такой день? Мы едва дождались звонка, снова загалдели и высыпали в коридор. Ликовала вся академия.
– Пошли, братва!– предложил возбужденный Кожедуб.– Грешно не отметить.
Отправились мы небольшой компанией – человек шесть. Вдохновителем и организатором у нас был Иван Кожедуб. Ликование всюду. Многолюдно на улицах, возле магазинов. Военные перемешались со штатскими. Впрочем, штатские и сами недавно только сняли военную форму. Как правило, это были инвалиды.
Вот несколько человек в стареньких гимнастерках, став з кружок и обнявшись, голова к голове, ни на кого не обращая внимания, громко, но слаженно, поют популярную фронтовую песню: «Бьется в тесной печурке огонь». Особенно проникновенно, со слезой они выводят: «А до смерти четыре шага».
– В Ногинск!– отдал команду Кожедуб.– Едем все в Ногинск!
Почему в Ногинск? А кто его знает? Просто взяли и поехали.
В Москву мы попали только на следующий день. Ни о каких занятиях, конечно, не могло быть и речи. Улицы столицы были запружены народом. Военным не давали проходу. А уж тем, у кого на груди горели звезды Героев, буквально не было спасения: как увидят, так качать. В конце концов от бесконечных подбрасываний в воздух у нас начали кружиться головы. А ведь летчики – народ привычный к полетам.
– Ребята, пошли ко мне,– предложил Алексей Микоян.– Посидим, пообедаем. Тут нам не будет спасения.
Предложение было принято, и мы гурьбой стали пробиваться к центру. Особенно «тормозил» компанию Иван Кожедуб. Три звезды Героя на груди, лицо знакомое по сотням фотографий, – ему буквально не давали проходу.
Летчиков окружила большая группа школьников. На белых блузках и рубашках пламенели пионерские галстуки. Глаза ребятишек светятся любопытством и восхищением. В свое время в Алма-Ате мы с обожанием разглядывали летчика в военной форме. Он казался нам воплощением романтических ребячьих мечтаний о небе, о пятом океане. Теперь школьники любовались звездами Героев, наяву разглядывая людей, о которых много писалось в газетах, передавалось по радио. Когда-то большой редкостью была любая правительственная награда, теперь же, после войны, у многих по нескольку орденов. Иван Кожедуб носил на груди три звезды Героя – он был одним из трех человек, удостоенных этой великой чести (кстати, вторым был тоже летчик-истребитель Александр Покрышкин).
Наконец мы пробились в Александровский сквер и вдоль Кремлевской стены пошли к Боровицким воротам. В сквере было тише, народ со скамеек посматривал и провожал глазами группу летчиков. Шелестела на деревьях молоденькая свежая зелень.
– Пошли за мной, ребята!– распоряжался Алексей, поднимаясь из сквера к Боровицкой башне.
Всей группой миновали пустынные ворота. Летчики осматривались. Алексей уверенно шагал впереди, показывая дорогу. Солнце, щедрое майское солнце, блестело на чистой брусчатке кремлевских мостовых.
Притихшие, поправляя гимнастерки, оглядывая себя, мы поднимались по лестнице.
– Ребята, без стеснения,– подбадривал Алексей, забирая у нас фуражки.– Проходите прямо в столовую.
В большой комнате с темными панелями был накрыт обеденный стол. Нас ждали. Стали рассаживаться.
– Ну, затихли, присмирели!– покрикивал на нас Алексей.– Давайте свои рюмки! Давайте ближе, чтобы не тянуться.
Из графина была разлита по рюмкам водка.
– Стоп, ребята!– сказал Алексей и прислушался.– Подождем немного. Отец идет.
И действительно, неслышно отворив дверь, в столовой показался Анастас Иванович.
– Сидите, сидите!– сказал он вскочившим летчикам и не стал задерживаться у стола.– Желаю приятного аппетита.
– Папа!– позвал Алексей.– С нами?
– Не могу,– отказался Анастас Иванович.– Я только что обедал… Ну, веселитесь!– и он вышел.
Впоследствии мне довелось бывать в семье А. И. Микояна, и я привык к тому, что там постоянно была ровная, очень располагающая к отдыху, к дружеским откровениям обстановка. В семье знали, что я воевал вместе с Володей, был свидетелем его гибели. Это большое горе семьи было запрятано глубоко в сердцах…
– Ну, куда теперь?– спросил Кожедуб.– Может, махнем в Химки? Хорошее место!
Глаза летчиков блестели. День только кончился, впереди еще целый вечер.
– Веди, Иван!– согласились мы.
– По машинам!– отдал привычную боевую команду наш «старшой».
Вечер, чудесный весенний вечер, опустился на праздничную столицу. На улицах масса народу. Казалось, весь огромный город вышел из квартир. Налево блестела в огнях праздничной иллюминации Москва-река. Шустро прошел битком набитый пароходик. Люди, сгрудившись у борта, глядели на сияющий Кремль. Из Замоскворечья, через широкий, дугой выгнутый мост, катился бесконечный поток автомашин. На фронтоне кинотеатра «Ударник» вспыхивала и гасла какая-то световая реклама. Направо, за Александровским сквером, кишела народом запруженная Красная площадь. Горела звезда над Спасской башней. Светились окна гостиницы «Москва». Напротив, у подъезда «Националя», стоял целый ряд низко стелющихся заграничных машин.
Добраться до Химок в то время было трудновато. Метро проложено только до «Сокола». Автобусы шли переполненными. Мы выбрались из центра и долго мыкались по переулкам у Центрального телеграфа, пытаясь найти хоть какую-нибудь машину. Увидев горящие вдалеке фары, мы стали поперек дороги и отчаянно замахали руками. Машина остановилась. Уговорить водителя подвезти нас не стоило труда. В этот день военные были в почете, и водитель радушно распахнул дверцы.
– В Химки!– отдал команду Кожедуб, когда мы, разместившись друг у друга на коленях, набились в машину.
Понеслись по улице Горького. Все то же многолюдье. Вокруг памятника Пушкина кипело веселье. За площадью Маяковского стало вроде бы потише, лишь с Белорусского вокзала валили толпы прибывающих на пригородных поездах.
В ресторане в Химках пир шел горой. Гремел оркестр, ярко горели люстры. Голоса, песни, звон рюмок, смех – все это сливалось в какой-то праздничный слитный гул.
Мы сели за столик и вдруг примолкли, погрустнели, взглянули друг другу в глаза, когда подняли рюмки, и выждали в молчании минуту – это был фронтовой тост за тех, кого не было с нами и уж никогда не будет, за тех, кто погиб…
Знаменитый Парад Победы состоялся на Красной площади 24 июня.
Это был не традиционный майский или октябрьский парад. Перед Мавзолеем Ленина торжественным маршем прошли наиболее прославившиеся части войск действующей армии, прибывшие в Москву прямо с только что умолкших фронтов Великой Отечественной войны. Это был величайший апофеоз нашей славной победы, и я счастлив тем, что был его участником.
Внешне все вроде бы выглядело так же, как и недавно, в дни Первомая. Слушатели академии были подняты ночью и на военных машинах приехали в Москву. Стояли короткие летние ночи, и было уже совсем светло, когда воинские части выстроились на отведенных местах. Нам на этот раз был указан квадрат в стороне от Мавзолея. Дело в том, что Парад Победы должны были открывать не учебные заведения Советской Армии, а сводные колонны фронтов, прибывшие на Красную площадь. Вчера на Центральном аэродроме проводилась генеральная репетиция парада. Но ведь это была только репетиция, без торжественного и праздничного оформления Красной площади, без Мавзолея, без всего волнующего ансамбля Кремля, которые близки и дороги сердцу каждого советского человека.
Неповторимое зрелище представляла в то утро Красная площадь. Вся в кумачовом убранстве, она заставлена четкими квадратами выстроившихся войск. Развевается бархат боевых знамен. На этих знаменах пыль и пороховая гарь многих сражений. На груди замерших в строю солдат, офицеров, генералов, прославленных маршалов переливаются ордена и медали – награды Родины за подвиги, за смелость, за выдержку и верность в жесточайшей битве.
Вся страна знала, что накануне, 23 июня, закончилась сессия Верховного Совета СССР. Депутаты заслушали доклад начальника Генерального штаба Советской Армии А. И. Антонова и единогласно проголосовали за решение о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии. Так что многие участники парада уже готовились к встрече с родными и близкими. Сегодняшний Парад Победы для нашего народа являлся логическим завершением тяжелой борьбы и военных тягот. Советская страна, с честью одержав величайшую победу, вступала в полосу мирной жизни.
День для парада выдался ненастный, с утра накрапывал мелкий дождь. Однако непогода не могла испортить всеобщего радостного, приподнятого настроения. Исключительность момента понимали все: и участники, и гости на переполненных трибунах, и те миллионы слушателей, прильнувшие к репродукторам. Парадов, подобных сегодняшнему, еще не знала история Советской Армии. Не видела ничего подобного и наша славная Красная площадь за восемь веков своего существования.
Очень много народу на трибунах. Там разместились депутаты только что закончившейся сессии Верховного Совета, лучшие рабочие московских предприятий, деятели науки, литературы, искусства. Присутствуют гости из-за рубежа.
Когда большая стрелка на часах Спасской башни стала приближаться к 10, на трибуне Мавзолея появились члены Политбюро Центрального Комитета партии и правительства. По площади прокатились аплодисменты. Едва они смолкли, часы торжественно пробили десять звучных ударов. И только в настороженную тишину упал последний удар курантов, над площадью раздался голос команды: «Смир-рно!» Цокот копыт – это командующий парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский на статном вороном коне коротким галопом направился навстречу принимающему парад Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову. Он на белоснежном коне. Оба маршала – старые кавалеристы, и это видно по их посадке, по умению управлять скакунами. Слышатся слова рапорта, и вдруг гремит оркестр. Начался объезд войск. Сводные полки отвечают на поздравления перекатывающимся русским «Ура!». Этот боевой ликующий крик еще долго перекатывается по площади, раздается на Манежной, Театральной, на улице Горького и смолкает лишь тогда, когда оба маршала поднимаются на Мавзолей.
Гигантский сводный оркестр в 1400 человек исполняет «Славься, русский народ». Гремит медь труб и горячо, учащенно бьется сердце каждого от радости и гордости за свой родной народ. Начался парад.
Открывали парад представители войск самого северного фронта: Карельского, замыкали – самого южного: 3-го Украинского. Впереди колонны каждого фронта шел его командующий – маршал или генерал армии.
Под гром сводного оркестра, печатая шаг, шли гвардейские части. Переполненные трибуны, зарубежные гости, члены правительства на Мавзолее беспрерывно машут руками, приветствуя славных представителей победоносной армии. По брусчатке Красной площади катятся орудия со звездами на стволах. От них, казалось, еще исходит запах пороха. Показываются гвардейские «катюши», смертоносные орудия, еще недавно разившие врага огненным смерчем. Грохочут танки, самоходные орудия.
Плывут над колоннами боевые знамена – по 36 в каждом сводном полку. Каждое из них побывало в огне сражений, прошло длительный и многотрудный путь.
Волнующим был момент, когда по площади пронесли Знамя Победы, водруженное на рейхстаге. Несколько дней назад оно с особыми воинскими почестями было доставлено в Москву. На центральный аэродром столицы его привезли Герои Советского Союза старший сержант Сьянов, младший сержант Кантария, сержант Егоров, капитаны Самсонов и Неустроев. Теперь это знамя, овеянное солдатской славой, пробитое осколками, торжественно плывет на параде победителей…
Идет колонна нашего 1-го Украинского фронта. Ее ведет маршал И. С. Конев. Фронтовое знамя несет Александр Покрышкин.
Проходят моряки, проносится на рысях конница.
Потом, как и обычно, начался марш слушателей академий. Нет, что-то неповторимое чувствуется сегодня и в убранстве Красной площади, и в ликовании трибун, и в настроении самих участников парада. С равнением направо проходим мы мимо Мавзолея.
И гремит, не переставая, огромный сводный военный оркестр.
Поравнявшись с храмом Василия Блаженного, наша колонна перешла на походный шаг, и я, стараясь не мешать рядов, выбираюсь из строя. Дело в том, что в кармане у меня пригласительный билет на праздничный банкет в Кремле. Парад еще не кончен, и мы, кто вышли из строя, торопимся назад, на площадь.
Вдоль трибун пробираемся на места, отведенные для военных. Это у самого Мавзолея. Там нас очень много. Сияет золото парадных мундиров, маршальских и генеральских погон, рябит в глазах от завесы орденов и медалей. Я узнаю знакомые лица полководцев и своих боевых фронтовых товарищей. Глаза всех устремлены на площадь, на беспрерывные колонны проходящих войск.
Один из генералов оборачивается к нам и машет рукой. Это генерал В. И. Алексеев. Он стоит у самого каната, ограждающего площадку для военных, и мы становимся рядом. Да, отсюда, от Мавзолея, картина парада совсем иная. Со стороны приятно полюбоваться выправкой офицеров, слитным, крепким строем колонн.
Внезапно смолк огромный оркестр и над площадью устанавливается глубокая тишина. Вначале я даже растерялся: так внезапно сменилась обстановка.
Но вот в затаившейся тишине раздается тревожная, настораживающая дробь барабана. Все разом поворачивают головы.
Наступил момент предания позору плененных знамен фашистских войск.
Дробные звуки барабанов все ближе. Лица всех обращены влево, к Историческому музею. Оттуда появляется необычная колонна. Рослые гвардейцы, крепкие ребята, в стальных касках, в затянутых мундирах, отбивая шаг, несут полотнищами по земле знамена и штандарты фашистских полков и дивизий. Двести солдат несут двести вражеских знамен. Гремят не умолкая барабаны, и под их суровую дробь печатают железный шаг наши славные гвардейцы. Какое-то странное оцепенение овладело всеми, кто был па площади, кому выпало счастье стать свидетелями этого незабываемого зрелища.
Волочится по мокрой брусчатке бархат вражеских знамен, склонили хищные головы орлы на фашистских штандартах. Среди воинских реликвий имеется даже личный штандарт Гитлера.
Поравнявшись с Мавзолеем, передний ряд гвардейцев вдруг делает четкий изворот и тем же солдатским твердым шагом приближается. Вот перед ними гранитная панель Мавзолея с дорогим сердцу каждого человека словом «Ленин». Гвардейцы, не сбавляя шага, бросают вражеские знамена к подножью Мавзолея, поворачиваются и продолжают свой карающий марш. За ними идет следующий ряд, еще и еще, и летят, валятся на брусчатку Красной площади знамена со свастикой, с изображениями орлов. Эти почетные эмблемы гитлеровских войск прошли по дорогам всей Европы, они победно реяли на площадях Парижа, Праги, Брюсселя, они собирались, уже готовились и сюда, на нашу Красную площадь, и вот попали. Но – в каком виде!…
Растет гора поверженных фашистских знамен, а барабаны все отбивают свою суровую мелодию отмщения, и рослые ребята-гвардейцы с размаху швыряют к ногам победителей воинские символы разбитого, поверженного врага.
Да, это было незабываемое зрелище! Тишина и оцепенение. Кто знает, может быть, у всех, кто сейчас на площади, проносятся в памяти, как и у меня, пророческие слова, сказанные в труднейшие дни сорок первого года: «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!» И еще: «Придет и на нашу улицу праздник!…» И вот пришел он, этот долгожданный праздник. Долог, тяжел был к нему путь, но мы дождались-таки его, и оттого так волнующе, так впечатляюще действует сегодняшний парад, сегодняшний триумф победившей Родины!…
Генерал В. И. Алексеев поторапливает нас: «Идемте, идемте, неловко опаздывать-то!»
Голос его озабочен, он торопливо шагает, поглядывая на спины удаляющихся военных. После парада все, кто получил пригласительные билеты на праздничный банкет, пошли к воротам Спасской башни.
Под сводами Спасской башни идут и идут военные: маршалы, генералы, офицеры, рядовые. Мне вспоминается, как несколько лет назад, после военных действий с Финляндией, нас вот так же пригласили в Кремль для вручения наград. Мне кажется, что нынешнее волнение куда сильнее тогдашнего.
Большой Кремлевский дворец принимает гостей, праздничный и торжественный. Широкая мраморная лестница устлана красным ковром. Свет из высоких окон отражается на позолоченных украшениях, в хрустале бесчисленных люстр, блестит на массивных рамах огромных картин.
Идут, поднимаются по ковровой лестнице многочисленные гости Кремля – нарядные, в парадной форме, счастливые и гордые своей победой. Настроение у всех приподнятое.
В нескольких залах накрыты большие столы, празднично сервированные, украшенные цветами. Нас встречают, радушно приглашают:
– Пожалуйста, пожалуйста!
– А куда садиться?– спрашивает какой-то полковник, растерянно оглядывая огромный стол.
– Куда хотите. Пожалуйста!
Увидев майора в форме летчика, я устремляюсь к нему. Рад и он: все свой человек будет рядом. Мои спутники, Батя и руководители академии, прошли в зал для высшего комсостава, и я как-то растерялся. Мы с летчиком садимся за один стол. Напротив нас садятся два полковника пехоты, артиллерист и моряк.
– Ну, что?– произносит моряк, быстрее всех освоившись в незнакомой обстановке. Он берет графин с водкой и с веселой усмешкой оглядывает сотрапезников:
– Я думаю, ни у кого возражений не будет?
Он как-то сразу становится душой компании, этот разбитной и, видать, бывалый морячок. Теперь мы в его руках, и он в бодром темпе ведет застолье.
Первый тост, как и положено, за победу. Пьем молча, с вполне понятным благоговением.
По мере того как поднимается настроение гостей и пропадает скованность, в зале растет слитный праздничный гул. Звенят бокалы.
Как водится, пошли расспросы:
– Где воевал?… А такого-то знаешь?…
В конце зала, на дальнем конце стола, послышалась песня. Кто-то, поднявшись за столом, предложил общий тост. Огромный зал, заполненный фронтовиками, возбужденными волнующей картиной парада, сознанием победы, гудел на сплошной все нарастающей ноте.
После банкета всех участников ждали внизу машины.
– Пожалуйста!– меня проводили и усадили в машину.– Адрес скажете шоферу.
Куда же ехать? В Монино?… Нет, к Бате. Мной овладело чувство, которое понятно каждому: потребность общения, необходимость сердечно, по душам поговорить с близким, родным человеком.
Я назвал улицу имени Осипенко, и машина помчалась по Москве.
Час был не слишком поздний, на улицах полно народу. Высоко в темном небе в лучах мощных прожекторов реяли огромные алые полотнища. Они были подняты на аэростатах. На многих из них четкие изображения орденов Победы и Красной Звезды. На площадях столицы гремели оркестры, на сколоченных эстрадах выступали артисты. Везде, куда ни глянешь, танцы. Москвичи праздновали, ликовали. На перекрестках, когда приходилось останавливаться, к нам в машину заглядывали смеющиеся счастливые лица.
Батя был дома, приехал незадолго до меня. Проговорив допоздна, мы весь следующий день отсыпались, отдыхали.
– Завтра в гости махнем!– сказал мне Василий Иванович.– На Оку!
Старый речник, уроженец исконно русских мест, Батя любил родные края, сохранив там до сегодняшнего дня множество друзей и приятелей. К одному из друзей генерала, к капитану речного пароходика, мы и уехали рано утром.
Начало дня было туманным, влажным. Стояли по сторонам дороги сырые леса, омытые ночным дождем. Солнце показалось неожиданно, когда мы подъехали к реке. Засверкала трава, заблестели речные перекаты.
– Э-эй, паро-ом!– кричал внизу чей-то протяжный голос. Мы вылезли из машины и прошли немного вперед. У причала стояла подвода, и старик, махая кнутовищем, звал перевозчика.
Прошло немало времени, пока паром отчалил от противоположного берега и медленно тронулся поперек течения. Витой канат понемногу показывался из воды, с него падали прозрачные капли. Воздух уже обогрело, туман клубился только над зеленой кромкой далекого леса. День обещал быть погожим.
На пароме было тесно. Из телеги пахло скошенным сеном. Паромщик и старик о чем-то переговаривались, лениво перебирая мокрый канат. Журчала под днищем неторопливая вода, лошадь взмахивала головой и била хвостом, отгоняя мух. Паромщик закурил, и дымок солдатской махорки сладко защекотал в носу…
Отдых на Оке доставил нам несказанное удовольствие. Мы провели там целый день, загорали, варили уху и вернулись в Москву в третьем часу ночи.
Так завершился для нас праздник, которого мы ждали все долгие и тяжелые годы войны.