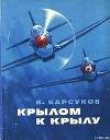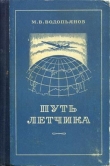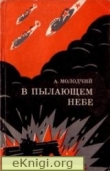Текст книги "Небо остается чистым. Записки военного летчика."
Автор книги: Сергей Луганский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Кружась над местом приземления, я перевел дух. Хотя бой длился всего несколько минут, усталость была страшная – перегрузка. Горючего в баке оставались какие-то крохи.
«Мессершмитт» спланировал умело. Немецкий летчик, не выпуская шасси, посадил самолет на брюхо. Сверху я наблюдал, скоро ли покажется из кабины летчик и что он станет делать. В последнее время наиболее отъявленные фашисты предпочитали отстреливаться до последнего, не желая сдаваться в плен. В этом случае я «усмирил» бы немца с одного захода. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из наших ребят получил вражескую пулю на земле.
Немец не показывался долго, но, когда с аэродрома подъехали машины и выскочившие ребята подбежали к сбитому самолету, вражеский летчик вылез из кабины и первое, что он сделал, протянул свой пистолет. Отдавая оружие, немец держался за шею, по щеке его струилась кровь. Значит, ранен.
Над самой землей, заранее выпустив шасси, я потянул на аэродром. Горючего не оставалось совсем, и последние метры я одолел планированием
Приземлившись, побежал докладывать о результатах разведки. Освободился я не скоро, а когда вышел из штаба, то сбитого фашиста уже доставили на аэродром. Зажимая кровоточащее ухо, немец стоял в окружении наших летчиков, бледный, с осунувшимся лицом. Но глаза его надменно устремлены куда-то вдаль. На наших летчиков он совсем не обращал внимания. Иногда презрительно дергались тонкие губы. Чтобы подойти ближе, я тронул стоявшего передо мной за плечо. Он обернулся, и я узнал Виктора Усова, своего ведомого.
– Пройдите, товарищ капитан. Занятный волчонок.
«Пиковый туз» оказался плечистым сильным парнем лет двадцати восьми. На груди его красовалось четыре креста. Из короткого допроса, который ребята учинили тут же, выяснилось, что немца зовут Отто. Воюет он давно, сражался с французскими, английскими, польскими летчиками. За все время сбил семьдесят самолетов. Из них больше тридцати – русских.
– Ах ты гад!– громко сказал Виктор Усов.
Понял ли немец, что это относилось к нему? Скорее всего – да, потому что он нехотя перевел взгляд на Усова и несколько мгновений смотрел ему в глаза. Но любопытство, с которым рассматривали пленного наши летчики, сменилось ненавистью, и немцу стало не по себе. Несколько раз он с беспокойством посмотрел по сторонам, явно ища защиты от самосуда. Угадав во мне старшего, он с надеждой обратил взгляд.
– А трусит!– сказал кто-то с удовольствием.
Пленного повели в штаб. Он пошел охотно, не желая больше оставаться в окружении летчиков.
В штабе, словно в благодарность за избавление, немец охотно разговорился. За подвиги на русском фронте Гитлер наградил «пикового туза» «Дубовыми листьями к рыцарскому кресту»– знак высшей воинской доблести в немецкой армии. Награды фюрера, однако, Отто еще не успели вручить – он ждал ее со дня на день.
На следующее утро к нам на аэродром приехал командующий фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев. Приезд маршала застал нас врасплох. Ребята быстро привели все в порядок, и я встретил гостя рапортом.
Маршал был в обычной своей фронтовой форме, без каких-либо наград. Большой козырек военной фуражки закрывал от солнца усталые глаза. Мне показалось, что яркий свет утомляет его.
Сопровождало командующего несколько генералов. Я узнал командира корпуса Рязанова и командира нашей дивизии Баранчука. Остальные были незнакомы.
Не помню, что в моем рассказе о воздушном поединке вдруг заинтересовало командующего фронтом, но усталые глаза его оживились, и он привычным жестом сбил фуражку на затылок.
– Ах даже вот как!– проговорил он с удивлением, словно изучая меня живыми, прищуренными глазами.– Ну, просто молодец! Поздравляю!
– Служу Советскому Союзу, товарищ Маршал Советского Союза!
Командующий, показывая, что официальная часть встречи кончилась, взял меня за локоть и повел рядом с собой.
– Значит, что же – есть еще возможность увеличить счет?– спросил он, то и дело взглядывая на меня сбоку.
– Так точно, товарищ Маршал Советского Союза.
Уезжать от нас маршал не торопился. Он прошелся по аэродрому, заглянул в землянки и в столовую. Стоял ясный день.
– А сбитый далеко?– спросил он.
– В штабе, товарищ маршал. Получено было приказание отправить его в штаб.
– Да не-е-ет. Я не о пленном.
– «Мессершмитт»? Он здесь, близко. Разрешите, товарищ командующий?
– Да уж покажите. Интересно взглянуть.
– Пешком?
– Ну, если недалеко… Идемте, товарищи,– пригласил он сопровождающих и, заложив руки за спину, почему-то долго смотрел на ясное голубое небо.– А день-то, день-то!
Сбитый «мессершмитт» еще вчера вечером подтянули ближе к аэродрому, идти было совсем недалеко. Вокруг вражеской машины по-хозяйски суетились техники. Завидев большую группу во главе с маршалом, техники замерли по стойке «смирно».
И. С. Конев подошел к сбитому немецкому самолету и стал внимательно его разглядывать. Сбоку, отбежав на несколько шагов, приготовил аппарат фотограф. Ногой, затянутой в высокий, выше колена, сапог, маршал постучал по плоскости «мессершмитта», но ничего не сказал. С минуту, если не более, лицо его было задумчивым. Потом он вскинул голову и тут же, на поле, приказал командиру нашего корпуса генералу Рязанову:
– Я бы хотел иметь сегодня же документ о представлении капитана Луганского ко второй Звезде Героя.
Уставным «слушаюсь» командир корпуса принял к исполнению приказ маршала.
Радостную весть о присвоении мне звания дважды Героя Советского Союза принес техник Иван Лавриненко. Запыхавшись от бега, ввалился он ко мне в землянку: Товарищ капитан… Сам слыхал. Сейчас только!
В первое мгновение я ничего не понял, но, напуганный неожиданным вторжением техника, вскочил на ноги. Его громкий крик, его вид могли говорить о чем угодно. Несчастье? Неожиданный налет? Гибель товарища? Кажется, все эти подозрения моментально пронеслись у меня в голове, потому что перед этим в своих мыслях я был очень далек от фронтового аэродрома: писал письмо домой.
Лавриненко как бежал, как уперся обеими руками в косяки, так и остался на пороге, загораживая собою весь дверной проем. Он еще не мог перевести дух.
– Левитан читал… Из Москвы!
Смысл происходившего постепенно доходил до моего сознания.
– Так быстро?– только и спросил я, когда наконец понял, что за весть принес мне Иван Лавриненко.
После визита командующего фронтом на наш аэродром прошло всего несколько дней.
– Идемте,– говорил, переводя дыхание, Иван.– Там все уже знают.
Теперь, конечно, было не до письма.
Подбегая к радиостанции, я издали увидел сгрудившихся летчиков: чуть ли не весь полк. Значит, так оно и есть: Указ Президиума Верховного Совета.
– Вот он!– закричал, увидев меня, Николай Шутт.
– Сергей, бегом!
– Ты шагу можешь прибавить?– кричал Корниенко.
– Ну, закачают вас сегодня, товарищ капитан!– успел сказать сзади Лавриненко, и я попал в крепкие руки друзей.
– Качать его!– ревел кто-то восторженно, и этот голос я слышал снова и снова, подлетая в воздух.
– Качать!… Качать!…
Лавриненко как в воду глядел, предупреждая меня: когда ребята опустили меня на землю, ноги почти не слушались и кружилась голова. Я не знал, что и сказать. Со всех сторон крик. Поздравления, объятия. Молодецкие шлепки по спине. Требование отметить событие.
– Да постойте вы…– еле выговорил я наконец.– Может, это еще не на самом деле.
– Бро-ось!– заревела вся братия.– Все же слыхали своими ушами. Не зажимай, не зажимай. Такое следует отметить!
Скоро пришли поздравительные телеграммы – от маршала И. С. Конева, от генералов Рязанова, Алексеева, Баранчука. Телеграммы читали всем полком.
– Гляди, Батя-то какой разразился!– сказал кто-то из офицеров, тронутый длинной, очень теплой телеграммой В. А. Алексеева.
– Вот, а ты не верил,– наступал на меня радостный Коля Шутт.– Ставь! С тебя причитается.
– Да дай ты ему очухаться,– сочувственно заступился за меня Дунаев.– Видишь же, человек в себя никак не придет.
– Тогда вот что, ребята,– сказал я, пряча в карман поздравительные телеграммы,– сегодня, пожалуй, устрою себе выходной. Вы уж без меня поработайте.
– Еще бы!– зашумели летчики.
– Конечно!
– Но вечером…– пригрозил Коля Шутт.– Вечером ты не отделаешься. Готовь настоящий праздник.
Первый угар радости миновал, ребята разошлись по машинам.
Очередной боевой день в полку начался.
Ребята улетели, я отдал распоряжение о приготовлениях к вечеру и ушел с аэродрома.
Мне хотелось побыть одному. В землянке было пусто и тихо, недописанное письмо белело на самодельном, грубо сколоченном столе. Дописать, сообщить сейчас? Или оборвать на том, что написано, отослать, а потом написать еще? Я долго вертел в руках наполовину исписанный листок бумаги. Нет, решил я наконец, сейчас у меня ничего не получится. Потом, может быть, вечером…
День тянулся долго. Голова горела. И только походив, успокоившись, я смог соображать последовательно и собранно. Все награды, какими удостоила меня Родина, я неизменно воспринимал как свой неоплатный долг на будущее. Смогу ли я когда-нибудь оплатить его? И вот сегодня новое свидетельство: мне, сыну простого русского крестьянина, оказана высокая честь. Как жаль, что отец не дожил до этого дня!… И перед моим мысленным взором вновь и вновь возникали суровое лицо деда Афанасия, наш маленький домик в Алма-Ате, где прошло мое детство, мать, брат, сестра…
Вечером я возвратился на аэродром с чувством глубокого душевного покоя. Человек живет и исполняет свои обязанности. Они скромны и велики, эти обязанности. Скромность их в обыденности повседневных человеческих поступков, величие – в исторической грандиозности задач, которые начертал в Октябрьские дни семнадцатого года ленинский гений и которые отстаиваем мы теперь в смертельной схватке с врагом.
ЗАРЯ ПОБЕДЫ
Ясско-Кишиневская операция до сих пор считается одной из самых блестящих побед Советской Армии. В результате окружения и разгрома вражеской группировки наши войска вывели из строя целую группу армий «Южная Украина». Из 25 немецко-фашистских дивизий, попавших под удар, 18 сдались в плен.
Июнь на южном крыле советских войск выдался относительно спокойным. Дивизии и полки пополнялись людьми и техникой. Летный состав был занят учебой: на тактических конференциях, на занятиях в классах изучался опыт только что отгремевших боев.
В последних числах июня стали заметны приготовления к новым крупным наступательным операциям. На штабных картах появились направления предполагаемых ударов: Львов и Сандомир. На фронт помимо пополнений уже действующих соединений стали прибывать из тыловых районов страны вновь сформированные дивизии.
Фронтовые соединения теперь не ощущали какого-либо недостатка в самолетах и были укомплектованы до полной штатной численности.
14 июля более полутора тысяч самолетов почти одновременно поднялись в воздух. Колонну бомбардировщиков вел прославленный мастер ударов по врагу генерал И. С. Полбин.
В результате удара авиации многие огневые точки в системе обороны противника были уничтожены. Наземные войска получили возможность развивать наступление.
Командир штурмового корпуса генерал В. Г. Рязанов все время находился на командном пункте генерала П. С. Рыбалко. Он хорошо видел колонны наших танков, двигавшиеся на запад, и засекал огневые точки противника, которые обстреливали боевые порядки наших войск. По радио генерал Рязанов вызывал с аэродромов группы штурмовиков и ставил им конкретные задачи.
Наступление развивалось стремительно.
Прикрывая танкистов, зорко несли боевое дежурство в воздухе истребительные эскадрильи. Как всегда, мастерски сражались с врагом дважды Герой Советского Союза полковник А. И. Покрышкин и капитан Г. А. Речкалов. Покрышкин в этих боях командовал 9-й гвардейской истребительной дивизией.
Высокое мужество проявил старший лейтенант М. П. Девятаев. В районе Горохова он был вынужден покинуть горящий самолет и выбросился с парашютом. Тяжело раненный советский летчик попал в плен. Фашисты подвергли его жесточайшим пыткам. Но Михаил Девятаев стойко вел себя на допросах и не выдал гитлеровцам военных секретов.
К 18 июля вражеская оборона была прорвана на обоих главных направлениях. Поддержанные авиацией, танковые соединения устремились вперед.
Интересны показания одного из пленных немецких офицеров. «Большой ущерб,– заявил он на допросе,– причиняла нам русская авиация. Бомбардировщики и штурмовики бомбят в течение всего дня непрерывными волнами. Зная, что русская авиация активно действует на центральном участке фронта, в Белоруссии, мы никак не могли предполагать, что против нас будет введено в действие такое большое количество самолетов. Бомбили нас беспрерывно, не давая возможности поднять головы…».
27 июля Львов был освобожден.
Пока шли бои за Львов, армии правого крыла фронта неудержимо развивали наступление. При поддержке авиации они форсировали Сан, затем с ходу преодолели Вислу и в районе Сандомира захватили плацдарм на западном берегу.
Бои на Сандомирском плацдарме во многом напоминали форсирование Днепра. Так же, как и там, авиация прикрыла переправы через реку, и наши наземные части вырвались на оперативный простор за Вислу.
На польской земле в руки советских войск попали фашистские засекреченные предприятия. В первую очередь авиационные заводы. Гитлеровцы весьма искусно замаскировали их в глухом лесу. Стремительность наступления наших войск помешала гитлеровцам взорвать их. В некоторых цехах тотчас были оборудованы ремонтные базы, и вскоре поврежденные в боях советские самолеты стали быстро возвращаться в строй.
Итак, солнце свободы взошло и над многострадальной землей Польши. Советские войска освобождали от фашистской нечисти район за районом.
Тяжелые поражения последних месяцев привели фашистский блок к окончательному крушению. С августа по сентябрь 1944 года в результате успешных действий Советской Армии из войны вышли гитлеровские сателлиты: Румыния, Финляндия. Гитлеровскому военному руководству стало ясно, что война безнадежно проиграна. Недолгая история фашистского рейха, которому гитлеровские идеологи предсказывали тысячелетнее процветание, близилась к своему логическому концу.
Мощные удары советских войск сотрясали фронт на всем его протяжении от стен героически сражавшегося Ленинграда до предгорий Карпат.
При проведении крупных операций наш полк, как обычно, вылетал на прикрытие штурмовиков или бомбардировщиков. Но иногда выдавались «незанятые» дни, и тогда наиболее опытные летчики отправлялись на так называемую свободную охоту.
Это очень точно и емко сказано – свободная охота. Кажется, впервые термин этот ввели в фронтовой лексикон летчиков истребители А. И. Покрышкина. Не «привязанные» ни к какому штурмовому или бомбардировочному полку, летчики А. И. Покрышкина действовали как свободные стрелки. Они поднимались в небо в поисках добычи.
Парой, ведущий и ведомый, перелетали на большой высоте линию фронта, затем на бреющем полете принимались шарить по тылам противника. Их добычей становились штабные самолеты, самолеты связи и т. п. Но могли напороться и на истребителей, причем на численное превосходство. Тут свободных стрелков выручали опыт, мужество, высокая техника воздушного боя. Потому-то на свободную охоту отправлялись только «старики». Молодые необстрелянные летчики могли сами легко стать добычей какого-нибудь немецкого аса. Разведка постоянно доносила, что противник бросает на фронт остатки своих резервов: сохранившиеся кадры из противовоздушной обороны Берлина. Видимо, гитлеровское командование рассудило, что наступающих надо задерживать подальше от столицы, когда же они подойдут к стенам города, то даже самые лучшие летчики окажутся бессильны.
В один из дней фронтового затишья я вылетел на свободную охоту со своим напарником Евгением Меншутиным. Старший лейтенант, Герой Советского Союза Евгений Меншутин был отличным летчиком.
– Чего вам не сидится?– ворчливо заметил замполит И. Ф. Кузьмичев.– Сам мотаешься, парню покоя не даешь.
– Да он сам вызвался,– ответил я.– Никто его не принуждал.
– Корниенко просился,– сказал Иван Федорович.– Уступил бы.
Теперь было понятно, почему вдруг замполит принялся выговаривать мне. Он обещал устроить свободную охоту Корниенко. Ребята охотно вылетали в свободный поиск. Представлялась редкая возможность не быть связанным обязательствами по отношению к штурмовикам, которых мы обычно прикрывали. На свободной охоте истребитель думает только о себе, он сам ищет и находит противника.
Я обещал замполиту:
– Если завтра будет тихий день, полетит Иван. А сегодня уж мы с Евгением настроились.
Отпускать на охоту сразу две пары было рискованно: из штаба дивизии мог в любую минуту поступить неожиданный приказ вылететь на задание.
Перед вылетом мы посмотрели на карте, где у немцев аэродромы. Если подобраться незамеченными, то можно подкараулить и бить на взлете или на посадке. Занятие не опасное, но очень продуктивное. Совсем как на охоте в скрадке: притаился и подкарауливай. Дождался – бей.
Стоял погожий, но облачный денек. Чтобы миновать линию фронта, мы забрались на большую высоту – примерно три с половиной тысячи метров. Для обозначения линии фронта у нас имелся приметный ориентир, небольшой массив леса.
Летим мы не в хвост один другому, а рядом, как и положено для поиска. Но на таком расстоянии, чтобы не теряться из виду. Лесной массив, замечаем сверху, уже под нами. Значит, еще немного – и можно будет переходить на бреющий полет.
– Сережа, впереди!– слышу вдруг в наушниках спокойный голос напарника.
Смотрю. Точно – непредвиденная встреча. Нам навстречу идут два «мессершмитта». Направляются на нашу сторону, видимо, тоже на свободную охоту. Ну вот: охотник на охотника. Или, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. В «засаде» у аэродрома не удалось укрыться ни нам, ни противнику. Встретились лоб в лоб. Теперь уж не до легкой добычи. Хорошо еще, что силы поровну: двое на двое.
Никаких распоряжений Евгению отдавать не нужно. Летаем мы с ним давно и в любых случаях действуем слаженно. Так и теперь: спокойно идем на сближение, посматривая, как поведут себя немцы.
«Мессершмитты» тоже заметили нас. Перестраиваются: ведомый заходит в хвост ведущему. Так, один за другим, они и вступят в бой.
– Похоже, пожарник топает,– вновь раздается в моих наушниках слегка насмешливый голос Меншутина.
Вглядываюсь в ведущий самолет вражеской пары. На самом деле, «мессершмитт» сильно выделяется ярким капотом, выкрашенным в красный цвет. Все ясно: ас со своей «визитной карточкой». В последнее время за яркие капоты наши летчики прозвали их «пожарниками»: красные, как пожарные машины. Ведомый аса, без всякой «визитной карточки», послушно идет в хвосте.
Быстро сближаемся на встречных курсах. Нужно выбирать маневр.
– Евгений,– говорю в микрофон,– держись теперь меня. Слышишь?
– Понял,– скупо, как обычно, отвечает Евгений, и я вижу: его самолет отворачивает с курса и скрывается за мной. Теперь он будет позади, как привязанный.
Для исполнения задуманного маневра отвесно пикирую в облака. Меншутин за мной. Это было уже много раз отработано и проверено. Немцы, думая, что мы уходим от боя, тоже пикируют. Однако найти нас в облаке невозможно, и они намереваются перехватить внизу, не дать уйти и прижаться к земле. Так и есть – «мессершмитты» подкарауливают под облаками. Ждут, когда мы покажемся. Но в этом-то и состоит наш расчет. В облаках, невидимые для противника, мы поворачиваем обратно и боевым разворотом выходим прямо для атаки сверху. Немцы оказываются под нами, в самой невыгодной для летчика позиции. Маневр, повторяю, старый, но немцы постоянно попадались на эту удочку.
Так получилось и сейчас. Пока немцы поняли свой просчет, было поздно. Снова приходится обратиться к шахматным правилам, которые во многом схожи с боевыми: выигрывает не тот, кто вообще сильнее, а тот, кто сильнее на данном участке, в момент удара. В создавшейся ситуации у «пожарника» и его напарника положение, конечно, незавидное.
В атаке обязанности ведущего и ведомого определены заранее: каждый занимается своим «подопечным».
Меншутин с первого же захода сбивает ведомого. У нашего Евгения, если он атакует из выгодной позиции, промахов обычно не бывает. Бьет, как коршун: наверняка. «Мессершмитт» свалился на крыло и, переворачиваясь, полетел на землю. Мне же «своего» никак не удается поджечь. То есть я очень точно, как на учении, захожу «пожарнику» в хвост и с близкого расстояния всаживаю длинную очередь. Самолет должен бы вспыхнуть, как факел, ведь я чуть не распорол ему баки. Но не горит! Разворачиваюсь и бросаю машину еще в одно пике. «Пожарник» ведет себя странно: он послушно, как обреченный, тянется передо мной, принимает в себя мои очереди, но не огрызается. Ранен пилот? Видимо, так и есть, потому что «мессершмитт» идет с сильным уклоном к земле.
Не маневр ли? Может, хитрит немец? Видит» что остался без помощника, один против двоих, и хочет сманеврировать к земле, выйти из боя и удрать к себе на аэродром.
На всякий случай караулю на некотором расстоянии. «Мессершмитт», не меняя уклона, все быстрее устремляется вниз. Вражеская машина уже во власти земного притяжения. Еще немного, какие-то метры, и падения не предотвратить. Теперь надо держаться подальше. При ударе о землю неминуемо взорвутся баки и взрыв может зацепить.
Так, со все возрастающим уклоном, ярко раскрашенный «мессершмитт» ударился в землю.
Делаю несколько кругов, опускаюсь. ниже. «Мессершмитт», к моему удивлению, не взорвался. От сильного удара летчик проломил фонарь и вылетел далеко в сторону. Он пролетел по воздуху, как мягкая тряпичная кукла, и остался лежать без движения. Мертвый? Видимо, я попал в него из пулемета.
Далеко в стороне догорает и уже начинает чадить куча почерневших обломков. Это сбитый Меншутиным самолет ведомого. Сам Евгений, пока я наблюдал за падающим «пожарником», по-ястребиному выписывал круги в вышине, карауля врага.
– Домой?– спросил он, когда я вызвал его на связь.
Внизу под нами зеленеет приметный массив леса: ориентир, обозначающий линию фронта. Подбитый самолет и выброшенный из кабины «мессершмитта» летчик находятся на нейтральной полосе. Значит, можно дать знать своим на аэродром, чтобы послали машину. Оно и в самом деле интересно: кто такой «пожарник»? Ведь некоторых из вражеских летчиков, наиболее известных, мы знали по фамилиям А сейчас, к концу войны, из опытных пилотов Германии остались в строю лишь единицы. Наверняка это какой-нибудь «знакомый».
Убитого доставили на аэродром в этот же день. Черноволосый смуглый парень. На груди три Железных креста.
– Документы какие есть?– спросил Кузьмичев.– Не смотрели еще?
По удостоверению, найденному в нагрудном кармане, убитый оказался итальянцем Джибелли.
– Ах, Джибелли!– обрадовался Дунаев, словно увидел хорошего знакомого.– Так ведь под Кишиневом еще могли встретиться! Ты смотри…
И он еще раз, будто заново, вгляделся в лицо вражеского летчика.
Дунаев был прав,– об известном итальянском асе Джибелли разведка предупреждала нас еще перед началом Ясско-Кишиневской операции. Джибелли к тому времени имел на своем счету более пятидесяти сбитых самолетов. Тогда он уцелел, пройдя через многие воздушные бои. И вот, совершенно случайная встреча в небе. Но так ли. уж она случайна? Джибелли вылетел на свободную охоту и сам нарвался на охотника.
Припоминая детали недавнего боя, я недоумевал -почему мне никак не удавалось поджечь истребитель Джибелли? Техники, осматривавшие подбитый «мессершмитт», обнаружили интересную новинку: мало того, что бак с горючим имел изнутри толстую прокладку из сырой резины – с этим мы уже встречались,– он к тому же был обтянут сверху лосевой кожей. Немцы из последних сил пытались уберечь свои лучшие летные кадры.
– Да-а… Такой бак только из противотанковой пушки разворотишь,– качал головой Дунаев.
О новинке быстро узнали все летчики. Появился даже приказ – стрелять в бою не по бакам с горючим, а по мотору или летчику.
– Ну, это бы и не приказывать,– сказал Николай Шутт.– У самих голова на плечах имеется.
– Это не для тебя,– сказал Меншутин.– Для молодых, которые еще немца не видали.
Вскоре после памятного боя мне пришло сразу два письма. Одно – от земляков моих, алма-атинцев, а другое – от Верховного Главнокомандующего. В своем письме земляки сообщали, что в республике проведен сбор средств на целую эскадрилью истребителей. В письме Верховного Главнокомандующего указывалось, что подаренная алма-атинцами эскадрилья включается в состав моего полка и ей присваивается название: «Комсомолец Казахстана».
– Да-а…– вздохнул Николай.– Мы уже из комсомольцев вышли. Шутка сказать – двадцать пять лет! Четвертушки века как не бывало. Старики мы с тобой, Серега, совсем старики!
Скоро к нам в полк прибыли новенькие самолеты. У каждого на фюзеляже красовалась крупная свежая надпись: «Комсомолец Казахстана».
– Ишь ты!– ребята любовались подаренными машинами.– Привет от земляков… Придется тебе, Серега, после войны отчитываться дома. «Куда, скажут, девались наши «коняги»? Скольких немцев посбивали?»
– А что, и в самом деле могут спросить!– согласился я.– Надо будет сразу же сказать командиру эскадрильи, чтобы завел какую-нибудь тетрадку.
– Да что тетрадку!– сказал Дунаев.– Пусть настоящий журнал ведет!… А кого командовать назначишь?
О том, кому доверить подаренную эскадрилью, я уже думал. Хотелось, чтобы был казахстанец, комсомолец и в то же время опытный парень, хороший летчик. Но Николай Шутт был прав, называя нас стариками. Все старожилы полка давно были коммунистами. А новую эскадрилью, повторяю, хотелось сформировать полностью комсомольско-молодежной. В конце концов, посоветовавшись со «стариками», я сделал окончательный выбор. Командовать эскадрильей стал опытный летчик комсомолец Василий Терещенко. Ребят он себе подобрал сам, молодых комсомольцев. Однако в скором времени эскадрилья «Комсомолец Казахстана» поднабралась фронтового опыта и стала одной из лучших в нашем полку.
После боев на Сандомирском плацдарме полку, которым я командовал, было присвоено наименование «Сандомирскии». Теперь он назывался так: 157 гвардейский истребительный авиационный Сандомирский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк». Вся боевая история полка в этом длинном названии!…
Незабываемы дни, когда советские войска освобождали польскую землю. Названия польских городов и местечек очень скоро стали привычны нашему слуху. Русские солдаты и офицеры сдружились с местными жителями и научились бойко объясняться с ними.
Мне много раз приходилось присутствовать при беседах, которые вели И. Ф. Кузьмичев и другие офицеры нашего полка с местными жителями. Поляки радостно встречали русских солдат и постоянно расспрашивали о жизни в России, о том, как теперь сложится жизнь на их родной земле. Летчики разъясняли, что Советская Армия освободила от врагов родную землю и теперь идет вызволять из-под фашистского ига и другие народы Европы.
– Это наш долг,– говорили летчики.– Интернациональный долг. Мы должны помогать соседям.
После некоторого затишья ожидались новые нелегкие бои. Каждый солдат, каждый офицер понимал, что освобождена пока лишь небольшая часть Польши. На пути наступающих войск лежала Чехословакия. Ей раньше многих выпала горькая доля познать ненавистное иго фашизма. Чехословацкий народ, мы знали, ждет не дождется освобождения. И наши солдаты были полны решимости не считаться ни с какими жертвами, только бы помочь чехословакам.
Начались жестокие бои. Наши войска преодолели Главный Карпатский хребет, овладели перевалами Дукля, Русским и другими и стали продвигаться в глубь Словакии. В этих боях отличился чехословацкий корпус Людвика Свободы. В одном из сражений, в сложной ситуации, генерал Свобода лично повел солдат в атаку. Он шел впереди под огнем, подвергаясь смертельной опасности.
И надо было видеть, как солдаты Свободы целовали родную землю, под развернутым знаменем, под грохот пушек давали они клятву патриотической верности.
5 мая 1945 года наши войска услышали голос Праги: «На Прагу наступают немцы со всех сторон. Пошлите самолеты, танки и оружие. Помогите, помогите, быстро помогите!»
В то время как наместник Гитлера в Праге Франк, выигрывая время, пытался вести переговоры с восставшими, командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Шернер отдал своим войскам приказ: «Восстание в Праге должно быть подавлено всеми средствами». «Страшно подумать,– писал затем в своей книге «От Бузулука до Праги» нынешний президент Чехословакии Л. Свобода,– что бы случилось с нами, если бы Советская Армия не разгромила гитлеровские войска и не принесла бы нам свободы!»
И наши войска не позволили залить улицы Праги кровью пражан. Много погибло там наших солдат: тысячи, десятки тысяч…
Очень радостно слышать, что чехословацкий народ всегда помнил и будет помнить о том, каких жертв стоил разгром гитлеровской Германии.
Передо мной сейчас строки, которые невозможно читать без волнения. Они написаны ветераном военно-воздушных сил Чехословакии полковником К. Борским. Вот что пишет наш старый боевой товарищ:
«…Мы ненавидели фашизм, готовы были с ним бороться, не щадя себя, но как и где бороться, чтобы быстрее освободить свою родину, не всем было ясно. Среди нас были и такие, которые считали, что следует пробираться в Англию, где находилось эмигрировавшее чехословацкое правительство, и, по слухам, там предполагалось формирование чехословацких частей. Но никому не было ясно, каким образом, когда и где эти части вступят в борьбу с немецко-фашистской армией и как они смогут изгнать фашистов из Чехословакии…
Мы высказали свои сомнения командиру батальона подполковнику Л. Свободе и заместителю командира батальона Б. Ломскому и получили от них немногословное, но убедительное разъяснение… В мире существует только одна армия, которая способна одолеть фашизм,– это Красная Армия. Поэтому у нас, чехов и словаков, один путь к освобождению нашей родины – вместе с Красной Армией громить врага до полного его уничтожения».
И лучшие сыны чехословацкого народа с оружием в руках влились в ряды нашей армии.
Вот короткий перечень боевой славы первых воинских формирований чехословаков. 1-я чехословацкая бригада получила боевое крещение еще на Воронежском фронте, затем сражалась за Киев. Весной 1944 года была создана авиационная эскадрилья, на базе которой в скором времени сформировался 1-й истребительный авиаполк. Это регулярные воинские части. А сколько патриотов боролось с немцами в партизанских отрядах и в подполье!
Осенью, когда началась знаменитая Карпатско-Дуклинская операция, главный удар по врагу наносил вместе с 38-й армией генерала К. С. Москаленко и 1-й чехословацкий корпус под командованием Л. Свободы. С воздуха наступающие части прикрывали летчики 1-го чехословацкого авиаполка.