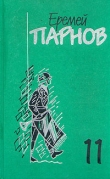Текст книги "Поиск-86: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Другаль
Соавторы: Игорь Халымбаджа,Сергей Георгиев,Герман Дробиз,Дмитрий Надеждин,Эрнст Бутин,Виталий Бугров,Феликс Сузин,Александр Чуманов,Евгений Филенко
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
– У меня, Виталий Викентьевич, небольшая просьба под ваше хорошее настроение, – Фролов оглянулся, подтолкнул вперед Антошку, спрятавшегося за его спиной. – Вы запретили этому мальчику бывать в машинном отделении…
– Я? – Капитан удивленно округлил глаза. – Ах да… Было дело, турнул я его. Там, понимаете ли… – пошевелил пальцами в воздухе, прищелкнул. – Всякие вращающиеся части. Опасно! Долго ли до беды?
– И все-таки разрешите ему бывать в машинном отделении, – попросил Фролов. – Мальчик будет осторожен, – нагнулся к Антошке. – Ты ведь будешь слушаться Екимыча-ики?
Антошка, испуганно глядя на капитана, кивнул.
– Хорошо, дозволяю, – махнул рукой капитан. И уточнил: – Только под вашу ответственность!
– Дуй к своему Екимычу! – Фролов небольно шлепнул Антошку пониже спины и, когда мальчик убежал, проговорил задумчиво: – Глядишь, со временем, может, и станет первым остяцким механиком. А нет, что ж… все на время забудет о своем горе.
– Еще из-за остячат у вас голова не болела, – усмехнулся капитан, но, увидев, как неприязненно поджались губы Фролова, перешел на деловой тон: – Разрешите полный вперед? Задержались мы что-то.
– Если пора – командуйте, – Фролов достал из нагрудного кармана массивные серебряные часы. Рассеянно глянул по привычке на надпись:
«Верному бойцу революции т. Фролову Н. Г. за храбрость. Начдив 51 Блюхер, октябрь 1919 г.»
Щелкнул крышкой, посмотрел на циферблат. – Долго они у вас прогуливаются! – поднял недовольный взгляд на выводного.
Боец начал оправдываться, что ждал-де, покуда одежда вот этого – кивнул на Ростовцева – высохнет, но Фролов не дослушал. Позвал:
– Матюхин! – И, когда тот подскочил, потребовал: – Впредь распорядок не нарушать.
Матюхин украдкой показал кулак выводному. Боец засуетился.
– А ну топайте в камеру, гидры!..
– Все на борт! – гаркнул капитан за корму. И направился не спеша к мостику.
Поднявшись в рубку, он постучал по переговорной трубе. Склонился к ней, буркнул вовсе уж не по-командирски:
– С богом, Екимыч… – И дернул ручку машинного телеграфа.
Екимыч, сухой, жилистый, сидел с Антошкой у верстака, попивая чай не чай, а так, настоянный на мяте кипяток, без сахара, без заварки. Когда из переговорной трубы раздался стук, старик сорвался с табурета, прижался ухом к раструбу.
– Ага, понял, – доложил капитану. Подмигнул мальчику поверх круглых, в железной оправе очков, так нравившихся Антошке, прямо-таки завораживающих его. – Ну, хлопчик, отчаливаем. Сиди и ни с места!
Погрозил темным пальцем с большим, выпуклым, как створка раковины, ногтем. И, приволакивая ноги, кинулся к машине.
Антошка зачарованно понаблюдал, как Екимыч перебрасывает какие-то тяжелые блестящие рычаги, крутит посверкивающие штурвальчики. Когда Екимыч нырнул в маленькую дверцу, что вела в кочегарку, Антошка развернулся к верстаку. Протянул руку, погладил любовно масленку, гаечные ключи, отвертки, пилки по металлу, разбросанные на обитой жестью столешнице, и опять рывком повернулся к машине – в ней что-то сыто и сильно чавкнуло, охнуло с шипением; в больших грязно-желтых трубах заворчало, заклекотало.
– Вот и кончилась наша эпопея, – проговорил Ростовцев, услышав над головой приглушенный толщей верхних помещений гудок. – Теперь каждый прожитый час будет приближать нас к расстрелу.
Он, горбясь, принялся как-то боком, рывками, вышагивать от запертой двери к окну и обратно.
– Как знать… – вяло отозвался развалившийся на койке Арчев. Сунул руку в карман шинели. – Пути господни, да и нас, грешных, неисповедимы.
– Какое там «неисповедимы»! – выкрикнул Ростовцев. – С нами все ясно. – Схватился за решетку окна, прижался к ней лбом. – Ждет нас с вами, любезнейший Евгений Дмитриевич, так называемая революционная кара.
Арчев, снисходительно глядевший ему в спину, выдернул из кармана руку, быстро посмотрел на зажатую в кулаке плоскую пачечку пилок по металлу…
6У подножия поросшей могучими соснами горы лошади остановились и, как ни колотили их ездоки, взбираться по крутому склону не насмеливались, чувствуя, видимо, что не хватит сил, – пятились, вздрагивали.
– У, паскуда бесконвойная! – Козырь ткнул кулаком в холку жеребца. Нехотя спешился. Обернулся к спутникам: – Придется, братва, ножками, – и начал взбираться в гору.
Урядник и Студент, скакавшие без седел, охлупкой, и от того измучившие и себя, и лошаденок, тяжело сползли на траву. Постанывая, потирая отшибленные зады, потащились за Козырем.
На вершине они, прячась за деревьями, перебежками приблизились к краю откоса. Залегли, глянули на Сатарово.
– Рыбу коптят гады, – Козырь шевельнул ноздрями, принюхиваясь. Поморщился. – Хавать охота, моченьки нету!
– Придется потерпеть до ночи, – рассудительно заметил Урядник. Степенно огладил бороду. – Сколь же здесь краснюков?.. И остячишек чтой-то больно густо.
Ханты, как только ушел пароход, как только Никишка-ики рассчитался по старым долгам, а молоденький новый начальник в красных штанах пообещал, что будет хорошо платить за мясо и рыбу, развили бурную, ошеломившую чоновцев деятельность. Часть мужиков, не мешкая, ушла берегом, чтобы через два-три часа появиться в обласах, полных рыбы. Женщины споро и без слов принялись эту рыбу разделывать, солить, вялить, коптить в избушке-коптильне. Мужики развернулись и опять уплыли ставить сети. Старики и подростки исчезли в тайге, но вскоре вернулись, гоня перед собой, к восторгу Латышева, оленье стадо. Еще одна группа хантов, самая малочисленная, скрывшаяся из Сатарово первой, вернулась только утром и привезла на нартах три туши сохатых. И лосей, и оленей, которых пригнали и забили старики, женщины тоже стали привычно и буднично солить, коптить, вялить. Впрочем, не все женщины. Несколько молодок тоже ушли из поселка и вернулись лишь на следующий день. И тоже с оленями, запряженными в нарты, на которых лежали туго набитые мешки кедровых орехов, стояли короба с крупной брусникой, с отборной клюквой. И этих оленей отдали Латышеву на убой. «Погодьте, сердешные, – взмолился дед Никифор. – Вдруг да не хватит товара расплатиться!» – «Ничо, Никишка-ики. Бери опять в долг. Потом расплатишься…»
– Однако, многовато чекистов, – задумчиво протянул Урядник и снова огладил бороду. – Шесть голов уже насчитал. А сколь их по избам или в том вон амбаре? Неведомо.
– Что это они тащат? – Студент сдернул пенсне, подышал на стеклышки, протер их полой куртки. Снова нацепил на нос, хмыкнул.
– Рыба это, слепень ты четырехглазый! – раздраженно буркнул Козырь. – Видишь, из коптильни кондыбают. Копченую тащат. А я бы сейчас и сырую слопал. Как остячишка. Не побрезговал бы, век воли не видать!
– Пируют господа чекисты, – ненавидяще процедил Урядник. – Вон как нажрались, даже покачивает от сытости…
А бойцы, и правда, пошатывались – слишком уж опьянял одуряющий, вызывающий спазмы в желудке, нежный, аппетитный запах копченых муксунов, которых несли в амбар, продев сквозь жабры рыбин тонкий шест и положив концы его на плечи. Шест прогибался, гирлянда муксунов неравномерно раскачивалась, чоновцы сбивались с шага.
– В лад шагай, Семен, – оглянувшись, попросил передний, совсем еще мальчишка. – Иль выдохся уже?
– Такой-то груз я с утра до вечера таскать согласный, – худой и хлипкий Семен оскорбленно запыхтел.
Пружинящими мелкими шажками вбежали они в амбар с распахнутыми настежь створками дверей, где вдоль стены громоздились штабеля потемневшей уже клепки. Остановились около высоких козел, меж которыми висели на сушилах густые ряды копченой рыбы. Присели, хакнули, выпрямились, уложили и свой шест концами на козлы.
Старик Никифор и Латышев, вгонявшие крышку в бочку, на округлом боку которой было написано углем: «Лось. Солонина», даже не взглянули на вошедших. Только Егорушка, стоявший важно рядом с дедом и державший деревянный молоток, посмотрел на чоновцев-рыбоносов с нескрываемым превосходством.
– Вот эдак надо, мил человек, ровнехонько, плавненько, без перекосу, – ворковал Никифор. Выхватил молоток из рук Егорушки, принялся мелко поколачивать по окружности крышки. – Полностью с тобой согласен, дорогой товарищ, что остяк – человек мирный и добрый. Не вояка! – продолжая, видимо, разговор, весело выкрикивал он. – А уж жалостливый, сострадательный к чужой беде – прямо диво… Обруч давай? – приказал вдруг подчеркнуто властно. – Беседа – беседой, дело – делом!
Латышев торопливо поднял с земли гибкое деревянное кольцо, протянул старику. Тот накинул его на горловину бочки и опять запостукивал молотком то по обручу, осаживая, то – решительней, размашистей – по крышке.
– У остяка первая заповедь: помоги! – Голос деда Никифора вновь стал ласковым, журчащим. – Помочь ближнему – это для него закон незыблемый. Последние портки, последнюю рыбешку, последнюю пылинку мучицы страждущему отдаст, даже ежели сам опосля того одной корой питаться будет. Оченно душевный народ. И доверчивый – до невозможности.
Латышев качнул бочку, поставил в наклон. Подскочили бойцы-рыбоносы, бережно положили ее, откатили в угол к полудюжине других.
– Доброта – дело хорошее, – охлопывая ладони, отрывисто и с явным неодобрением заметил Латышев. – Но не всегда… – Подошел к следующей бочке с торчащей из нее крышкой. – Как, к примеру, остяки будут классовую борьбу вести, если у них такие… – сдвинул к переносице белые брови, задумался, подбирая слово, – такие… непротивленские взгляды? – Выдернул крышку, протер внутреннюю сторону солью, пригоршней захватив ее с холстинки на земле. – Ладно… До классового самосознания они не доросли, допускаю. – Начал пристраивать крышку. – Но как же остяки при таком… мировоззрении с Ермаком воевали?
– Оне-то? – Старик лукаво усмехнулся, поперебирал пальцами бороденку. – А оне и не воевали. Татары сибирские да вогулы, те, может, и бедовые были, а остяки – не-е-е… – Принялся помогать Латышеву вгонять крышку. – Когда Ермак-то Тимофеич Кашлык, или по-другому Искер, столицу Кучумову то исть, брал, остяки после первых же выстрелов утекли… Егорка, киянку!
– Как же так? – удивился Семен. – Ведь Ермак к ним пришел навроде поработителя. Неужто остяки ему не сопротивлялись?
– Ну ты и ляпнул! – возмутился напарник. – Чего ж им за Кучума, за угнетателя-то, воевать?!
Они сидели рядышком на бочке и, бережно вытянув из общего кисета по щепотке табачной пыли, вожделенно свертывали самокрутки, но от вскрика молодого чоновца табачные крохи с его бумажки сдуло, и он чуть не взвыл от огорчения.
– Верно, внучек, верно, милый, – старик принял от внука деревянный молоток, начал остукивать крышку бочки, потом обруч. – Бьет Ермак експлуататора Кучума, вот и ладно, вот и довольны остяки… Однако тута вот, в Сатарове, дали оне казакам бой. Энтот вот пупырь – самое святое место ихнее было, – показал рукой в дверь на гору с белой стеной обрыва, в промоинах-оврагах которого залегли уже вечерние тени. – По-остяцки такое место называется «эвыт». Самые главные ихние боги тута жили. Оттого и защищали остяки горушку. Кто ж свою святыню – хучь русский, хучь татарин, хучь остяк – просто так, без бою, отдаст?
– Видел я те остяцкие святыни, – пренебрежительно фыркнул Семен. – У них кругом боги: озеро – бог, большой камень – бог, дерево, повыше да поздоровше, – бог…
– Святыни, боги! – раздраженно перебил молоденький напарник. – Какая разница: камень ли, разрисованная ли доска, которую чтут христиане? Все едино – религия. – Говорил он желчно, с завистью поглядывая на Семена, который с удовольствием курил. – А религия – это опиум для народа. И дураку ясно!
– Опиум? Это верно, – согласился Никифор. – И насчет идолов остяцких согласен. – Он отошел, полюбовался на бочку. – Однако водил меня как-то, давно еще, дружок мой Ефрем Сатаров на малый имынг тахи, на малое святое место, значит, не на главное… Так вот там я видел божков человекоподобных: деревянных, железных, медных… – снова приблизился к бочке, постучал легонько молотком по обручу. – А одна фигурка была даже серебряная. Навроде богини-воительницы… Оттаскивай, ребятушки!
И просеменил к следующей, последней, незакупоренной бочке.
– Серебряная – это хорошо, – заулыбался Семен. – Серебро можно в фонд голодающих сдать… На, дерни пару раз, – протянул окурок приятелю. – Все не так в животе сосать будет.
Молодой боец схватил то, что осталось от самокрутки, жадно затянулся – раз, другой, – огонек цигарки обжег пальцы.
– Лучше, если б та фигурка золотая была, – растирая подошвой упавшие искры, довольный, что удалось курнуть, заметил он. – Больше еды купить можно.
– А у остяков и золотые есть, – встрял вдруг Егорушка. – Деда, расскажи им про золотую, – попросил он старика. – Про золотую матушку остяцкую расскажи. Про Сорни Най Ангки.
– Да ты уж сто раз слышал эти байки про Золотую Бабу, – притворно сердито отмахнулся Никифор, но исподтишка с надеждой взглянул на чоновцев: может, попросят рассказать?
– Золотая Баба? – переспросил Латышев. Покрутил в руках обруч, сжал, проверяя упругость. – Что-то я слышал о ней. Читал что-то вроде.
– Ну-ка, ну-ка, – оживился Никифор, – что читал? Может, чего нового скажешь?..
– Да я еще этаким вот читал, – Латышев распрямил ладонь на уровне пояса. – Не помню толком, – но, увидев лицо старика с любопытствующими глазами, почесал затылок, сказал неуверенно, с усмешечкой: – Было, значит, написано, в «Ниве», кажется, что есть в здешних краях, в Югре, одним словом, золотая скульптура какой-то женщины. Один знаменитый историк, забыл вот только его фамилию, считал, что скульптуру эту вывезли из Киева, когда Русь крестить начали.
– Писал о том Карамзин Николай Михайлович, – внушительно пояснил дед Никифор и осуждающе поджал губы: как-де можно забыть фамилию такого человека?
– Ага, он, кажется, – согласился равнодушно Латышев, насаживая обруч на бочку. – Ну вот. Написано было еще, что впервые о той золотой богине упоминается в летописи, когда какой-то архиерей помер. Что жил, мол, тот архиерей среди нехристей, которые молились Золотой Бабе.
– Новгородская Софийская летопись о кончине в одна тыща триста девяносто восьмом годе Стефания Пермского, – уточнил Никифор.
– Во! – удивился Латышев. – Вы лучше меня все это знаете.
– Может, и не все, – польщенный дед заулыбался. – Чего еще читал?
– Еще? – Латышев, припоминая, наморщил лоб. – Поп какой-то о ней говорил. То ли во времена Ивана Грозного, то ли до него.
– Митрополит Симон в тыща пятьсот десятом годе, – с удовольствием объяснил Никифор. – Попрекал пермяков, что те поклоняются Золотой Бабе. – И уже почти насмешливо спросил: – Чего еще помнишь?
– Ничего больше не помню! Кроме того, что иностранцы какие-то о ней писали.
– Иноземцы? – довольный Никифор аж просиял. – Иноземцы писали, а как же! О Золотой Бабе упоминали, – он раскрыл ладонь, принялся перечислять, сгибая пальцы, – поляк Меховский, германец Герберштейн, литовец Вид, англичанин Адамс, француз Тевэ… Итальянцы Барберини да Гваньини, – старик принялся загибать пальцы на другой руке. – Окромя них Мюнцер, Дженкинсон, – вскинул кулачки, – Бельфорэ, Меркатор и прочие. И это в одном лишь шестнадцатом веке.
Резко опустил руки, поглядел победно на чоновцев, которые подошли вплотную, на Латышева и даже на Егорушку.
– Серьезное дело, – удивился молодой боец. – Это ты все в своих книгах вычитал?
– Я, парень, сызмальства книгочей. Наперед всего уважаю сочинения исторические. А к Золотой Бабе у меня особливый интерес.
– Иностранцы-то, выходит, больше наших об ней вызнали?
– Не больно-то, – с сожалением возразил Никифор. – Шибко уж непохоже описывали ее чужеземцы. Да и на картах своих рисовали по-разному. Кто – нагишом, кто – в одежке, кто – быдто сидит она, кто – быдто стоит, кто – с дитем на руках, кто – с двумя. Ежели интересуетесь, я вам покажу книжку, где все это расписано и нарисовано. – Помолчал, глядя сквозь распахнутую дверь на улицу, где уже густели сумерки. – Герберштейн, так тот и вовсе пишет, что она старуха, у которой в утробе виден парнишка, а в нем – еще один. Сын, значит, и внук.
– Ха! – поразился Семен. – Как это он в статуе ребят разглядел?
– А он энту Золотую Бабу и не видел никогда, – нехотя признался Никифор. – По рассказам ее описал… Да и протчие не видели.
– Значит, все это брехня! – твердо решил Семен. – Брехня, обман и надувательство. Бабушкины сказки!
– Ну почему бабушкины сказки? – неуверенно возразил его напарник. – Скорей уж сказанья, легенды. – Посмотрел многозначительно на старика, уверенный, что поразил его образованностью. – А в каждом сказанье есть доля правды…
– Брехня! – еще решительней заявил Семен.
– Может, и так, – вяло согласился старик, посматривая на Латышева, который, не обращая внимания на спор, старательно постукивал молотком по крышке бочки. – Только знайте: были у остяков золотые кумиры. Были! – Никифор притопнул в сердцах. – Одного идола – Ас-ики, рыбьего бога то исть, видел шибко ученый человек Григорий Новицкий. Он в позапрошлом веке помогал Тобольскому и всея Сибири митрополиту Филофею крестить местных людишек… – Старик оживился, голос его стал звонким. – Энтот самый Новицкий так описывал Ас-ики: бысть же сей бог рыб доска некая… – Никифор полузакрыл глаза, загундосил нараспев, по-церковному. – Нос – труба жестяна, очесы стеклянны, а грудь – золотая!
Егорушка при этих словах так радостно взвизгнул, что Латышев, покосившись на мальчика, покрутил, улыбнувшись, головой.
– Вот видишь: грудь золотая! – серьезно заметил Семену напарник.
– Ну и что?! – упрямился, не сдавался Семен. – Врал ваш Новицкий. А если и не врал, то за два столетия от этого рыбьего бога не только золотой груди, носа жестяного не осталось.
– Цел Ас-ики, – внушительно заверил Никифор. – Мой дружок Ефрем Сатаров сказывал, что часто с ним видится.
– Врет твой Ефрем, – буркнул Семен.
– Ефрем Сатар врет? – ахнул Никифор и даже отшатнулся, замахал возмущенно ладошкой. – Окстись, милый, опомнись. Ефрем за всю жизнь даже вот на столько не слукавил, не схитрил, – сжал пальцы в щепотку, точно поддел что-то ничтожно малое.
Егорушка рассмеялся, показал на бойца пальцем.
– Ефрем-ики врет?! Ну и сказанули вы, дяденька…
– Ах, чтоб тебя, варначонка! – Никифор затопал сапогами, замахнулся на внука, тот отскочил к двери. – Рази ж можно над старшим смеяться, да еще перстом в него тыкать?! – И, повернувшись к Семену, смущенно, но и чуть снисходительно улыбнулся: – Однако ты, милаша, и впрямь несусветное брякнул.
– Значит, говоришь, цел идол с золотой грудью? – вдруг громко спросил Латышев. – Интере-есно! – Бросил молоток на крышку бочки. – Баста на сегодня, шабаш! Перекур.
– А может, у него грудь вовсе и не золотая? – с вызовом засомневался Семен. – Может, медная или бронзовая?
– Э, нет, разлюбезный Фома неверующий, – с ласковой ехидцей пропел старик. – Остяки золото от меди завсегда отличат. – Он обошел бочку по кругу, подергивая обруч, постукивая по крышке. – Тот же Новицкий писал, что рядом с Ас-ики был у остяков другой бог – Гусь Медный, всякой по воде плавающей птицы покровитель. Оченно различают оне медь от золота… Хорошо сработал, комендант, славно, – сухо похвалил Никифор Латышева и, снова сменив интонацию, продолжил: – Золото для остяка особое значенье имеет. Оне при договорах аль когда клятву дают, завсегда с золота воду пьют в знак нерушимости слова.
– Ну ладно, допускаю, какие-нибудь золоченые тарелки, из которых они воду пили, может, и были, – снисходительно согласился Семен, слюнявя цигарку. – Может, и рыбий бог с золотой грудью был, но чтоб фигура из золота?.. Не-е, не верю.
– Ах ты, господи! – Никифор хлопнул себя по бедрам. – Хошь, я тебе расскажу быль истинную про золотого остяцкого кумира? Не про Ас-ики, про другого. Хошь?
– Отчего не послушать, – насмешливо согласился Семен. – Рассказывай, пока курим. Можно побалагурить минут пяток, товарищ командир?
Латышев, сгорбившись над зажигалкой, пощелкивая ее колесиком, пожал неопределенно плечами.
– Расскажи, деда, расскажи, – обрадовался Егорушка. Он, заложив руки за спину, прислонился к косяку двери, глядя туда, где в белом лунном свете темнели конусы чумов на берегу, переливались блики на почерневшей и, казалось, ставшей намного шире реке, скользили тенями ханты, сбивающиеся в кучки вокруг бледно-желтых, подмигивающих костерков.
– Ну ин ладно, так уж и быть, – произнес Никифор с видом человека, который согласился рассказывать только после настойчивых уговоров. И начал, не отрывая глаз от зажигалки, колесиком которой все чиркал и чиркал Латышев: – Дело было еще при Ермаке Тимофеиче. Оченно оголодали казаки после зимовки в столице Кучумовой. Надо было припас пополнять, иначе – смертушка неминучая. Вот и отправилась ранней весной ватага вниз по Иртышу под водительством лихого есаула Брязги. С великими боями одолев татарские улусы на Аремзянке, дошли оне до владений князька Нимняна, Демьяна по-русски. Батюшки, что за диво?! – Голос старика, журчавший плавно, ровненько, взвился в изумленном вскрике. – Вот те раз! Обычно мирные, остяки тут вдруг воспротивились, бой дали. Не подпущают к крепости, что вот на этакой же горушке, как наша. – Никифор глянул в дверь, и бойцы тоже невольно посмотрели туда. – Трое ден стояли казаки у Демьянового городка и не могли взять его…
Егорушка тоже рассматривал обрывистую гору. Глаза его расширились – показалось ему, что вместо высвеченных луной стволов сосен увидел он частокол остяцкой крепости.
– Кажный штурм отбивали инородцы, – продолжал дед Никифор. – Да с такой удалью, будто заранее знали, что нипочем их не одолеть… – Достал из кармана лоскут, высморкался в него. – Стали казаки совет держать: как быть дальше? И отступать нельзя: конфузно, вся Кучумова орда голову поднимет, непокорствовать начнет. И взять Демьяново городище не могут. Вот незадача… – Он помолчал, глядя на то вспыхивающие, то затухающие огоньки самокруток, и понизил голос почти до шепота: – А надо сказать вам, что был в обозе казаков чуваш один. Его Кучум когда-то из Казани привез. Этот чуваш мало-мальски по-русски лопотал, ну и служил у наших навроде толмача. Ране-то, до прихода Ермака, чуваш энтот часто бывал у остяков, язык ихний выучил. Ну, те и доверяли ему.
Егорушка, зная, что будет дальше, прикрыл глаза, оставив лишь узенькую щель, сквозь которую звездчато переливались костры хантов.
– Энтот чуваш и поведал казакам, что в Демьянском городке есть золотой идол. Идол тот сидит в золотой же чаше. В нее остяки воду наливают, а потом пьют. Оттого и страху не ведают. Верят оне тому идолу, сказывал чуваш, страсть как. Пока он-де с ними, остякам черт не брат, царь не сват… Напросился чуваш в городок. – Дед Никифор вздохнул и повел рассказ бойкой скороговоркой: – Доложусь, сказал, тамошним защитникам, что переметнулся, дескать, к ним. Разузнаю, говорит, что и как. Долго ли, мол, обороняться будут? Может, сказал, и идола того стащу, ежели не шибко чижолый. Остяки-то без свово кумира, что дети малые. Переполошатся, сдадутся…
Егорушка улыбнулся, представив, как приободрились казаки.
– Ну, стал быть, сделал чуваш, как обещался: проник в крепость, – доложил Никифор. – И золотого ихнего истукана видел. Остяки как раз советовались с ним. Поставили кумира свово на стол, серу с салом вокруг него возожгли. И вопрошают через шамана: обороняться или сдаваться? И через шамана же тот им ответствовал: будя драться, мужики! Побьют вас русские, право слово – побьют! Чуваш-то поддакивает, а сам все на ус мотает. К золотому истукану ему, понятно, даже приблизиться не дали – куды там! Пуще глаза берегли святыню иноплеменцы. Но и то, что выведал хитрован, – шибко добрая весть. Под утро вернулся он тайком к казакам, рассказал про все, что видел-слышал…
Латышев неодобрительно хмыкнул, Семен с напарником переглянулись.
– Как только пошли наши на приступ, разбежались остяки, – заканчивая, забубнил без выражения Никифор. – Растеклись по своим стойбищам, в тайгу запрятались. Ну и золотого бога свово, знамо дело, утащили… Вот такая история.
– Да-а, занятная байка, – усмехнулся Семен. – И что же, казаки не искали больше того золотого истукана?
– Как не искали? – возмутился дед. – Повсюду искали. Ведь ежели б оне тем идолом завладели, как бы их остяки почитали, сам подумай! Провианту, ясаку натащили бы – страх! Однако не нашли, пропал идол, – Никифор меленько засмеялся. – Забыли даже, что провизию заготовлять надо, принялись рыскать по тем местам, где наипервейшие инородческие капища. И в Рачево городище ходили, и в Цингалинские юрты, и в Нарымский городок, и здеся побывали. Сказывал ведь я про тутошний бой. Не забыл?
Семен, глубоко затянувшись, кивнул.
– Ну ладно, побалакали, и хватит, – Латышев бросил под ноги окурок, растер красную точечку. – Савостин, сменишь часового!
Молоденький чоновец тоже торопливо затушил окурок. Вытянулся, одернул гимнастерку.
– Я – к остякам. – Латышев поднялся. – Вы, Никифор Савельевич, и ты, Семен, завтра, как рассветет, будете упаковывать это, – повел рукой в сторону еле видимых в полумраке жердей с гирляндами рыбы.
И вразвалку вышел из темного амбара.
– Надо бы людям Ермака поласковей, – задумчиво сказал Савостин. – По-мирному надо было. Зачем на людей страх нагонять?
– Это ты про остяков, что ль? – повернулся к нему Никифор. – Не, оне Ермака не боялись. Оне за золотого идола свово боялись. Его, стал быть, защищали. А так не враждовали с нашими, не-е… Да вот, к примеру, – тихо засмеялся, покрутил не то с осуждением, не то с восхищением головой. – Пелымские шаманы шибко не хотели, чтоб Ермак Тимофеич на Русь уходил. Ну и наволховали ему, быдто нет евонной дружине пути назад, быдто погибнут все, ежели за Урал пойдут. Хитрили, чтоб остался, значит, Ермак, чтоб от Кучума оборонял их.
– Ну уж! – возмутился Семен. – Станет Ермак шаманам верить!
– Поверил – не поверил, не знаю, – Никифор с усмешечкой взглянул на него, – однако не пошел ведь назад к Строгановым, под Кашлык возвернулся. Шаманы, оне ведь тоже не дураки. Хошь чего внушить могут, особенно ежели в глаза, не моргнув, уставятся…
– Во, дяденьки, смена идет! – Егорушка показал пальцем на бойца в буденовке и с винтовкой.
Чоновцы, выйдя из полутьмы амбара наружу, в белизну лунного света, стали поджидать приближающегося товарища. Никифор увидел скептическую ухмылку Семена.
– И про шаманов не веришь? – сдернув с гвоздя массивный замок, огорчился старик. – Экой ты, право, скушный, без удивления в душе!
Закрыл тяжелые, скрипучие двери.
– Принимай пост, Савостин, – пожилой караульный стянул с плеча винтовку, протянул ее молоденькому чоновцу.
– Пост принял! – Савостин, взяв винтовку, выпятил грудь.
– Посматривай за коптильней, – напомнил пожилой. – Не заперта. Захаживай туда, гляди, чтоб чего не загорелось… – и приобнял Семена за плечи. – Айда, сосед, спать…
– Угомонятся они, твари, когда-нибудь или нет! – Козырь, зло посматривая на чоновцев, на старика с мальчишкой, которые топтались около амбара, сморщился от отвращения, выплюнул труху порченого, еще, чего доброго, и червивого кедрового орешка.
Опавшие шишки собрал где-то хозяйственный, обстоятельный Урядник. Подполз к Козырю, высыпал из фуражки шишки, буркнул: «Щелкай – и ни с места! Считай, запоминай, кто в какой избе спит… А мы со Студентом лошадок на водопой сводим. Жалко лошадок. Ежели что, то стреножим их тама, попастись пустим». – «Э-э, – переполошился Козырь. – Не вляпайтесь, не засыпьтесь». – «Не боись. Мы далече отведем…»
И Козырь остался один. Пощелкивая орешки, прислушиваясь, не отрывал глаз от поселка.
За избами, за амбаром стали густеть тени, но на открытом месте все было видно, как днем, в безжизненном ярком свете круглой луны.
Из амбара вышел кто-то тоненький, в гимнастерке, в красных галифе и направился не спеша к берегу. Ханты сбились кучками вокруг костров; чекисты, помогавшие разделывать, солить мясо и рыбу, потянулись к просторной избе наискосок от дома с красным флагом, тоже сгрудились – у котла, вмазанного в глиняную летнюю печку. Лишь часовой, за которым Козырь следил особенно внимательно, двинулся к амбару. В дверях показались дед с внуком и те двое, что тащили из коптильни рыбу. Один из них принял от подошедшего винтовку. «Так, охранник один, – отметил Козырь. – А тот, красноштанный, выходит, командир, – и презрительно выпятил губы. – Желторотик какой-то…» Перевел взгляд на чоновцев у котла.
– Ну, суки, разожрались… Спать, что ли, не хотят?
– Чего бубнишь? – прошипело сзади.
Козырь испуганно оглянулся и облегченно перевел дух – свои!
Студент, посверкивая стеклышками пенсне, рухнул справа. Слева не торопясь лег Урядник.
– Да вон, фраера на нары не торопятся, – Козырь мотнул головой в сторону поселка. – Подохнешь, пока они закемарят.
– Подождем, – степенно решил Урядник. – Поспешишь – получишь шиш. Небось, долго нас маять не будут.
Ждали действительно недолго. Чекисты вскоре потянулись в избу. Высветились изнутри окна, проплыла по стеклам тени, и свет погас. Лишь в крайнем слева оконце – там была, наверно, дежурка – остались отблески слабого огонька. Ушли в чумы и ханты. Часовой, лениво вышагивавший от амбара к коптильне и обратно, подошел к котлу, заглянул внутрь.
– Ну, с богом, православные! – Урядник встал на колени, истово, широко перекрестился и отполз от обрыва.
За первой же сосной проворно вскочил на ноги.
– Ты, – ткнул в грудь Студента, – к деду за ключами. Получишь ключи, трахнешь, чтобы не шумел, – голос был властный, резкий. – Я – на караульщика. Ты, – развернулся к Козырю, – на крыльцо к краснюкам. В случае чего лупи в гущу. На, – отцепил от ремня гранату, сунул ему в руку.
Бегом бросились вниз, оскальзываясь на хвое, хватаясь за стволы деревьев, падая, поднимаясь и снова падая.
В поселочке разделились: Урядник нырнул в тень от амбара, Козырь и Студент метнулись за коптильню, приткнувшуюся к самому скосу горы, выглянули. Часовой удалялся к невысокому ельнику рядом с чумами, где изредка, не враз, позванивали оленьи колокольчики и ботала.
Студент длинными скачками бросился к крыльцу дома, что с красным флагом. Козырь, прижимая к бедру винтовку, кинулся было к избе чекистов, но, заметив, что Урядник не смотрит на него, а наблюдает из-за угла амбара за часовым, вдруг резко развернулся, юркнул в коптильню. Забросил винтовку за спину, вынул нож и торопливо сорвал с жерди ближнюю рыбину. Вцепился в нее зубами, заурчал от удовольствия…
А Студент взметнулся на крыльцо, влетел в сенцы. На цыпочках прокрался к двери, ведущей внутрь дома, распахнул ее. Прыгнул через порог, присел, поводя из стороны в сторону револьвером.
– Кто здеся? – старик Никифор приподнял голову от подушки. Всмотрелся в худого, угловатого чужака с длинными, растрепанными волосами, с поблескивающими стекляшками на глазах и охнул. – Господи, спасе пресветлый, опять вы!