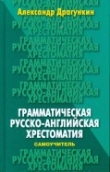Текст книги "Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе"
Автор книги: Семен Виленский
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Тут Колька хоть и был занят разговором, а услышал, что рядом станция. Сперва услышал ее, а потом выскочил на чистый луг, и стало видно: в глаза сверкнули лампочки вдоль линии, и можно было разглядеть, что на запасных путях стоит эшелон. Там горят прожекторы, слышны ржание и грохот повозок; приехала еще одна воинская часть.
Колька приблизился, но лишь настолько, чтобы в случае чего можно было спрятаться. За кустом тележку поставил.
«Приехали, – сказал Сашке, – мы тут с тобой недавно были. Мечтали вместе уехать. Теперь мы будем с тобой ждать поезда. Я немного устал. Да и ты, наверное, устал, правда? Ты побудь здесь, а я на разведку схожу. Только не думай, что я тебя бросаю. Я вернусь, только посмотрю, что там на станции делается…»
Колька оставил Сашку за кустом, а сам продвинулся поближе к огням и к линии.
Никого, кроме военных, он не увидел. Военные же были заняты своим делом: суетились, кричали, грохотали повозками, которые спускали по наклонным доскам из вагона.
Колька прикинул: эшелон ему не помеха. Как поезд пойдет, он закроет собой братьев от солдат, и никто их не увидит.
Он вернулся к Сашке. Сказал ему: «Видишь, я пришел. Там сейчас солдаты, они приехали твоего чечена убивать, который кукурузы в тебя натолкал. Но, когда поезд придет, нас не видно будет. Ты ведь знаешь, я не такой башковитый, и мне пришлось долго соображать. Но это я сам придумал. Теперь–то я понимаю, как тебе было нелегко ворочать мозгой. Но как же ты не додул чеченов–то на коне обдурить? Может, ты, я сейчас подумал, сам к ним вышел… Поверил, что они тебе ничего не сделают, как не убили они Регину Петровну, хотя наставляли на нее ружье?»
Колька посмотрел из–за куста на станцию и задумчиво добавил: «Наверное, утро скоро. Если бы поезд пришел до света… При свете нам тяжельше с тобой будет».
Тут и поезд вынырнул, распластался вдоль дальней сопки, как Сашкин пропавший ремешок. А паровоз у него – пряжка с двумя сверкающими камнями.
Отчего ж Колька опять о том серебряном ремешке вспомнил? Не давал пропавший ремешок покоя. Ведь если посудить, это последнее, что видел он, когда они расстались. Сашка бросился в заросли, лишь ремешок сверкнул в сумерках…
А вдруг ремешок, старинный чеченский, и выдал Сашку с головой?
А вдруг он стал причиной казни?
Но ведь еще по дороге в колонию не Сашка, а Колька был подвязан тем ремешком! Это случай с пуговицей всё изменил…
Поезд приближался. Уже доносился отраженный от сопок глухой перестук вагонов.
Колька спохватился и вместе с тележкой брата поскакал по лугу. Подоспели они с Сашкой прямо в тот момент, когда состав резко затормозил и встал, а под колесами зашипело.
Колька оставил тележку в лопухах под насыпью, а сам побежал вдоль вагонов. Нагибался, искал собачник.
У первого вагона собачника не было и у второго, лишь у третьего обнаружил он железный ящик.
Пощупал, крышку открыл, даже руку засунул: нет ли там каких пассажиров?
Потом сбегал, подвез Сашку к вагону, веревку развязал. Ватник постелил на дно ящика. Стал Сашку подтягивать под мышки и всё молился, чтобы поезд не отправляли. Сашка был твердый, не гнулся, но показался легче, чем раньше.
Колька, запыхавшись, перевалил его в ящик, лицом вверх, а сверху и сбоку мешками обложил. Чтобы холодно не было. Всё–таки кругом железо!
Тележку с веревкой он в траву отпихнул. Всё, отъездились.
Но поезд продолжал стоять, и Колька опять придвинулся к ящику, сел перед ним на корточки, сказал Сашке через дырку:
– Вот, уезжаешь. Ты ведь хотел поехать к горам… А я пока побуду здесь. Я бы поехал вместе с тобой, но Регина Петровна с мужичками одна осталась. Не бойся, Сашка, я о тебе буду думать.
Колька постучал кулаком по ящику, чтобы Сашке не было страшно одному.
Поезд дернулся, клацкнул буферами и поехал быстрей и быстрей в сторону невидимых отсюда гор. И Сашка поехал. А Колька один у черной насыпи остался. <…>
Не помнил, как добрался он до Сунжи. Приник к ней, желтенькой, плосконькой речонке, лежал, поднимая и опуская в воду голову.
Долго–долго так лежал, пока не начало проясняться вокруг. И тогда он удивился: утро. Солнышко светит. Птицы чирикают. Вода шумит. Из ада – да прямо в рай. Только в колонию скорей надо, там Регина Петровна его ждет. Пока сюда огонь не дошел, ее вызволять скорей требуется. А он себе приятную купань устроил!
Вздохнул Колька, пошел, не стал на себе одежду выжимать. Само высохнет. Но в колонию через ворота не пошел, а в собственный лаз полез, привычней так да и безопасней.
Ничего не изменилось с тех нор, как ходил тут с Сашкой. Только посреди двора увидел он разбитую военную повозку, лежащую на боку, рядом холмик. В холмике дощечка и надпись химическими чернилами:
Петр Анисимович Мешков. 17.10.44 г.
Колька в фанерку уткнулся. Дважды по буквам прочел, пока сообразил: да ведь это директор! Его могила–то! Если бы написали Портфельчик, скорей бы дошло. Вот, значит, как обернулось. Убили, значит. И Регину Петровну убить могут…
Он встал посреди двора и сильно, насколько мочи хватало, крикнул: «Ре–ги–на Пет–ро–в-на!»
Ему ответило только эхо.
Он побежал по всем этажам, по всем помещениям, спотыкаясь о разбросанные вещи и не замечая их. Он бежал и повторял в отчаянии: «Регина Петровна… Регина Петровна… Реги…»
Вдруг осекся. Встал как вкопанный. Понял: ее тут нет.
Ее тут вообще не было.
Стало тоскливо. Стало одиноко. Как в западне, в которую сам залез. Бросился он за пределы двора, но вернулся, подумал, что опять через огонь пройти уже не сможет. Сил не хватит. Может, с ней, с Региной Петровной, да с мужичками он бы прошел… Ради них прошел, чтобы их спасти. А для себя у него сил нет.
Он прилег в уголке, в доме, на полу, ничего под себя не подстелив, хотя рядом валялся матрац и подушка тоже валялась. Свернулся в клубочек и впал в забытье.
Временами он приходил в себя, и тогда он звал Сашку и звал Регину Петровну… Больше у него никого в жизни не было, чтобы позвать.
Ему представлялось, что они рядом, но не слышат, он кричал от отчаяния, а потом вставал на четвереньки и скулил как щенок.
Ему казалось, что он спит, долго спит и никак не может проснуться. Лишь однажды ночью, не понимая, где находится, он услышал, что кто–то часто и тяжело дышит.
– Сашка! Я знал, что ты придешь! Я тебя ждал! Ждал! – сказал он и заплакал.
* * *
Он открывал глаза и видел Сашку, который тыкал ему в лицо железной кружкой. Колька мотал головой, и вода проливалась ему на лицо.
Сашка просил, ломая свой язык: «Хи… Хи… Пит, а то умырат сопсем… Надо пит водды… Хи… Пынымаш, хи…».
Колька делал несколько глотков и засыпал. Ему бы сказать Сашке, как смешно он «умырат» произносит, да сил не было. Даже глаз открыть сил не было. Какие уж тут хи–хи.
Сашка накрывал брата чем–то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой.
Однажды Колька открыл глаза и увидел незнакомое лицо. Верней, лицо было ему знакомо, потому что у Сашки, когда он тыкал кружкой в губы, оно оказывалось вдруг такое странное, чернявое, широкоскулое… Но раньше это почему–то Кольку не смущало. У Сашки такая голова, что он себе любое лицо придумает.
А тут Колька лишь взглянул и понял: никакой это не Сашка, а чужой пацан в прожженном ватнике до голых колен сидит перед ним на корточках и что–то бормочет.
– Хи, хи, – бормочет. – Бениг… Надто кушыт. А не пымырат…
Колька закрыл глаза и опять подумал, что это не Сашка. А где тогда Сашка? И почему этот чужой, чернявый Сашкино новое лицо взял и Сашкиным новым ломаным голосом говорит? Недодумался ни до чего Колька и заснул. А когда проснулся, спросил сразу:
– А где Сашка?
Голоса своего не услышал, но чужой голос он услышал:
– Саск нет. Ест Алхузур… Мына так зыват… Алхузур… Пынымаш?
– Не–е, – сказал Колька. – Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет…
Это ему казалось, что он сказал. На самом деле ничего он не сказал, а лишь промычал два раза. Потом он опять спал, ему виделось, что чернявый, чужой Алхузур кормит его по одной ягоде виноградом. И кусочки ореха в рот сует. Сначала сам орех разжевывает, а потом Кольке дает.
Однажды он сказал:
– Я, я Саск… Хоти, и даэк зыви… Буду Саск…
И опять орех жевал… И по одной ягоде виноград давил прямо в губы.
– Я Саск… А ты жыват… Жыват… Харош будыт…
И Колька первый раз кивнул. Дело пошло на поправку.
Алхузур откликался на имя Сашка, оно ему нравилось. Колька лежал в углу на матраце, куда его перетащил Алхузур, накрыв вторым матрацем.
Однажды не выдержал, заглядывая в лицо Алхузура, спросил:
– А Сашки правда не было?
Алхузур грустно посмотрел на больного товарища и покачал головой.
– Сылдат был, – сказал он. – Я это… Со ведда… Убыгат…
– Испугался солдата? Нашего?
Алхузур с опаской посмотрел в окно и не ответил. Лицо у него было скуластое, остренькое и такие же остренькие, блестящие глаза.
– А пожар? – спросил Колька.
– Пазар? – повторил Алхузур, уставившись на него. – Пазар? Рыных?
– Да нет… Я про огонь хотел спросить: кукуруза–то горит?
Тот закивал, указывая на свой ватник, на многочисленные дырки.
– Мнохо охон… Хачкаш харыт… Хадыт нелза… В мэнэ мнох дым…
Колька смотрел на удрученного Алхузура и хихикнул. Уж очень смешно прозвучало, что в нем много дыма.
Алхузур отвернулся, а Колька сказал:
– Не сердись, я же не со зла… У тебя карандаша не найдется?
Алхузур покосился на Кольку и не ответил.
– Или угля… Надо!
Алхузур молча ушел и вернулся с куском горелой деревяшки.
Колька повертел в руках обгарок.
– От дома директора, – сказал, вздохнув. – Когда в него гранату бросили. Всю ночь горел, представляешь…
Алхузур кивнул. Будто мог знать о пожаре. Колька удивился:
– А ты что, видел? Ты правда видел?
– Я не выдыт, – отрезал Алхузур и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Что–то он недоговаривал. А может, Кольке показалось.
Он придвинулся к краю матраца и стал рисовать на полу схему, ломким углем изобразил колонию, речку, кладбище. Алхузур смотрел на размазанные линии, ткнул пальцем в кладбище:
– Чурт!
– Ну, пусть черт, – согласился Колька. – А по–нашему – так кладбище. А тут Березовская, значит.
Алхузур размазал Березовскую, а руки вытер о себя.
– Нет Пересовсх… Дей Чурт – так называт!
– А почему?
– Дада… Отэц… Махил отэц…
– Могила отца? – сообразил Колька. – Твоего отца здесь могила?
Алхузур задумался. Наверное, вспомнил об отце.
– Нэт мой отэц… Всэх отэц…
Вот теперь Колька дотумкал: селение так прозывается – Могила отцов. Кладбище – Чурт, а деревня – Дей Чурт…
Колька обратился к чертежу, приподымаясь, чтобы видней было. Куст около речки обозначил, а возле куста дырку начертил.
– Найдешь? Нет? – спросил тревожно.
Никогда и никому бы в жизни не открыл он тайну заначки. Это всё равно что себя отдать. Но Алхузур теперь был Сашкой, а Сашка знал, где хранятся их ценности. Да и самому Кольке не добрести до них. Сил не хватит.
– Найдешь… Банку джема тащи!
Сказал и откинулся. Длинный этот разговор вымотал его.
Алхузур еще раз взглянул на рисунок и исчез. Как провалился. Кольке стало казаться, что названый его брат пропал навсегда. Нашел заначку, забрал и скрылся. На хрена, если посудить, нужен теперь ему Колька? Больной да немощный! Теперь–то он сам богат! Но Колька так не думал, не хотел думать. Мысли, помимо него, возникали, а он их отгонял от себя. Но почему Алхузур не возвращался?..
Часы прошли… вечность! Когда раздался грохот и влетел Алхузур, лицо его было искажено. Он споткнулся, упал, вскочил, снова упал и так остался лежать, глядя на дверь и вздрагивая при каждом шорохе.
Колька голову поднял.
– Ты что? – спросил. – Ударился? Не ушибся?
Но Алхузур, не отвечая, натянул на себя с головой матрац и затих под ним.
– Оглох, что ли! – крикнул Колька сердито. Подождал, потом подполз и откинул край: Алхузур лежал, закрыв глаза, будто ждал, что его ударят. И вдруг заплакал. Плакал и повторял: «Чурт… Чурт…»
– Ну, перестань! – попросил Колька. – Я же тебя не трогаю!
Алхузур повернулся лицом вниз, а руками закрыл голову.
Будто приготовился к самому худшему.
– Ну, ты даешь! – сказал Колька и попытался встать. От слабости его качало. На четвереньках дополз до оконного проема, подтянулся, со звоном осыпая осколки стекол на пол.
В вечерних сумерках разглядел он двор и на нем группу солдат. Солдаты пытались вытолкать застрявшую повозку, на которой лежали – Колька сразу узнал – длинные могильные камни. «Неужто с кладбища везут? – подумалось. – Куда? Зачем?»
Телега, видать, застряла прочно.
Один из возчиков махнул рукой и поглядел по сторонам.
– Ломик бы… Сейчас пойду пошукаю.
Он огляделся и направился в сторону их дома. Колька увидел, отпрянул, но не успел спрятаться под матрацем. Так и остался сидеть на полу. Как глупыш птенец, выпавший из гнезда.
Солдат не сразу заметил Кольку. Сделал несколько шагов, осматривая помещение, и вдруг наткнулся взглядом на Кольку. Даже вздрогнул от неожиданности.
– Эге! А ты чего тут делаешь? – спросил удивленно.
Солдат был белобрыс, веснушчат, голубоглаз. От неожиданности шмыгал носом.
– Живу, – отвечал Колька хрипло.
– Живешь? Где?
– Тут, в колонии…
Солдат огляделся и вдруг прояснел.
– Ты говоришь, колония? – он присел на корточки, чтобы лучше видеть пацана. И опять шмыгнул носом. – Где же тогда остальные?
– Уехали, – сказал Колька.
– А ты чего же не уехал? Ты один? Или не один?
Колька не ответил.
Солдат–то был востроглазым. Он давно заметил, как подергивается матрац на Алхузуре. И пока беседовал, несколько раз покосился в его сторону:
– А там кто прячется?
– Где? – спросил Колька.
– Да под матрацем.
– Под матрацем?
Он тянул время, чтобы получше соврать. Сашка бы сразу сообразил, а Колька после болезни совсем отупел, голова не варила.
Выпалил первое, что пришло на ум.
– А–а, под матрацем… Так это Сашка лежит! Брат мой… Его Сашкой зовут. Он болеет. – И добавил для верности: – Мы оба, значит, болеем.
– Так вас больных оставили! – воскликнул солдат и поднялся. – А я–то слышу вчерась, будто разговаривают… Я на часах стоял… А ведь знаю, что кругом никого… Как же это вас одних бросили?
Он подошел к Алхузуру и заглянул под матрац.
– Конечно! У него же температура! А может, малярия! Вон как трясет!
Помедлил, рассматривая Алхузура, и накрыл матрацем.
Солдат направился к выходу, но обернулся, крикнул Кольке:
– Сейчас приду.
Колька насторожился. Зачем придет–то? Или засек, что Алхузур не брат?
Но солдат вернулся с железной, знакомой Кольке, мисочкой из–под консервов, принес пшенную кашу и кусок хлеба. Поставил на пол перед Колькой:
– Вот, значит… Тебе. И ему дай. И вот еще лекарства…
Он положил рядом с миской шесть желтых таблеток.
– Это хинин, понял? У нас многие малярией мучаются, так хинин спасает… Тебя как зовут?
– Колька, – сказал Колька.
Менять свое имя сейчас не имело смысла. Да и кем теперь назовешься? Алхузуром?
– А я боец Чернов… Василий Чернов. Из Тамбова.
Солдат постоял над Колькой, всё медлил уходить. Шмыгал носом и с жалостью смотрел на больного. Уходя, произнес:
– Так ты, Колька, не всё сам ешь… Ты брату оставь… А я, значит, санитаров пришлю… Завтра. Ну, бывай!
Лишь когда стемнело, Алхузур выглянул в дырку из–под матраца. Он хотел убедиться, что солдата уже нет.
Колька крикнул ему:
– Вылезай… Нечего бояться–то! Вон боец Чернов сколько принес! Тебе принес и мне…
Алхузур смотрел в дырку и молчал. Матрац на нем шевельнулся.
– Будешь есть? – спросил Колька. – Кашу?
Алхузур высунулся чуть–чуть и покрутил головой.
– Пшенка! – добавил аппетитно Колька. – С хлебом! Ты пшенку–то когда–нибудь ел?
Алхузур приоткрылся, посмотрел на миску и вздохнул.
– Давай… Давай… – приказным тоном солдата Чернова произнес Колька. – Он велел поесть.
Алхузур поворочался, повздыхал. Но выползать из–под матраца не решался. Так и полз к Кольке со своим матрацем, который тянул за собой. В случае опасности можно укрыться. Ему, наверное, казалось, что так он защищен лучше.
Колька разломил хлеб пополам и таблетки разделил. Вышло по три штуки.
Указывая на хлеб, спросил:
– Это как по–вашему?
– Бепиг…
Алхузур с жадностью набросился на хлеб.
– Ты не торопись, ты с кашей давай, – посоветовал Колька. – С кашей–то всегда сытней! А воды мы потом из Сунжи принесем…
– Солжа… – поправил Алхузур. – Дыва река, таэк зови…
– Разве их две? – удивился Колька, пробуя кашу.
– Одын, но как дыва.
– Два русла, что ли? – удивился Колька. – Прям как мы с Сашкой… Были… Мы тоже двое – как один… Солжа, словом!
Кашу брали руками, съели всё и мисочку пальцами вычистили. Корочкой бы, но корочку сжевали раньше. Довольные, посмотрели друг на друга.
– Теперь ты мой брат, – сказал, подумав, Колька. – Мы с тобой Солжа… Они завтра придут за нами, фамилию спросят, а ты скажи, что ты Кузьмин… Запомнишь? По–нормальному – так Кузьмёныш… А хлеб это для нас с тобой бепиг, а для них хлеб – это хлеб… Не проговорись смотри… Сашка Кузьмин – вот кто ты теперь!
– Я Саск, – подтвердил Алхузур. – Я брат Саск… – Он спросил, вздохнув: – А дыругой брат Саск гыде?
– Уехал, – ответил Колька. – Он на поезде в горы уехал.
– Я тоже хадыт буду, – заявил Алхузур. – Я бегат буду… Ат баэц…
– Зачем? – не понял Колька. – Бойцы хорошие… Боец Чернов нам каши дал.
Алхузур закрыл глаза.
– Баэц чурт ломат…
– Могилы, что ли? Ну и пускай ломают, нам–то что!
Но Алхузур твердил свое:
– Плох, кохда ламат чурт… плох…
Он закатил глаза, изображая всем своим видом, насколько это плохо.
– Ну чего ты разнылся–то! – крикнул Колька. – Плох да плох! Могиле не может быть плохо! Она мертвая!
Алхузур вытянул трубочкой губы и произнес, будто запел, вид у него при этом был ужасно дурашливый:
– Камен нэт, мохил–чур–нэт… Нэт и чечен… Нет и Алхузур… Зачем, зачем я?
– А я тебе твердю, – сказал, разозлившись, Колька. – Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть. Разбираешь? Как Солжа твоя.
Алхузур посмотрел на небо, зачернившее окно, ткнул туда пальцем, потом указал на себя:
– Алхузур у чечен – пытыца, так зави. Он лытат будыт… Хоры. Дада–бум! Нана–бум! Алхузур не лытат в хоры, и ему… бум…
Он выразительно показал пальцем, изобразив пистолет.
* * *
На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, и с поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробрались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями. Видать, ее вчера так и не смогли вытащить.
Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу.
Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да рыжела вывернутая земля.
Но когда мы полем направились к реке, мы снова наткнулись на могильные камни, положенные в ряд.
Это и была дорога, необычная дорога, проложенная почему–то не в станицу, а в сторону безлюдных гор.
Мой спутник на первом же камне будто запнулся. Постоял, глядя себе под ноги, потом наклонился, присел на корточки, на колени. Неловко выворачивая набок голову, что–то вслух прочел.
– Что? – спросил я нетерпеливо. – Что ты там читаешь?
Не отрываясь от своего странного занятия, он сказал:
– Тут лежат Зуйбер…
– Зуйбер? Кто это?
Он пожал плечами.
– Дада… Отэц…
И переполз к следующему камню…
– Тут лежат Умран…
– А это кто?
Как и в первый раз, он повторил, не глядя на меня:
– Дада… Отэц…
И далее, от камня к камню:
– Хасан… Дени… Тоита… Вахит… Рамзан… Социта… Ваха…
Я оглянулся кругом. Рассвело ужо настолько, что нас было видно издалека. Надо было спешно и скрытно уходить.
Я поторопил своего спутника:
– Пойдем, пойдем… Пора!
Он не слышал меня.
Переползая от камня к камню, он прочитывал имена, словно повторял на память историю своего рода.
Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы дорога не уткнулась в высокий обрывистый берег реки… В пропасть. Наверное, дальше будет мост, его уже начинали строить.
Миновав опасный обрыв, мы спустились к реке, перешли по камням на другую сторону и стали удаляться в сторону гор.
Мой спутник всё оглядывался, пытаясь запомнить это место.
Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время – и дети, и внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю.
Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся, придя сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место.
Они унесут ее всю, и дороги, ведущей в пропасть, не станет.
– Может, рвануть к станции? – спросил последний раз Колька. – На подсобном хозяйстве знаешь как здорово?! Будем чуреки печь… Дылду сварим… А?
Алхузур покачал головой и указал на горы.
– Тут стрылат, там не стрылат, – бормотал упрямо и смотрел себе под ноги.
– Ладно, – согласился Колька. – Раз брат, то вместе идти надо. Мы с братом порознь не ходили. Ты понял?
– Панымат, – кивал Алхузур. – Одын брат – дыва хлаз, а дыва брат – четыры хлаз!
– Во дает! – воскликнул Колька и тут же оглянулся, заткнул себе рот. Негромко продолжал: – Ты прям как Сашка… он то же самое говорил!
– Я Саск… – подтвердил Алхузур. – Я будыт хырош Саск… А там… – Он указал на горы. – Я буду хырош Алхузур… А хлеб будыт бепиг, а кукуруза – качкаш… А вода будыт хи…
Колька нахмурился. В памяти, навечно врезанная, возникла рыжая теплушка на станции Кубань, из окошек зарешетчатых тянулись руки, губы, молящие глаза… И до сих пор бьющий по ушам крик: «Хи! Хи! Хи! Хи!» Так вот что они просили!
Ребята пробирались вдоль узких оврагов, переходящих в складки гор. Попалось огромное дерево грецкого ореха, и Алхузур ловко сшибал орехи палкой, а Колька собирал за пазуху. Потом они ели дикий сладкий шиповник, нашли несколько грибов, но те оказались горькими.
Тяжелый дым сопровождал беглецов всю дорогу, и Колька, еще слабый после болезни, часто садился отдыхать.
Алхузур же карабкался по камням, лишь голые ноги из–под ватника мелькали. Пока Колька отдыхал, он успевал пробежать по кустам и приносил дикие кислые яблочки и груши.
– Былшой полза, – обычно говорил он, протягивая фрукты и улыбаясь. – А в Хор дым нэт… Там хырош будыт…
Один раз наткнулись на солдат, но те ребят не заметили. Они возились с машиной, которая невесть каким образом сползла на обочину и там застряла. Солдаты матерились, кляли горы, кляли чеченцев и свою машину в придачу.
Колька следил за ними из–за кустов, с горки, которая была над ними. Он прошептал Алхузуру:
– Хочешь, я к ним спущусь? Попрошу поесть? А?
Алхузур задрожал весь, как тогда в колонии.
– Нэт! Нэт! – закричал он, двое из солдат оглянулись.
Едва успели мальчики пригнуться, как раздалась автоматная очередь. Но солдаты пальнули и снова занялись машиной, стреляли они, видно, на всякий случай. Эхо разносило выстрелы по горам. Так что могло показаться – палят со всех сторон.
Ребята отползли от края и пошли в противоположную сторону.
К ночи пришли они к ветхому сарайчику, кошаре, в которой обычно живут пастухи. Так пояснил Алхузур. Около кошары был небольшой садик и огород; сейчас они оказались в полном забросе. И всё–таки ребята отрыли несколько морковин, почистили их о траву и съели. И орехи доели.
Ночь была холодной, горы давали о себе знать.
Они спали, обнявшись, на соломенной подстилке, но всё равно мерзли, а накрыться им было нечем. Под утро стало невмочь, оба дрожали и даже говорить не могли: языки позастывали.
Тогда Алхузур стал бегать вокруг кошары и петь свои странные, булькающие песни.
Колька тоже побежал, заорал изо всех сил свою песню: «От края до края по горным вершинам, где гордый орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасные песни слагает народ…» Но песня о Сталине его не согрела. Он стал вспоминать песни о Буденном и Климе Ворошилове… Они все скаковые, под лошадиный ритм бегать удобней. А потом пришла на ум та, которую они орали в спальне: «Бродили мы с приятелем вдвоем… Бродили мы с приятелем по диким по горам, по диким по горам…»
Он стал учить Алхузура этой песне. Вдвоем они кричали что есть мочи, прыгали, бегали, толкали друг друга плечами… А потом вышло солнце, пробилось сквозь густой туман, стало чуть теплее.
Они легли прямо на траву и снова заснули, счастливые оттого, что не надо им больше дрожать от холода.
Алхузуру снился родной дом, и мать ругала его, что он не выучил уроков. А Кольке приснился брат Сашка, который пришел к кошаре и спрашивал: «Зачэм спыш? Смытры, хоры кругом, а ти спыш? Да?» И всё дергал за плечо.
Колька проснулся и не мог понять, что же происходит. Над ним стояли Алхузур и еще какой–то мужчина, в рыжей бараньей шубе, в зимней шапке и с ружьем в руках.
– Спыш, да? – кричал мужчина странным, переливчатым голосом, который шел прямо из горла. – С рускым свиным спыш? Да? А сам чычен, да?
Алхузур тянул его за руку, державшую ружье, это ружье он направлял на Кольку.
Спросонья Колька ничего и не понял. Он глаза протер и хотел подняться, но мужчина пхнул ногой, и Колька полетел наземь, больно ударился плечом.
– Лыжат! – закричал мужчина громко. – Стрылат буду!
Он опять наставил на Кольку ружье, и Колька лег, глазами в землю. Так он лежал и слышал, как кричал мужчина и кричал Алхузур. Но Алхузур громко говорил по–своему, а мужчина отвечал ему по–русски, наверное, чтобы слышал Колька. Чтобы ясно ему было, что его сейчас убьют.
Мужчина гремел:
– Мой зымла! Он на мой зымла приходыт! Мой дом! Мой сад! А я стрылат за то… Я убыват…
– Ма тоха цунна! – кричал Алхузур. – Не убей! Он мынэ от быэц спысат… Он мынэ брат называт…
Мужчина посмотрел на Кольку:
– Хан це хун ю? Разбырат? Нэт? Как зыват?
Колька повернулся. Мужчина посмотрел на Кольку холодно, жестко, и цвет его глаз был такой же стальной, как дуло его ружья, направленного на Кольку.
Колька хотел опять приподняться, но мужчина прикрикнул:
– Лыжат! Отвычат! Хан це хун ю? Хо мила ву?
– Ну, Колька, – сказал Колька, лежа и глядя на мужчину.
Он опустил глаза от ружья и увидел, что на ногах у мужчины обмотки и галоши, крест–накрест повязанные лыком. А тулуп у него драный, видать, долго ходил по колючкам. На голове папаха, такая же драная, а тулуп перепоясан блестящим серебряным ремешком… Ну, точно таким, какой был у них с Сашкой. Странно, но именно папаха и ремешок поразили Кольку, который и думать о них не должен, его убивать собирались…
– Колка? – переспросил мужчина. – А зачэм прышел? Хор – зачэм? Чычен слыдыш зачэм?
– Я не слежу, – сказал Колька. – Я вот с ним…
– Ми брат! Ми брат! – выкрикнул Алхузур.
– Со кхеру хёх, – сказал горец, повернувшись к Алхузуру.
– Ма хеве со, – отвечал тот.
Горец смотрел на Кольку, на Алхузура и добавил по–русски:
– Его убыт надта! Он будыт быэц прывадыт!
– Ма хево со! – крикнул Алхузур. И заплакал.
Так и было: Колька лежал и смотрел на мужчину, на ружье, а рядом плакал Алхузур. Колька без страха подумал, что, наверное, его сейчас убьют. Как убили Сашку. Но, наверное, больно только, когда наставляют ружье, а потом, когда выстрелят, больно уже не будет. А они с Сашкой снова встретятся там, где люди превращаются в облака. Они узнают друг друга. Они будут плыть над серебряными вершинами Кавказских гор золотыми круглыми тучками, и Колька скажет:
«Здравствуй, Сашка! Тебе тут хорошо?»
А Сашка ответит:
«Ну конечно. Мне тут хорошо».
«А я с Алхузуром подружился, – скажет Колька. – Он тоже нам с тобой брат!»
«Я думаю, что все люди братья», – скажет Сашка, и они поплывут, поплывут далеко–далеко, туда, где горы сходят в море и люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата.
Пришел Колька в себя не скоро, он не знал, сколько времени миновало с тех пор, как его убивали.
А может, его уже убили?
Рядом с Колькой сидел Алхузур и по–прежнему плакал. Но горца нигде не было, и стояла в сумерках тишина.
Колька удивился, что Алхузур еще плачет, и спросил:
– Он тебя обидел?
Алхузур услышал голос и заплакал еще сильней. Он вытирал слезы рукой и полой ватника, из дырок которого торчала горелая вата. От ватника пахло пожаром. Алхузур выдергивал вату и пускал ее по ветру.
И Колька опять спросил:
– Чего ревешь? И зачем дергаешь вату?
Тот вытер рукавом лицо и посмотрел на Кольку:
– Я думыт, что ты умырат.
– Вот еще придумал!
– Ты глыза закрыват, и так вот: хыр–хыр… – Алхузур изобразил хрип. – А я стыновится плох… Одын брат нэ брат…
Колька сказал:
– Если он не стрелял, то я живой. Он ушел?
Алхузур показал на горы:
– Он там… Он свой зымла стырыжыт… Он ее сыжалт… Он ее лубыт…
– А если бы он застрелил меня? – спросил Колька.
И ему вдруг стало холодно. Тоскливо–тоскливо стало. Даже присутствие Алхузура не помешало этому чувству. Он понял, что его и правда хотели убить. И сейчас он валялся бы тут с выпавшими кишками, и вороны расклевали бы ему глаза, как Сашке.
Алхузур посмотрел на Кольку.
– Я плакыт, – сказал он и правда заплакал. И тогда Кольке стало легче, совсем легко. И он стал утешать названого брата и стал объяснять, что им надо породниться по–настоящему. То есть разрезать руку и смешать кровь.
Они нашли стекляшку, и сперва Колька, а потом Алхузур надрезали на левой руке кожу и потерлись ранками.
– Вот, – сказал Колька. – Теперь мы совсем родные. А отсюда нам надо уходить. Чечены меня всё равно застрелят.
Алхузур молчал.
– Давай спустимся обратно, – предложил Колька. – Там внизу теплей.
– Там быэц стрылат, – с боязнью произнес Алхузур.
– А здесь чечен стреляет… – воскликнул Колька.
– Выздэ плох! – вздохнул Алхузур. – А зычем они стрылат? Ты пынымаш?
– Нет, – сказал Колька. – Я думаю, что никто не понимает.
– Но оны же болше… Оны же умыны… Так?
Колька ничего не ответил. Наступил вечер. Они смотрели на горы, сверкающие в высоте, и не знали, как им дальше жить.
* * *
Их поймали на склоне, близ долины, где они, обнявшись, спали в кустах. Набрел на них солдатик, свернувший с дороги по нужде.
Когда их стали разнимать, оба они закричали. Алхузур стал кусаться, а Колька извивался изо всех сил и что–то вопил нечленораздельное.
Солдаты из обоза их скрутили, а потом развязали и дали поесть.
Ели они из миски руками и ни на кого не глядели. Они смотрели только друг на друга и переговаривались жестами да мычанием. Ни на какие вопросы ответить они не смогли.
Приехавшая женщина–врач констатировала, что оба мальчика в состоянии дистрофии и невозможно сейчас сказать, будут ли они вообще жить. Кроме истощения заметны у обоих нарушения психики.
Дети разлучать себя не позволили и поднимали невероятный крик, если одного из них уводили на медосмотр.
А через месяц и десять дней из детской клиники номер шестнадцать города Грозного ребят перевели в детприемник, где держали выловленных и собранных беспризорных перед тем, как отправить их в разные колонии и детдома.
Я запомнил этот дом, размещавшийся на тихой окраинной улочке в деревянном здании бывшей школы.