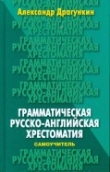Текст книги "Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе"
Автор книги: Семен Виленский
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– С вещами!
Надела пальто, вышла. У всех дверей женские фигуры. Их смели в строй, как рассыпанную крупу. Окружили солдатами, повели. Распахнули двери. Дохнуло морозом.
– По одной – в машину!
«Черный ворон»? В 37–м году он был действительно черный: железный короб с решетчатым окошком сзади. Он разъезжал ночами по городу, забирая в тюрьму.
Нет, этот не был черным: моторный фургон светло–зеленых тонов с надписью во всё бортовое поле: «Игрушки». Сзади – герметическая дверь и приставная лестница.
– Первая, вторая, третья! – Гуськом нас впускали в черноту машины. – Примите документы. Все! – сказал сдавший этап.
Считавший взял папку. Дверь захлопнулась.
Совершенная темнота. Испуганное дыхание. Мы чувствуем плотно прижатые тела.
– Куда? – чей–то шепот. – Куда нас везут?
– На пересылку.
– А это не газокамера? Трудно дышать…
– Вздор. Это от тесноты.
Время потерялось, осталось движение. Застопорилось урчанием. Щелкнула дверь:
– Вылезайте по одной. Первая, вторая…
Каждая становилась со своим узелком.
– Все?
– Все! Веди в баню.
Какая радость телу – вода! Стремительный поток теплой воды из двух десятков душевых кранов… Она брызжет и искрится, журчит и бежит по цементному полу. Изможденные тюрьмой, зеленоватые, как плесневелые, женские тела радуются теплой текучей живой воде. Отходит тревога, ужас, отчаяние – улыбаются лица, потому что смывает все мысли теплая, живительная вода. Мысль у всех одна: как суметь отрезком мыла величиной с два кусочка пиленого сахара, который был выдан каждой, – как суметь вымыть голову, вымыться, да еще и выстирать трусы или рубашку?
– На них я использую пену, которая стекает с головы, – звонко кричит чей–то молодой голос.
И кругом смеются.
– Правильно! Рационально! И просто как в первоклассную душевую попали! – кричит кто–то, звонко хлопая себя по бедрам.
И опять все смеются. Они забыли, что пережито и что ждет впереди. Тело, замученное тело радуется воде и гонит мысли.
А мысли вернулись, когда развели по камерам. В глазах – опять боль и страх, у рта – горькие продольные складки, одинаковые у старых и молодых.
Камеры в Бутырке небольшие. Когда–то это, верно, был корпус одиночных камер, теперь, из–за недостатка жилплощади, поставили по четыре кровати. Я – вот как хорошо! – оказалась в одной камере с Аней и Надеждой Григорьевной Антокольской.
Кто была четвертая? Я не помню четвертую. Столько лиц прошло, столько камер, что мешаются лица и камеры. Мы втроем обрадовались друг другу потому, что сидели вместе уже больше трех месяцев, вместе пережили потрясение.
Теперь удар нанесен, как–то остались живы, всё закончено. Идут разговоры о лагерях.
– В тридцать седьмом, – говорю я, – мы еще месяцы ожидали на пересылке этапа. Попадем ли к лету теперь в лагеря?
– Поскорей бы! – вздыхают.
Открываем форточку. Небо слепит глубокой бархатной синевой, солнечный луч, как добрая рука, шарит по камере.
– Смотрите–ка, – говорит Аня, – решеток нет потому, что в стекло вплавлена проволока. Стекла–то не матовые – это вплавленная в стекло тонкая металлическая сетка. Вот здорово!
– А щиток совсем низкий, небо хорошо видно, – замечает Надежда Григорьевна, застилая свою постель.
У нас уже была передача, у всех есть свои одеяла и простыни. Мы чувствуем себя вроде как в пароходной каюте. Приспосабливаем на столике зубные щетки и мыльницы, кладем ложки, кружки. Расставили. Сколько нам ждать здесь?
На прогулку выпускают по нескольку камер вместе. Узнаем о сроках, разыскиваем знакомых. В тюрьме новости облетают сразу, вести распространяются неуловимо, стихийно, как круги по воде. Через несколько дней мы уже разузнали почти про всех, кто попал в этот корпус. В тюрьме свои интересы и свои законы. Скорей бы только уйти из нее, хоть в лагеря, хоть в этап! Хотя мы уже объяснили тем, кто не испытывал еще, всю тяжесть этапа.
Весна была в 1948 году теплая. К первому мая уже распустились листки на деревьях. Первого мая – в дни праздников всегда удваивали бдительность – никого из камер не выпускали, но второго мая нас выпустили из камер на прогулку.
За высокой кирпичной стеной бутырского двора шумела праздничная улица. Был яркий, солнечный день, с синими свежими тенями, с теплым воздухом.
На серый асфальт двора, на красные кирпичи стен тоже падали солнечные лучи. Беззвучно ходили заключенные – разговаривать не разрешалось, и новости передавались с помощью различных ухищрений. Зорко смотрели часовые. Я чуть отошла в сторону и глянула вверх: на кирпичной стене, на самом верху ее, в синеве неба, трепетали свежие молодые листочки. Тоненькая березка выросла в расщелине кирпича, протянула к небу гибкие ветки и трепетала, и радовалась. Белая березка пела зеленой листвой даже в этом кирпичном мешке, вопреки всему побеждая смерть.
Тюремщики не предвидели, как жизнь подаст нам сигналы, не сумели предугадать. Мы посмеялись вместе, я и березка: что могут сделать убивающие? Если даже теперь дадут приказ – срубить на стене березку, она уже осталась жить во мне. Ее маленькие зеленые листики утешили человеческое сердце (и не одно мое, верю, что не одно), и что могут сделать они, убивающие, с тем, кто понимает синеву неба и смех березки?
1963
АРИАДНА ЭФРОН
Устные рассказы
ТЁПА
Она вошла в мою камеру, я взглянула на нее и подумала: «Ого! Каких детей начали сажать!» Небольшого роста, худенькая, в беленьких носочках. Мы очень быстро подружились, и она мне рассказала свою историю.
Родители ее были бедными людьми, батрачили где–то в Белоруссии. Когда девочки были еще маленькими (а у Тёпы была сестра, которую звали Брива, от латышского слова «свобода»), мать с ними переехала в Шемаху, город в Средней Азии, откуда родом Шемаханская царица. Валя окончила там семилетку и захотела учиться дальше. Но в Шемахе такой возможности не было, и она с сестрой поехала в Москву. Здесь эта девочка, помаявшись и ничего не добившись, пошла на прием к Калинину. Тот ее принял, выслушал и сказал: «Хорошо, Валя, ты будешь учиться в Москве, а Брива должна вернуться к матери, вот подрастет, тогда видно будет…»
И стала Валя учиться в каком–то техникуме, где–то снимая коечку. И вот прочла она в газете, что в одном из московских научно–исследовательских институтов ставятся опыты по оживлению тканей и результаты этих опытов успешны. Валя пришла в этот институт и сказала: «Вот вы делаете опыты по оживлению людей, почему же вы не оживляете товарища Ленина? Ведь он нам всем так нужен, ведь после его смерти всё пошло вкривь и вкось!» Там ей мягко ответили, что всё это очень сложно, что это только первые шаги, а оживление людей – дело далекого будущего…
Чем дольше жила Валя в Москве и чем больше наблюдала она тогдашнюю жизнь, тем больше изумлялась она несправедливости, неверности истинным революционным идеалам, нарушениям всех принципов, всех законов и конституций. И однажды, придя с занятий, Валя села и написала письмо Сталину, а сама собрала чемоданчик с бельем – на всякий случай – и стала ждать, когда за ней придут. Письмо она подписала полностью – Валентина Карловна (девичью фамилию ее я забыла, в замужестве она была Урсова)… и адрес поставила.
И за ней пришли. Пришел мужчина, увидел такую девочку, спросил:
– Это вы писали письмо Сталину?
– Да.
И он вступил с ней в разговор. Он сказал ей, что некоторые вещи в ее письме правильны, а другие нет, что многого она не знает, во многом не права, что ей надо учиться, строить свою жизнь и т. п. Валя ему ответила, что всё, что она написала, верно и она это может повторить в любом месте. Он долго разубеждал ее, уговаривал, но понапрасну. Тогда он сказал: «Ну, что ж, поедем…» Валя пошла с ним, вот так, как была, и чемоданчик взять постеснялась…
Он привез ее, посадил в какой–то кабинет. Сидела она, сидела… Потом принесли чай с какими–то бутербродами. Потом ей понадобилось выйти. Ей сказали: «Подожди, девочка…» – и дали… провожатого, который довел ее до сортирчика, сам подождал снаружи, а потом опять отвел ее в этот кабинет. И опять она сидела, сидела… Наконец ее повели, привели в большой зал, где стояли столы с пишущими машинками и машинистки печатали. И тут какая–то панель в стене раздвинулась, и она оказалась в кабинете Берии.
Он приветливо предложил ей сесть в кресло. Она села. Он вынул из стола коробку шоколадных конфет и поставил перед ней. Она взяла одну конфетку, потом другую. Они болтали о пустяках. Тогда шел в Москве кинофильм «Большой вальс». Он спросил, сколько раз она смотрела этот фильм. Она сказала, что пять. Он смотрел три раза. Спросил, какая героиня ей больше понравилась. Она сказала – вот эта. А ему – та. А почему эта, а не та? Ну, и тому подобное. Потом они заговорили о другом, и – на разных языках, естественно. Берия говорил ей, что никакого беззакония и несправедливости в стране нет, что всё идет хорошо. Валя говорила обратное. Наконец он спросил:
– А почему ты мне не веришь? Ведь я старше тебя, я давно уже коммунист, я занимаю ответственный пост, почему же ты мне не веришь, какие у тебя есть основания для этого?
И Валя ему ответила так:
– На вас надет очень хороший шерстяной костюм. Почему? Когда мы все раздетые. У вас в столе лежат шоколадные конфеты, а у всех этого нет. Как же я могу вам верить и какой же вы коммунист?
– Ого! – сказал Берия. – А знаешь, девочка, придется тебя изолировать от общества, пока ты не одумаешься.
– Пожалуйста, – сказала Валя, – я не боюсь…
– Но ведь это будет общий лагерь, вместе с уголовниками.
– Ничего, – сказала Валя, – я давно хотела посмотреть, а что же по ту сторону этого здания, теперь увижу.
– Придется и маму твою арестовать – за то, что она так плохо тебя воспитала.
– Что ж, – сказала Валя, – моя мама – большевичка, и любое испытание партии она выдержит. А потом ведь мама меня и не воспитывала: она работала, ей было некогда, я сама себя воспитала так.
– Ну, ладно, – сказал Берия, – была бы ты моя дочка, я бы тебя просто выпорол, а так мне ничего не остается, как посадить тебя в тюрьму.
На том они и расстались, и Валя прямо из его кабинета пришла в мою камеру.
Удивительная она была девочка! Помню, рассказывала я ей однажды про Карла Линдберга… Два раза помню я Париж, действительно вышедшим из берегов от восторга, – когда приезжал Линдберг, только что перелетевший Атлантический океан, и когда приезжал Чаплин. Так вот, рассказываю я ей, вскоре Линдберг женился на молоденькой американке и поселился где–то в Америке. Родился у них ребенок, и вдруг этого ребенка украли гангстеры, чтобы получить выкуп. Потом, правда, оказалось, что, когда один из них спускался с грудным младенцем по пожарной лестнице, он его нечаянно стукнул о водосточную трубу, так что выкуп–то они требовали, а ребенок уж давно был похоронен. Ты только представь себе, говорю я, что за люди! Что за страна! Чтобы поднялась рука сделать зло такому человеку! И для пущей наглядности привожу пример: ведь это всё равно, как если бы у Сталина украли его Светлану! И вдруг Тёпа мне говорит:
– Ты неудачно сравнила. Этих людей нельзя сравнивать. Линдберг ведь герой, а Сталин – нет. Сталин лицо выборное, на его месте, может быть, кто–нибудь другой и был бы, но Сталин силой держит свой пост… Так что эти люди совсем не равнозначны.
И еще у меня была с Тёпой история прямо–таки мистическая. Я ей много всего рассказывала – из разных прочитанных книг, из фильмов, всяких случаев из жизни. Особенно много я знала страшных историй. И вот сидим мы однажды друг против друга, каждая на своей коечке, и я рассказываю очередную страшную историю. А я была худая, бледная, уже давно там находилась, почти без воздуха, потом допросы очень тяжелые были, страшная, глазищи здоровые… «И вдруг, – говорю я, – дверь в комнату открывается и входит человек… с ножом в руке!» – и вытаращиваю на нее глаза. И вдруг дверь в камеру открывается и входит мужчина с большим… ножом в руке! Первое движение у нас было почему–то подобрать ноги на койку, вторым движением Тёпы было завизжать во всю мочь, но тут вошел охранник и сказал: «Ну, чего вы!..» Оказывается, в коридоре рабочие стелили линолеум, и кусок, который подсовывался под каждую дверь, с боков обрезался, вот рабочий и зашел с ножом…
Потом Тёпу отправили в лагерь, а я еще оставалась, я ей сахару на дорогу накопила. Потом, уже во время войны, она меня разыскала, мы переписывались. Потом она жила в ссылке, потом вышла замуж за какого–то больного пожилого человека, которого вечно должна была подпирать собой. Кончила она финансовый институт, чтобы прибавить к своей маленькой зарплате лишние двадцать рублей. И ничего от той девочки, которая хотела оживить Ленина, не осталось… И стоило ли заглядывать по ту сторону здания такой ценой?.. Нет, не стоило.
МОНАШКА
В моем первом лагере, в котором я была очень недолго, в Коми АССР, было несколько человек, посаженных «за религию», и среди них монашка – тетя Паша. Долагерная история ее такова. Она была крестьянской девочкой в многодетной семье, когда однажды попала в монастырь. И вот после курной избы монастырское благолепие так прельстило ее, что она хотела только туда. А там сказали: мы таких бедных в монахини не берем, нам ведь нужны вклады, чтобы монастырь богател. И взяли ее только в работницы – на самые тяжелые работы, безо всякого учения и без права пострига.
Она была трудолюбива, очень скромна, тиха и приветлива, делала любую работу и вскоре что–то начала получать по своим заслугам: ей позволили обучаться шитью, а вот грамоте так и не выучили, выдали какую–то одежку монастырскую, а потом выделили отдельную келейку. И тетя Паша была счастлива. Она долго копила какие–то гроши и наконец – предел мечтаний! – обзавелась и собственным самоваром. И по вечерам у нее в келейке пили чай две–три монахини. «Сегодня пьем у матери Анны, завтра – у матери Манефы, а послезавтра – у Паши…»
Так и шла жизнь, тихая и счастливая, и вдруг – революция! Приехали красноармейцы. Комиссар, собрав монахинь, объяснил им, что они теперь свободные гражданки.
– Собирайте свои манатки и идите на все четыре стороны; даем вам сроку полгода, если через полгода здесь кто–нибудь останется, пеняйте на себя, женщины!
Ну, те, кто был поумнее и порасторопнее, ушли, остальные остались, питаясь надеждами да упованиями. И тетя Паша тоже осталась.
Через полгода являются те же люди и говорят:
– Ну, женщины, мы вас предупреждали, теперь пеняйте на себя. Всё здесь бросайте, никакого имущества забирать не разрешается, что наденете, в том и идите.
– И вот, Алечка, – рассказывала тетя Паша, – одеваюсь я, а сама плачу–плачу, одеваюсь–одеваюсь и всё плачу – как же самовар–то оставить? И всё одеваюсь–одеваюсь, чтобы им меньше осталось, и плачу–плачу, а наплакамшись, да и привязала самовар–то между ног и пошла. Тихо иду. А у ворот солдат стоит и каждой–то нашей сестре под зад поддает на прощание. А я иду тихо–тихо, а он мне как наподдаст, я и покатилась! Так поверишь ли, Аленька, на самоваре–то до сих пор вмятина от сапога!
И вот в лагере нашем несколько женщин, которые «за религию» сидели, освобождаются. Прощание. Тетя Паша, крестя каждую по очереди, говорит:
– Вы уж отпишите, девоньки, как там на воле–то, целы церкви–то? И уж помолитесь там за нас…
А как писать – ведь цензура! И договорились: вместо «церковь» писать «баня». Ну, уехали они. Прошло какое–то время, пришло письмо. Тетя Паша ко мне:
– Читай, Аленька, читай, голубушка!
Читаю:
– «Низкий поклон вам, Прасковья Григорьевна, сестре Аллочке поклон, ну и т. д. Доехали мы до города, скажем, Серпухова, только вышли с вокзала, глядим – баня! И пошли–то мы сразу в баню и таково–то хорошо за вас там помылись! А в этой бане мы поговорили с женщиной, которая шайки продает, всё у ней расспросили, и она нам сказала: поезжайте вы, бабоньки, на кладбище. Мы поехали. Приходим на кладбище, глядим – баня! И такая красивая баня–то! И таково–то хорошо мы помылись там за всех вас и по шайке за каждую поставили! И такой банщик здесь хороший оказался, тоже помылся за вас…»
А теперь про настоящую баню.
Банный день нам назначили как раз под Троицу. И тетя Паша очень радовалась, что на праздник чистенькие будем. Собрались мы и пошли с узелочками. А банщик был у нас тоже из тех, кто «за религию» сидел, тихий, скромный, его потому и поставили банщиком, знали, что на голых баб пялиться не будет.
И вот встречает он нас на пороге – голый, в одном фартуке:
– С наступающим праздником вас, женщины! Очень хорошо сегодня в бане, я всё чисто убрал и воду для вас от мужчин сэкономил, так что вам каждой будет не по три шайки, а по четыре. Мойтесь на здоровье, женщины!
И никогда не забуду я эту картину – тогда я от нее просто пополам перегнулась, до того было смешно! – банщик подсел на лавочку к тете Паше и завел тихую беседу:
– А помните, Прасковья Григорьевна, как под Троицу–то в церкву шли – нарядные, с березками…
Она – голенькая, только платочек на голове, он – в одном фартуке, сидят и разговаривают о «божественном», чистые и бесхитростные, как дети или ангелы.
1969–1973
В записи Е. Коркиной
ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ
Оборванный дуэт
Пересыльная тюрьма, одна из самых старых на сибирском каторжном тракте, верой и правдой служила Российскому отечеству вот уже около двух веков. Но теперь этот старинный, выбеленный известкой «замок», с его круглыми, угловатыми башенками и прочими романтическими излишествами и отдаленно не соответствовал возросшим потребностям новой эпохи. Сохраняя прежние масштабы, он не мог бы вместить и десятой части многотысячных этапов, непрерывно следовавших дальше на восток. И это при самом прогрессивном взгляде тюремного начальства на допустимую плотность населения пересылки и условия содержания в ней этапников.
Поэтому она срочно расширялась за счет строительства новых корпусов. В их архитектуре ветхозаветной тюремной романтики не было и в помине. Образуя целые улицы, четырехэтажные кирпичные коробки стояли в ряд среди грязи и неубранного строительного мусора. Навешенные на все их окна железные «ежовские намордники» делали и без того унылые фасады тюремных зданий похожими на лица слепцов в темных квадратных очках.
В большой камере третьего этажа одного из таких корпусов было тесно и шумно. В нее, как и во все другие камеры этого корпуса, заталкивали новых «постояльцев». Но и для старых места на сплошных трехъярусных нарах тут давно не хватало. Люди лежали не только на полу под нарами, но и в проходе между нарами и стеной. В последние недели формирование этапов для дальнейшего следования почему–то задерживалось, хотя набитые арестантами эшелоны из центральных районов Союза прибывали сюда каждый день. Политическое руководство страны во главе с гениальным Сталиным полагало, что уничтожение на корню потенциальной «пятой колонны» куда важнее для дела обороны, чем сохранение опытных кадров и укрепление границ.
Шла обычная толкотня, ссоры и даже драки из-за места. Но только на полу и двух нижних ярусах нар. На третьем ярусе, хотя здесь было еще довольно просторно, ни шума, ни свалки не было, так как никто из новоприбывших никаких претензий на эти места не предъявлял. У всех уже хватало тюремного и этапного опыта, чтобы с первого взгляда распознать, что на верхних нарах тут, как и всюду в пересыльных тюрьмах, безраздельно господствует блатная хевра. А это значило, что доступ на привилегированный «бельэтаж» всяким «штымпам» и «фраерам» закрыт, во всяком случае, без позволения хозяев яруса, получить которое удается очень немногим и в крайне редких случаях. А так как очередное пополнение камеры состояло почти сплошь из одних фраеров – «контриков», то никто не сделал даже попытки занять место на «аристократическом этаже». Такая попытка могла бы стоить зубов, выбитых ударом каблука.
Тюремные шайки уголовников, бывшие как бы низовыми ячейками всеобщей воровской корпорации, возникали почти мгновенно, как только блатных набиралась хотя бы десятая, а то и двадцатая часть населения камеры, этапного вагона или пароходного трюма. Их сила заключалась в спайке, организованности и солидности. Полнейшая разобщенность и трусливое благоразумие фраеров, привитое добропорядочным принципом невмешательства в чужие дела, делала их совершенно безоружными перед воровскими объединениями. Поэтому, если и случалось иногда, что какой–нибудь одиночка восставал против засилья уголовников, то он обычно оставался безо всякой поддержки. Два–три бандита на глазах у полусотни отводящих глаза фраеров избивали и дочиста обирали строптивого, чтобы затем, уже без намека на сопротивление, обирать остальных. И всех их «загонять под нары» и в переносном, и в самом прямом смыслах. Принцип, тысячелетиями проверенный в масштабе целых народов и государств.
Незнакомому с нравами и обстановкой тюрьмы могло бы показаться, что население верхних нар относится с полным равнодушием как к происходящему внизу, так и к самим новоприбывшим. Большинство блатных с безразличным видом продолжали лежать на своих местах. Несколько человек, сомкнувшись в тесный кружок в дальнем углу полатей, «чесали бороду королю», то есть резались в самодельные карты. Однако опытный глаз сразу приметил бы двух человек, сидящих на самом краю верхних нар и цепкими, воровскими взглядами скользящих по каждому из новоприбывших. Это был дозор, выставленный камерной хеврой для определения возможностей поживы за счет новых сокамерников. Сейчас было самое удобное время заприметить у вислоухих фраеров их «заначки», у кого они есть, и содержимое их сидоров.
Впечатление у дозорных от большинства этапников складывалось пока неважное. Почти все они принадлежали к разряду «рогатиков», уже успевших побывать в лагерях и одетых в драные бушлаты и арестантские шапки – «ежовки». Лишь у немногих в руках были грязные узелки с остатками недоеденной этапной пайки. Остальные съедали хлеб, выданный на два–три дня, почти сразу. Не очень отличались от них и штымпы, едущие прямо из тюрем. Обычно они до нитки были ободраны камерными и этапными грабителями.
Исключение составлял только один заключенный, умудрившийся, по–видимому, просидеть до этапа в тюремной камере и ехать в вагоне, в котором не было организованной воровской фракции. В измятом, когда–то щегольском пальто, в фетровой шляпе с большим узлом в руке он стоял у входа в камеру, не делая попытки пройти дальше и не принимая участия в дележе мест. Новичок резко выделялся среди своих соэтапников не только одеждой, но и лицом. Несмотря на недельную щетину, бледность и нездоровую одутловатость, с которой неизбежно связано сидение в тюрьме, оно отличалось мягкой интеллигентностью, тонкостью черт и какой–то необыкновенной выразительностью. Эту выразительность придавали ему большие печальные глаза, с тоскливым испугом глядевшие на происходившую возню. Он казался совершенно растерянным и беспомощным, как интеллигентная барышня, попавшая в базарную свалку.
По блатняцкой классификации это был, несомненно, «бобер», сулящий верную и богатую поживу. Все, кто знал нравы тюрем, не сомневались, что пальто, костюм и ботинки бобра уже поставлены «на кон» в карточной игре, которая идет сейчас в углу верхних нар. И что проигравший вот–вот свесится с этих нар и предложит вновь прибывшему сию же минуту снять вещи в обмен на какую–нибудь лагерную рвань. Если же фраер по неопытности запротестует, грабитель будет скорее удивлен, чем рассержен или возмущен: «Да ты что, падло, думаешь, что я из–за тебя под нож встану?» И никакого преувеличения или сгущения красок в этих словах не будет – хевра беспощадна к неплательщикам карточных долгов.
Однако утверждать, что ее пристальное внимание к каждому новому обитателю камеры всегда объясняется чисто грабительскими интересами, было бы не совсем верно. Случается, что главное внимание блатных сосредоточивается не на вещах иного фраера, а на его внешнем облике. И притом, на предмет предварительного определения степени его интеллигентности. Это бывает, когда общество камерных «аристократов» нуждается в рассказчике интересных историй – «тискале».
Наверное, не будет большим преувеличением утверждать, что для большинства профессиональных уголовников того времени, о котором сейчас идет речь, потребность в слушании всякого фантастического вранья была на втором месте после потребности в пище. Конечно, если исключить тягу к недоступным в тюрьме наркотикам и выпивке. Блатные могли слушать приключенческий вздор ночами напролет изо дня в день.
Выше всего другого ценились нескончаемые истории о сыщиках, уголовные романы, «Приключения Рокамболя» и тому подобная литература. После этого шли повести таких популярных авторов, как Буссенар, Майн Рид, Густав Эмар, капитан Мариэт. Жюль Верн ценился немного ниже, а рассказы Чехова, Куприна или Мопассана были едва терпимы, не говоря уж о Толстом или Горьком. Да и то при условии, что ничего другого рассказчик припомнить уже не мог. Но это значило также, что этот рассказчик плох. Главным достоинством настоящего камерного тискалы считалась его неистощимость по части плетения невероятных приключений. Манера рассказчика, выразительность его языка, дикция и прочие достоинства речи ставились на второе место. Что же касается правдоподобности и элементарной логической связности повествования, то они и вовсе не имели значения.
Лучшие тискалы находились среди самих уголовников. Среди них встречались такие, которые могли нанизывать немыслимые истории одну на другую буквально целыми неделями. Это были вдохновенные импровизаторы, барды и романтики уголовщины, обычно совсем еще молодые. Большинство таких занималось своим изустным творчеством не столько для камерной аудитории, сколько для самих себя. Спасаясь от напора неприглядной действительности, они цеплялись за иллюзорный мир благородных бандитов, гениальных воров и обольстительных марух. Когда–то прочитанная или от кого–то услышанная галиматья перерабатывалась, дополнялась и сочеталась в темных головах рассказчиков подчас самым фантастическим образом. Какая-нибудь Сонька Золотая Ручка, легендарная одесская воровка, силой их буйного воображения переносилась в брет–гартовскую Калифорнию, а Рокамболь после взрыва в Тауэре оказывался где–нибудь в Костроме и метался по всей России, спасаясь от преследования царской полиции. И вся эта чушь воспринималась невзыскательными слушателями с неизменной благодарностью и восхищением.
Но такой тип присяжного тискалы был для камерной хевры весьма редкой удачей. Как правило, она не могла выделить из своей среды не только талантливого, но и рядового рассказчика. Поэтому тискалы обычно вербовались среди более или менее начитанных фраеров. Среди них нередко встречались и хорошо образованные представители гуманитарных профессий: бывшие адвокаты, журналисты, режиссеры. Эти вдохновлялись отнюдь не самим творчеством тюремного повествователя, хотя некоторые «наблатыкивались» в нем почти до профессионального уровня. Их привлекали подачки хевры и связанное с ее дружбой значительное облегчение тюремной жизни. И угодливые интеллигенты мобилизовывали свою начитанность, память, профессиональные знания и другие качества для выполнения «социального заказа» нового типа. Благо многим из советских гуманитариев было к этому не привыкать. Главными достоинствами тискалы были память на прочитанную когда–то чепуху и способность к беззастенчивой компиляции. Иначе ему грозило быстрое истощение и разжалование.
Это случалось очень часто с немолодыми уже фраерами, учившимися еще в дореволюционных гимназиях. Почти все они воздали в свое время усердную дань пятачковым изданиям в ярких обложках и со жгучим продолжением. Мамины пятаки, выданные на школьные завтраки и сэкономленные для приобретения желтых книжечек с изображением на обложках бандитов в масках, окупались теперь для некоторых весьма неожиданным образом. Даже не очень удачным тискалам хевра гарантировала неприкосновенность их имущества, предоставляла место на своем ярусе, а иногда даже подкармливала. Чаще всего, однако, это продолжалось недолго. Рассказчик быстро выдыхался и изгонялся с аристократического бельэтажа обратно к штымпам.
Такая же судьба постигла и последнего из камерных тискал, бывшего преподавателя языка и литературы в средней школе.
Этому, казалось бы, и карты в руки. Однако пожилой учитель за два вечера израсходовал всё, что мог припомнить из читанных в детстве рассказов про сыщиков и воров. На третий день он начал сбиваться на какие–то повести Белкина, а потом и на тургеневские «Записки охотника». Стало ясно, что и этот не оправдал надежд и надо подыскивать нового. Высматривать подходящего кандидата на вакантную должность, покамест, конечно, только на основе их внешних данных и поручалось дозорным, выставленным для встречи очередной партии новоприбывших. Сейчас на вахте находились два старых блатных по прозвищам «Москва» и «Покойник».
Бобер в шляпе, новых желтых «колесах» и роскошном «клифте» был ими, конечно, замечен и взят на учет и как объект возможного ограбления, и как кандидат в тискалы. Притом единственный, так как все его соэтапники были, несомненно, серыми штымпами, безнадежными в этом смысле. Но второе исключало первое, бесполезно обращаться с просьбой об услуге, да еще требующей усердия и вдохновения, к человеку, тобой же ограбленному. Но в то время как вещи этого человека представляли несомненную ценность, его способности рассказчика оставались пока только предположительными. Тем более что по своему возрасту фраер принадлежал к советской генерации интеллигентов. Такие относились блатными ко второму сорту тискал уже потому, что, как правило, ничего не знали ни о Пинкертоне, ни о Картере, ни даже о Рокамболе. Однако некоторые из них неплохо пересказывали бесчисленные советские повести «про шпионов», знали рассказы о Шерлоке Холмсе и приключенческую литературу.
Проще всего, конечно, пригласить фраера наверх и предложить ему припомнить что–нибудь интересное из прочитанного. Такие фраера читали много, хотя и не всегда то, что стоит траты времени с точки зрения людей, понимающих в этом деле толк. Если он откажется, то всё будет весьма просто, хевра по отношению к такому никаких обязательств не несет. Но он может принять предложение и оказаться занудой, который понесет что–нибудь про пресную и канительную фраерскую любовь. Один такой весь вечер читал нудные стихи про Евгения Онегина и всех усыпил. Однако «сдрючивать» с него колеса и клифт было потом неудобно. Так их на нем и оставили. Но на том были шмутки так себе. Тут же хевра рисковала упустить редкую удачу по части поживы, если рекомендовать ей взять этого фраера на испытание. Если же поставить эту поживу впереди запросов блатняцкой души, то существует риск упустить хорошего рассказчика, может быть, даже самого писателя «про шпионов» – сейчас на этапах попадаются и такие. И в обоих случаях Старик, руководитель камерной хевры, непременно начистит неудачливым физиономистам зубы.