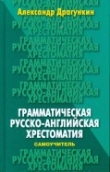Текст книги "Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе"
Автор книги: Семен Виленский
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Вдруг… Что это лежит на дороге? Да ведь это большой разводной ключ! «Паровозный» зовут их у нас. Не иначе тракторист его обронил. Растяпа! Я смотрела на ключ в раздумье. Потерян был он вчера – успел примерзнуть. За ним потерявший его не вернулся. Значит, не заметил. Не сегодня–завтра трактора выйдут в поле… Каково будет этому растяпе без ключа?
И я сделала непростительную глупость. Вместо того чтобы обойти стороной группу зданий, разукрашенных флагами и лозунгами, я направилась прямо туда, вошла в ворота, над которыми висел транспарант со словами «Добро пожаловать» под надписью с названием колхоза «Путь Ленина», вошла в здание правления колхоза и, протягивая ключ одному из тех, кто был в зале, сказала:
– Вот ключ, утерянный, должно быть, одним из ваших трактористов. Я нашла его на дороге.
Всякий добрый поступок должен быть награжден, но награда моих поступков, верно, на небесах, а на земле с добрыми поступками мне всегда не везло…
Когда я повернулась и пошла к двери, один из присутствующих заступил мне дорогу, а другой схватил за плечо. Набежала толпа правленцев – узнать их можно было по раскормленным рожам. О том, что допустила ошибку, я поняла лишь тогда, когда во дворе целая орава мальчишек стала кричать:
– Шпиона поймали! Немецкого!
Откуда–то появились два здоровых лба. Один отобрал у меня рюкзак, а другой крепко ухватил за ворот телогрейки. Через полчаса я услышала:
– Ведите ее в Боборыкино в сельсовет и сдайте под расписку.
Во дворе уже гудела толпа. В меня полетели камни, палки, комья грязи, и под свист и улюлюканье меня повели, причем мальчишки еще долго следовали за нами, продолжая швыряться камнями.
ЧЕРЕЗ ТЮРЕМНЫЙ ПОРОГ – НА ВОЛЮ!
Заяц может убежать, птица – улететь, зверь – защититься, рыба – скрыться в глубине… Заключенный спастись не может. Сказанное слово (и даже несказанное), неуместный вопрос – всё это могло погубить любого из нас. Одно остается – работа. И в работу я погрузилась с головой…
Но вот наступил август 1952 года и день, когда, учитывая зачеты, истек срок моего заключения.
Всё же тут чуть было не произошла осечка.
Что поделаешь, раз и навсегда приняла я решение – никогда не задавать себе вопроса: «Что мне выгодно?» – и не взвешивать все «за» и «против», когда надо принимать решение, а просто спросить себя: «А не будет мне стыдно перед памятью отца?» И поступать так, как велит честь.
Глупость? Донкихотство? Может быть… Но это придавало мне силы и закаляло волю: у меня не было сомнений, колебаний, сожалений – одним словом, всего, что грызет человеку душу и расшатывает нервы.
Отчего опять, в который уже раз возвращаюсь я к этому рассуждению? Да очень просто! Ведь вся жизнь – цепь соблазнов: уступи один раз – и прощай навсегда душевное равновесие! И будешь жалок, как раздавленный червяк. Нет! Такой судьбы мне не надо: я – человек!
Так как же должен был поступить этот человек, когда ему предлагают подписать… «обязательство», что я порываю всякие отношения с теми, кто остался в неволе, и вдобавок обещаю забыть всё, что там было, что я там видела и пережила, и никогда и никому ничего о лагере не разглашать!
Ознакомившись с содержанием этого документа, я с негодованием отказалась его подписать…
– В неволе я встречала много хороших, достойных всякого уважения людей. Кое–кто еще там остается. Я сохраняю о них добрую память и буду рада быть им полезной! Забыть же то, что там видела и пережила, абсолютно невозможно! Даже проживи я еще сто лет!
– Но эта подпись – простая формальность!
– Подпись – это слово, данное человеком! И человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Я не могу так низко себя оценить!
И меня отвели обратно…
Но ненадолго:
– Керсновская! На выход! С вещами…
И вот я уже за вахтой. Хмурый, холодный день. Вернее, сумерки. Колючий морозный снег несется поземкой. Кругом белесая мгла. Я не оглянулась на 7–е лаготделение – я и без того знала, что и вахта, и ворота, и ряды бараков погружаются в снежную мглу. Впереди тоже ничего не видно, кроме вихрей сероватого снега. И где–то за этим белесым занавесом ждал меня чужой город – Норильск.
Но никто в этом городе не ждал меня…
НИНА ГАГЕН–ТОРН
Из книги «Второй тур»
«Время и пространство, пространство и время, – думала я, шагая по камере. – В начале XIX века Кант сформулировал их как координаты при постижении мира явлений. В начале XX века Эйнштейн доказал в теоретической физике относительность этих координат, а Герберт Уэллс, забегая вперед художественным прозрением, подумал о машине времени. Весь XX век человечество разрешает задачу овладения пространством и временем, невероятно ускоряя возможности передвижения в пространстве. И – лишает миллионы людей всякого пространства, заключая их в тюрьмы и лагеря. Это сдвигает у них координаты времени: время в тюрьме, как вода, утекает сквозь пальцы. Правильно ведь подметил Юрий Тынянов: Кюхля вышел из тюрьмы таким же молодым, как вошел. Он не заметил времени, потому что не имел пространства и пространственных впечатлений. Можно: или выйти таким же, как вошел, или, не выдержав, свихнуться… если не научишься мысленно передвигаться в пространстве, доводя мысль–образ почти до реальности. Заниматься этим без ритма – тоже свихнешься. Помощником и водителем служит ритм». Вспомнилось, как, на койке лежа в Крестах, я увидела Африку:
В ласковом свете
Платановой тени
Черные дети
Склонили колени
На пестрой циновке плетеной.
Дом, точно улей, без окон,
Рыжие пальмы волокна,
В синее небо вонзенной.
Солнце огромно,
И небо бездонно.
Что я об Африке помню?
Только случайные тени:
Бивней слоновых осколки,
Тонких и странных плетений
Вещи в музее на полках:
Щит носороговой кожи,
Копья с древком из бамбука,
Странно на что–то похожий
Каменный бог из Тимбукту,
Слово как свист: ассегаи.
Что я об Африке знаю?
Так отчего же так странно знакомы
Эти вот черные дети,
Листья в платановом свете,
Красной земли пересохшие комья?
Это оттого, что я сумела нырнуть в себя, собрав и сосредоточив в образе всё, что когда–то знала об Африке. И, для себя, довела этот образ до чувства реальности – выхода из камеры…
Я засмеялась своей власти над пространством… Подошла к женщинам, которые сидели в углу, как куры на насесте.
– Хотите, я вам прочту стихи?
– Очень!
И я стала читать, вперемежку свои и чужие.
В 37–м году с драгоценным другом моим, Верой Федоровной Газе, мы восстановили в памяти и прочли в камере «Русских женщин» Некрасова. Камера плакала вся.
В этот тур, в 48–м, память моя ослабела – выпадали куски, и не было помощника, с кем восстанавливать их. Но всё, что я помнила, камера впитывала так жадно, как воду – засохшая земля. Впитывали и твердили стихи те, что на воле никогда и не думали ни о стихе, ни о ритме. Теперь каждый день стали просить: «Прочитайте что–нибудь!» И я читала им Блока и Пушкина, Некрасова, Мандельштама, Гумилева и Тютчева. Лица светлели. Будто мокрой губкой сняли пыль с окна – прояснялись глаза. Каждая думала уже не только о своем – о человеческом, общем. А я вставала и начинала бродить по камере, отдаваясь ритму. Бормотала:
Если музу видит узник —
Не замкнуть его замками,
Сквозь замки проходят музы,
Смотрят светлыми очами.
Тесны каменные стены,
Узок луч в щели окна,
Но морским дыханьем пенным
Келья тесная полна.
Ты – вздыхающее море,
И в твоей поют волне
Девы–музы, звукам вторя,
Затаенным в глубине.
Волны бьют в крутые скалы
Многопенной синевой,
И тогда – какая малость
Плен с решеткой и тюрьмой!
Недаром знали шаманы, что ритм дает власть над духами: овладевший ритмом в магическом танце становился шаманом, то есть посредником между духами и людьми, а не овладевший кувырком летел в безумие, становился «менериком», как говорили якуты: впадал в душевное заболевание. Стих, как и шаманский бубен, уводит человека в просторы «седьмого неба». Такие мысли, совершенно отрешенные от происходящего, давали чувство свободы, чувство насмешливой независимости от следователя.
Был уже третий следователь у меня, и я с ним поссорилась. Отказалась подписать протокол, им написанный и полный чудовищных обвинений, которые я должна признать. Следователь перевел меня в карцер. Карцер, или бокс, как его называли тюремщики, – низкая каменная коробка без окна. У стены вделана деревянная полка, покороче среднего человеческого роста, на которой с трудом можно улечься. У противоположной стены – маленькая железная полочка, служащая столом. Расстояние между ними такое, чтобы мог встать или сесть человек. Это ширина бокса. Протянув руку – достанешь до железной двери с глазком и окошечком. Вентиляции нет. Смысл бокса в том, что очень скоро человек, использовав весь кислород, начнет задыхаться. В железной двери, у пола, есть маленькие дырочки, но сесть на пол, чтобы глотать идущий воздух, – не позволяют. Открывается глазок двери, и голос говорит: «Встаньте!»
Пленник мечется задыхаясь. Дежурный заглядывает в глазок примерно каждые полчаса. Когда видит, что у заключенного совсем мутится сознание, он открывает дверь и говорит: «В туалет!»
С радостью бросается туда заключенный. Пока идет до уборной и находится там – он дышит. Светлеет в глазах, яснеет сознание. Дверь бокса остается открытой, воздух входит туда. Его хватает примерно на два часа. После этого всё опять начинается сначала. В уборную водят три раза в день. После отбоя полагается лечь на полку–топчан. Если человек лежит – дежурный не видит, спит он или совсем задохнулся. Поэтому после отбоя пускают вентиляцию. Как работает она, я не знаю – звука нет, но дышать становится легче. Всю ночь можно дышать, это подтверждали все побывавшие в боксе, с кем я говорила. С подъемом опять начинается кислородное голодание. Цель его – замутить сознание. Но удушить совсем во время следствия нельзя, поэтому голодание кислородом регулирует часовой.
Выход из помутнения сознания можно найти, нырнув в образы, уводящие к ярким и ясным ощущениям простора, претворяя в ритм эти образы. Я постаралась уйти в свою юность на Севере. Вспомнила – доводя до предельной ясности воспоминания – и поплыла по великой и светлой реке Двине. И постаралась ритмизировать увиденное:
Широка прозрачность неба,
Отраженная в светлой реке.
Что тебе надо от жизни – потребуй
И в детском сожми кулаке!
Как сжимаешь ты гальку плоскую
Перед тем, как ее швырнуть
И следить, считая полоски,
Которыми чертит она волну.
Широки прозрачные плесы
На прекрасной реке Двине,
Мочат ивы зеленые косы
В прозрачной ее волне.
И, как лебеди, отплывают
От песчаных ее берегов
Черных карбасов стаи
На морской, на звериный лов.
Можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что неба и воздуха нет. Есть особая радость в чувстве освобождения воли, в твоей власти над сознанием. Кажется: вольный ветер проходит сквозь голову, перекликаясь через тысячелетие со всеми запертыми братьями. И все мы, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы. Так наткнулась я на духовного свободолюбца XVIII века, на уроженца Двины – Ломоносова. Стала думать о нем, и эти мысли пошли дальше, через все годы лагерей, давая чувство беседы с буйным и непокорным Михайлой. Я нашла себе оборону не только от душного карцера, но и от наступления на меня всего, что не вмещало сознание: изолировала себя, уходя в ломоносовщину. Это превращалось в поэму в течение пяти лет. Не знаю, стало ли это поэмой в литературном смысле, но это памятник моей внутренней свободы, это прием к неуязвимости души.
Но возвратимся в карцер. Я сидела там двое суток, и было неясно, сколько еще сидеть: следователь сказал, что пока не соглашусь подписать протокол.
Я не допускала мысли о подписи под нелепыми обвинениями, однако сорвалась, как говорят в лагерях, «запсиховала» – решила объявить голодовку. В 1937 году, по окончании следствия, я голодала семь дней, требуя снятия одиночной камеры и свидания с матерью.
Грозили новым сроком, орали, но на восьмой день уступили, выполнив то и другое. Я помнила, что голодовка – тоже взлет в иное сознание, чувство власти над своим телом. Но приступать к голодовке надо с собранной волей и твердым знанием того, чего хочешь добиться.
Теперь у меня этого не было. Была муть в голове, кислорода так не хватало, что даже образы простора перестали помогать.
В тот же день, когда я отказалась принимать пищу, меня повели в санитарный пункт. Посадили на стул, скрутили назад и связали руки.
– Будем кормить искусственно: вставьте расширитель, – сказал врач.
Я не сопротивлялась, да это было бессмысленно. Железный расширитель лязгнул по зубам, рот раскрыли и ввели кишку.
– Питательный раствор? – спросила сестра. (При длительных голодовках, когда начинали кормить искусственно, вливали питательный раствор – масло и яйца, взбитые с молоком.)
– Чего там, просто литр супу, – ответил врач.
Сестра молча стала лить через воронку красноватую жидкость. Голова была запрокинута, рот разжат расширителем, жидкость, переливаясь через край воронки, попала в дыхательное горло. Я потеряла сознание.
Очнулась в боксе, на топчане. Дверь была широко открыта, человек в белом халате делал мне какую–то инъекцию. Я заснула.
Когда очнулась, тело болело, сознание было не вполне ясным, но дышать было можно – значит, ночь?
Стукнуло окошко в двери, образуя подоконник. Положили пайку хлеба.
– Принимаете пищу? – спросил голос.
Я молча протянула руку и взяла пайку. На поднос поставили кружку с кипятком. Значит, утро. Скоро я ощутила его и по тому, что воздух перестал поступать. Бороться дальше? Можно бороться, можно пойти и на искусственное питание при нормальном дыхании. Без кислорода воля слабеет. «Просто задушат, как крысу», – подумала я. Есть не могла, болело оцарапанное горло, но в обед выплеснула суп под топчан, а не возвратила обратно. Они сломили меня.
Дальше провал в памяти, полузабытье. Вызвали через какое–то время к следователю, идти отказалась, пока не переведут в камеру. Еще какое–то время ушло. Потом перевели в камеру и сразу вызвали оттуда к новому следователю. О подписании прошлого протокола вопрос отпал. В камере мне сказали, что прошло четверо суток. Они волновались за меня.
Серым клубком покатились будни: январь, февраль, март.
Все койки давно заняты. Женщины свыклись друг с другом, с бегущими днями.
Утром: хлеб, кипяток, уборка камеры. Ожидание: не вызовут ли кого на допрос?
Обед: выстраиваемся с мисками. Вносят баланду, перловую кашу. Поели. Опять ожидание – когда поведут на прогулку?
Тишина. Глухая тишина во всем мире. Разговаривать позволяют лишь шепотом. Зажигается свет. Подходит ужин. Будет или не будет прогулка? Вызовут или не вызовут на допрос? Иногда никого не вызывают. День кончается. Отбой. Постель. Забытье.
Но и ночью знаешь: может щелкнуть замок, голос назовет фамилию. Чью? Тебя или соседку вызовут ночью на допрос?
«Я!» – вскакивает названная. «К следователю!» Судорожно собирается. Со всех коек смотрят взволнованные глаза, двигаться не полагается. Под сочувственный вздох камеры вызванная погружается в лабиринт коридоров. Камера замирает.
Я помнила: в 37–м году с допроса возвращались потрясенные, доведенные до катаклизма страдания люди. В 37–м прорезал иногда тишину страшный крик. Теперь этого не было. И на допросах не держали по суткам, как тогда: к утру всегда возвращалась допрашиваемая. Дневные допросы тоже не длились больше пяти – шести часов. Камера ждала; складывали фигурки из спичек, делали бусинки из хлеба, распускали чулки, чтобы потом вышивать или штопать. Прислушивались; шел день. Щелкал замок: возвращается!
Чуть побледневшей приходила Мария Самойловна, бросала несколько скупых слов, садилась на кровать – партийная выдержка!
Валя возбужденным шепотом рассказывала о брани и грубых насмешках следователя.
Аня восклицала, вернувшись: «Опять про 28–й год! Про университетскую оппозицию в Одессе. Ведь уже двадцать лет прошло! На трех партийных чистках и у меня, и у мужа спрашивали. Когда же дойдут до дела?»
Собирались на соседних кроватях, оглядываясь на волчок, шептались: как вел себя следователь? На каком этаже была? Что удалось подметить, проходя по тюрьме? Пытались уловить ход мясорубки, перемалывающей судьбы. Молола – усовершенствованно: пятен крови не видно.
Щелкнул замок:
– Смирнова Валентина Андреевна.
– Я!
– С вещами!
Все вздрогнули. Валя стала торопливо собирать вещи, спрашивая шепотом:
– Что это? Что это? Куда?
– Наверное, на волю, Валюша, – утешала Надежда Григорьевна, помогая увязывать узелок.
– Вернее – в другую камеру, – скупо сказала Мария Самойловна.
– Но почему?
– Разве вещи знают, почему их переставляют? Мы – вещи, – ответила я.
– Что мы знаем о следующем часе? – подтвердила Мария Самойловна.
Торопливо: объятия, объятия. Валя вышла. Мы сидели, глядя на опустевшую койку, в урочный час выпили кипяток. Ждали: кого еще?
Человек не может быть в постоянном напряжении. Казалось бы: надо ждать неизвестного каждую минуту. Но мы ждали несколько часов, а потом начали развлекать себя – вышиванием из старых ниток, гаданием на спичках, заплетением кос, разговорами. Будто и не придет сейчас неожиданное.
Но лязгнул замок. Все вздрогнули. На этот раз впустили высокую светлоглазую женщину с пледом в руке. По тому, как оглядывалась, остановилась, – все поняли: с воли. Подошли. Она отвечала по–русски с трудом. Оказалась эстонка из Таллина. Я заговорила с ней по–немецки, она как–то успокоенно ответила. На меня зашикали:
– Вы что? Вам не хватает шестого пункта? (Шпионаж.) Нельзя по–немецки!
Но заключенные умеют понимать друг друга почти без слов: мы скоро узнали ее историю.
– Как можно отказать отцу, когда он хочет взять к себе детей? – спрашивала она. – Как я могла не помогать брату взять детей в Америку? Их мать умерла, не дождалась мужа, дети остались со мной. Конечно, я была в американском консульстве! Сколько лет брат искал своих детей! Он уехал на заработки еще из буржуазной Эстонии. Потом она стала советской, потом пришли немцы. Он не знал, что сталось с женой и детьми, искал их. Когда пришли Советы – нашел, узнал, что жена умерла, дети у тетки. Умолял ее помочь отправить их в Америку. Разве это есть шпион? – спрашивала она, смотря прозрачными удивленными глазами.
Мы молчали. Она верила, что это недоразумение. Больше всего ее ужасало вначале, кого она встретит в тюрьме: воровок, бандиток, преступниц? Увидела – обыкновенные женщины; жили, постепенно приспособляясь: стирали трусы и платки под краном в уборной, штопали иголкой из рыбьей кости (металлических острых предметов в камеру не давали), учили друг друга мережить. Она оттаивала, улыбка добрела, но в глазах росло недоумение: что всё это значит? За что сидят эти женщины?
Март подходил к концу. В тюрьме ход зимы, ход Земли к весне чувствуется по мелким приметам: пробился в камеру, стал задерживаться на серой стене узкий солнечный луч, как прожектор осветил трещины в масляной краске, потеки на потолке. Заплясали пылинки. Форточку откроют, и слышно восторженное чириканье воробьев. Их не видно, железный щиток закрывает окно, но за щитом – воробьи прославляют весну. На прогулке черный проугленный снег в колодце двора таял под ногами. На водосточных трубах – ледяные сосульки. Поднимешь глаза – в синеве взбитой пеной плывут облака. Перемены в свете и воздухе, не заметные людям, занятым делами на воле, становились событиями в тюрьме – внимание обострено. Мы научились определять время по передвижению тени оконной решетки, людей – по вздергу губ или пойманному взгляду.
После обеда вызвали на допрос Аню. Вернулась вечером. Руки у нее тряслись, быстрые темные глаза округлились.
– Подписала окончание следствия! – воскликнула она, садясь на кровать. – Была у прокурора и подписала! Никаких новых материалов, только про двадцать восьмой год!
– Ну, значит, освободят, – радостно сказала Надежда Григорьевна.
– Значит…
Опять лязгнул замок:
– Гаген–Торн.
– Я!
– Как зовут?
– Нина Ивановна.
– К следователю!
Подняли в лифте, повели коридорами, опустили в лифте на один этаж. Опять коридорами… В них уже не было ничего тюремного: сияющий паркет, покрытый ковровой дорожкой, сияющие медные ручки белых дверей. Кабинет. Такой же солидно сияющий. Огромные окна, кожаная мебель. Два следователя: мой, молодой, и другой, пожилой.
– Садитесь, – сказал мой, как всегда не подпуская близко к столу. – Вы продолжаете утверждать, что не вели антисоветской деятельности?
– Не вела.
– И первый срок отсидели зря?! А показания, которые на вас имеются?
– Какие показания?! Я не видела никаких показаний!
– Как это не видели! Вот они, показания! – он постучал по папке рукой. – А вы утверждаете, что не видели! А?!
– Ничего мне тогда не показывали! – вскричала я. – Если бы видела, хоть знала бы, за что сидела на Колыме.
– Чушь городите, – рявкнул следователь, – не верю!
– Говорю вам, что не видела, – заорала я, – если они есть – покажите!
Другой, пожилой, сказал:
– Знаешь, в тридцать седьмом их не показывали. Может, и не видала.
– Ну–у? – удивился молодой. – Как это? Ну – смотрите!
Он вынул из папки и протянул мне лист. Прочла:
«Протокол допроса Ш… Ноэми Григорьевны, 1901 г. рождения». Я вздрогнула: Нама. Она так сердечно, так дружески отнеслась ко мне, когда я в 1945 году приезжала в Ленинград искать, не сохранилась ли моя диссертация. Мы знали друг друга со студенческих лет, учились у Богораза и Штернберга; вместе начали работать в музее… Что ее спрашивали? В 45–м году она так участливо расспрашивала о Колыме, я знала, что ее брат тоже там в лагерях, рассказала всё, что слышала о нем. Мы вспоминали молодость, она пригласила меня в Филармонию, дала карточку в академическую столовую на те дни, что я была в Ленинграде. Что может быть плохого для меня в ее показаниях?
Стала читать. Да, несомненно, писал не следователь, точнее, следователь со слов этнографа, так сформулирована тематика и подготовка к 1–му этнографическому совещанию, которой я занималась в 28–м году. Но что это? «Мне известно, что у Гаген–Торн на дому были нелегальные сборища, на которых я присутствовала один раз. Там обсуждалось, как объединить этнографическую научную молодежь против коммунистов. Гаген–Торн призывала к этому, подготовляя нелегальную программу совещания. Она отличалась антисоветскими настроениями, брала темы по древним пережиткам, не желая заниматься современностью…»
– Позвольте! – возопила я. – Археологи все занимаются древностью, и никто не видит в этом антисоветских настроений! Никаких нелегальных сборищ не было! Если бы тогда, в тридцать седьмом году, мне показали это! Так просто было доказать!
Теперь, после войны и блокады, почти никого не осталось в живых, но в 37–м году были люди, которые могли подтвердить, что было на совещании у меня в квартире! Я вся дрожала от возбуждения.
– Был жив Николай Яковлевич Марр, был жив Михаил Петрович Кристи, который поручил мне подготовить программу всесоюзного совещания…
– Кто такой Кристи? – насторожился следователь, схватив перо.
– Вам бы надо знать! – сердито сказала я. – Это был зам. наркома по делам науки и высшей школы.
– Был такой, – подтвердил пожилой следователь.
– Он поручил нам подготовить программу.
– Почему же вы собирались на частной квартире?
– Да потому, что я была в декретном отпуску, дохаживала последние дни до родов, вот и пришли ко мне. Если бы мне дали эти показания в 1937 году! Так просто было бы доказать!
– Теперь всё это не имеет значения, за прошлое вы отбыли срок наказания. Нет смысла его поднимать.
– Как нет смысла! Как нет смысла? Обвинения отпадут, и станет ясно, что это ошибка!
– Вас тем необходимее изолировать. Раз вы считаете это ошибкой – разве вы простите, что вам испортили жизнь? Ясное дело: вы стали врагом советской власти.
– Позвольте! – закричала я, но мой, молодой, поднялся:
– Не стоит об этом говорить! Допрос окончен. Пойдем к прокурору.
Он позвонил часовому. В сопровождении солдата мы пошли длинным коридором.
Еще импозантнее приемная: сияющие дверные ручки, сияющий паркет, пестрый ковер на полу, мягкие пружины кожаных кресел.
Такой же пружинящий, приглаженный человек в сером костюме. От возбуждения я заметила не лицо, только блеск пенсне и блеск пробора.
– Гражданин прокурор! Мне только что показали обвинения тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Я хочу просить о пересмотре дела. Я всё могу опровергнуть. Я прошу…
– Да, да, мы рассмотрим, если понадобится… Вы считаете следствие законченным? – спросил прокурор следователя.
– Законченным, товарищ прокурор!
– Ну что же – прочтите последний протокол, – сказал прокурор, – подпишите, что вы уведомлены об окончании следствия, – он протянул мне бумажку.
– Но я не согласна! Оно не кончено – надо рассмотреть эти показания!
– Мы посмотрим, посмотрим… Это не имеет значения.
Он прошел в другую дверь, за приемную.
Часовой сказал:
– Пройдите!
И меня увели. Коридорами, лифтами, опять коридорами. Он отвел меня в камеру.
Я записываю факты. Мне самой теперь они кажутся неправдоподобными: как могло быть, что десятки тысяч людей отправляли в лагеря без суда, без проверки случайных показаний обвинения? Как могла существовать машина особого совещания? Кто додумался до создания этой машины? Это менее понятно, чем процессы ведьм в средние века: те вытекали из общего мировоззрения, а это стояло в противоречии проповедуемому мировоззрению. Но – было! Память объективно и точно передает совершавшееся. Прошу верить: я веду записки как исторический документ для будущих поколений, в них нет ни прикрас, ни искажений. Это не агитка, не беллетристика, это запись о прожитом, это попытка наблюдателя точно фиксировать виденное. Так, как привыкли мы, этнографы, во время полевых работ.
* * *
Подписавших окончание следствия переводили в пересыльную камеру, а потом, через несколько дней, для ожидания этапа перевозили в пересыльную тюрьму. В Ленинграде – в Кресты, в Москве – в Бутырку.
В пересылках – другой режим, чем в следственной: можно хоть целый день лежать на кровати, разрешена переписка с волей, приносят книги, можно, если, разумеется, есть деньги на лицевом счету, заказать из ларька продукты.
Приговор – лотерейный билет: никто даже не пытался найти объяснения, почему одни получали 10 лет, другие – 8, третьи – 5. Срок наказания – карты в азартной игре, где ставка – судьба человека.
Мы, повторники, знали, что не вернемся на волю, и всё–таки это казалось бредом.
Можно ли передать сон, бред? Лев Толстой великолепно передал бредовый сон князя Андрея.
Но я чувствую бессилие передать существовавшую в действительности бредовую камеру, я лишь попытаюсь вылупить из сознания, как яйцо из скорлупы, происходившее.
Большая, окрашенная мутно–коричневым цветом, длинная комната. В конце ее такой же мутный свет окна мельтешит, ломаясь с неугасимой лампой под потолком. Комната заставлена голыми деревянными нарами. На них рассованы чемоданчики, вещи, пальто. Сорок или пятьдесят женщин сидят и бродят по камере, знакомятся, непрестанно рассказывают ход своего дела, спрашивают: «Что будет? А? Что будет?»
Калейдоскоп женских лиц. На лицах – то пустота и безглазие, то вдруг выступают такие тревожные, освещенные скорбью глаза, что ничего, кроме них, уже и не видишь.
Смутное движение толпы. Кто эти женщины? Старые и молодые, работницы, интеллигентки, домохозяйки, студентки, они – глина, смятая и приготовленная к лепке. Ползет день. Отбой укладывает всех на нары и создает тишину. Подъем – начинается движение.
Как ковш, вытягивающий рыбину из живорыбного садка, голос из двери вытягивает, называя фамилию: «С вещами!»
Это ведут подписывать приговор. Потом уж не вернут в камеру.
Человеческой душе трудно выносить бессмыслицу, память старается стереть ее. И мне трудно восстановить бессмысленный ритуал объявления приговора. Но – надо.
Ковш выхватил меня из живорыбного садка «с вещами». Проводят через обыск. Раздевают догола, осматривают каждую складку тела, каждый шов одежды. Потом – в бокс. Не тот, без воздуха, где я сидела, а просто в узкую, окрашенную темно–коричневой краской, комнату, какие бывали на старых вокзалах. По коридору гулко слышны шаги и голоса – всё время кого–то куда–то ведут, щелкают замки дверей.
Под потолком тускло горит лампочка. Как передать ожидание? Это не то ожидание, что перед опасной атакой или бомбежкой, где напряженно активен; не ожидание, когда близкий человек под ножом хирурга, – там ты веришь в разумность совершающегося; не ожидание наступающего стихийного бедствия – там ты готовишься, изыскиваешь шансы к спасению. Это, пожалуй, состояние мыши, попавшей в капкан. Ты – мелкое пойманное животное в руках слепой и всемогущей силы. У тебя бьется сердце, оно знает: пощадить может только случай.
Ах, я полюбила животных с тех пор братской любовью: я поняла их состояние безответной беспомощности!
Всеми нервами чувствуешь: за длинным рядом дверей другие, такие же, как ты, тоже ждут, и мы – в руках слепой силы.
Начала осторожно постукивать в стенку. Отвечает! Азбука тюрем.
– Кто вы?
– Женщина из десятой камеры. Ожидаю приговора.
– Аня?
– Кто стучит?
Называю фамилию. У сидевших в одной камере образуются свои сигналы, они легко отличают своих от «наседки» – специально подсаженного человека.
Слышу – правда, Аня, но…
Щелкнул замок камеры. Тишина. Шаги в коридоре…
Наконец повернулся ключ в моей двери:
– Проходите! Вещи оставьте.
Повели коридорами.
– Войдите!
Почти пустая комната. За черным школьным столом два человека с кипой папок, стопкой узких печатных повесток.
– Садитесь, – сказал голос. Лица не видела: сидело безликое, серое, в гимнастерке. – Прочтите и распишитесь.
Протянул узкую полоску бумажки, вроде пипифакса, на которой отпечатано: «Постановление Особого Совещания от …
марта 1948 г. Гр. ………. присуждается к отбытию срока наказания в исправительно–трудовых лагерях на … лет».
В многоточиях от руки: день заседания, фамилия заключенного, срок наказания.
«Если пять – еще выдержу», – мелькнуло у меня. Поставлено «пять» – повезло!
Особое совещание давало срок на основании протоколов, без суда, без опроса обвиняемого. Расписалась, и ритуал окончен. Отвели обратно, к вещам. Откуда–то из конца коридора неслись рыдания – женщина вопила и билась в железную дверь. За другими дверями – молчание. Щелкали замки. Выводили и приводили. Производство было серийным. Из соседней камеры постучала Аня. От нее я узнала что Мария Самойловна получила 10, а она, Аня, – 8 лет.
Утихли замки и крики. Потекли часы – сколько? Время определялось тем, что внесли кашу: значит, ужин. Опять открылась дверь: