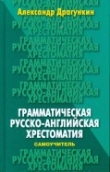Текст книги "Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе"
Автор книги: Семен Виленский
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
А кругом вода!
Весь луг до самого горизонта усеян озерцами, и эти озера будто усеяны какими–то темными точками. Что это такое?! Неужели…
Перевожу взгляд на озеро, расположенное неподалеку и подходящее к самой железнодорожной насыпи. И всё становится ясно.
О том, что в Африке бегемоты проводят жаркое время дня в реках, я слышала, но чтобы подобным образом поступали коровы – нет, этого я не знала! Но это так. Да, это коровы! Они входят в воду и погружаются в нее так, что на поверхности виднеются лишь ноздри. И – рога. Даже уши – уши, которые каждое животное бережет от попадания в них воды, – находятся под водой.
Нет, это не жара заставляет их нырять! Я вспоминаю: бич Сибири – это гнус: комары, мошка, всякие мухи, оводы, слепни… Одним словом, всё то, что известно под общим, собирательным именем (и вполне заслуженным) – гнус.
Но в озере купались не одни коровы. Наши конвоиры, кроме, разумеется, тех, кто был на посту, резвились в воде, как дельфины: голые тела, хохот, брызги. А тут рядом, в соседнем вагоне, женщина, та, что родила во Флорештах, высунувшись из окна (в их вагоне окна были, как в 4–м классе, а не как в товарных), монотонным голосом обращается с одной и той же просьбой ко всем военным, проходящим мимо. Она просит воду. Воду для того, чтобы выкупать ребенка и простирнуть пеленки.
В голосе ее отчаяние и вместе с тем покорность. Снова и снова обращается она к часовому. Никакого внимания! Да это и неудивительно: она, хотя и указывает на ведро, но говорит по–молдавски…
Хочу верить, что он ее просто не понимает.
Вот он поравнялся с нашим вагоном.
– Товарищ боец! – обращаюсь я к нему. – Эта женщина родила в поезде. И вот пошла уже вторая неделя, а ребенок не купаный и пеленки не стираны. Распорядитесь, чтобы ей разрешили постирать тряпки, а то ребенок заживо гниет!
Никакого внимания. Будто и не слышит.
Дожидаюсь, когда начальник эшелона проходит вдоль поезда и повторяю просьбу, заклиная его проявить человечность и не губить неповинного младенца.
– Это не ваше дело! И не суйтесь со своими советами!
Кровь ударила мне в лицо. Что–то сжало виски.
– Ребята! – крикнула я. – Поможем этой женщине и ее ребенку. Василика, Ионел, станьте у дверей и, как только я скажу «gata» (готово), нажмите, чтобы она откатилась, а вы, Данилуца, держите меня за ноги, чтобы я не вывалилась, а когда я крикну «тащи», тогда и тащите.
Затем, высунувшись из окошка, я обратилась к женщине из соседнего вагона:
– Приготовь ведро: сейчас подам тебе воду!
Вооружившись большим зонтиком – полотняным, с большим крючком (его дала попадья – доамна [26]Греку), я нырнула в окошко. Оно было очень узким. К счастью, я хорошо натренировалась дома, где было такое же узкое окошечко.
Всё прошло как нельзя лучше: крючком зонтика я подхватила засов, выдернула его и крикнула «Gata». Дверь, поскрипывая колесиком, поползла. Я выпрыгнула. Солнце ослепило меня, и от вольного воздуха дух захватило! Прыжок – и я у соседнего вагона. Хватаю ведро и в три прыжка я уже у воды, зачерпнула ведром и, расплескивая воду, карабкаюсь вверх по насыпи.
Боже мой! Вот переполох поднялся! Из воды выскакивают купальщики и голышом бегут ко мне. Но дудки! Я уже у вагона, вытягиваясь на цыпочках, подаю ведро в вагон, проливая почти половину в свои рукава.
От головы поезда несется начальник эшелона и орет:
– Товарищ Соколов! Почему не стреляете?
Конвоир, бегущий с другого конца эшелона, в тон ему кричит:
– А вы сами, товарищ старший лейтенант, почему не стреляете?
Я стою, скрестив руки. Не стоит возвращаться в свой вагон.
Зачем навлекать неприятности на товарищей? С двух сторон меня хватают за руки и с проворством, достойным лучшего применения, надевают наручники. Так, не доезжая Омска, я впервые познакомилась с тем, что всегда считалось символом жандармского произвола: наручниками! Затем меня засунули в какой–то железный шкаф с коленчатой вентиляционной трубой, находящийся в последнем, служебном вагоне.
– До прибытия на место будешь в карцере!
Ага! Значит, это и есть карцер? Что ж, тесновато. Но вентилируется неплохо. Даже приятно. А чтобы скоротать время, можно петь. Репертуар у меня богатый. И голос был неплохой. Можно отвести душу! Откровенно говоря, мои вечно вздыхающие товарищи по несчастью успели здорово мне надоесть, и я решила насладиться этим одиночеством. Вот только наручники…
Чертовски неприятно, когда запястья прижаты вплотную одно к другому. Я и золотой браслет, подарок бабушки, никогда не носила за его сходство с кандалами.
Часа через два я уже добралась до украинских песен и старательно выводила:
Казал козак насыпаты высоку могылу,
Казал козак посадыты в головах калыну.
Дверь отворилась и меня вывели пред светлые очи начальника эшелона.
– Ну что, Керсновская, будете и впредь проявлять неподчинение?
– Обязательно! Обещаю всегда помогать тем, над кем вы издеваетесь!
СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО В «БЕСКЛАССОВОМ» ГОСУДАРСТВЕ
Странные мысли бродили у меня в голове… Мне кажется, что слова «Родина в опасности» могут и должны иметь лишь один результат: все внутренние разногласия должны быть забыты. Нужно одно: прежде всего победа. Любой ценой, любой жертвой!
Теперь кажется даже невероятным, что я могла быть до такой степени наивной. Мне казалось, что перед лицом народного бедствия мы все равны и классовый антагонизм должен замолкнуть. Я еще не знала, что в Советском Союзе всё население разделено на огромное количество классов и каст, враждебных друг другу. Есть партийцы высшего сорта – авгуры; есть партийные руководители, которые обязаны притеснять всех стоящих ниже, будучи сами использованы как исполнители партийных директив: у них нет своей воли, но есть власть. Значительно позже я выяснила, что есть еще одна разновидность партийных: это те, у которых нет ни воли, ни власти, но есть партбилет. Они нужны в роли барана–предателя. Как известно, бараны покорно следуют за тем бараном, который идет впереди.
Впрочем, полного сходства в поведении барана обычного и партийного нет: партийный отлично знает, что, когда от него потребуют на собрании выступить с почином – безразлично, потребует ли он увеличения производственной нормы, снижения оплаты или послужит примером сознательности, попросившись в отстающую бригаду, – всё это делается для того, чтобы стадо без ропота поддержало инициативу, то есть пошло, не рассуждая, за партийным бараном.
И есть еще стадо – беспартийные. Но и эти неодинаковы. Есть беспартийные – лоцманы, сопровождающие акул; есть беспартийные – роботы и есть беспартийные – слякоть. Ни те ни другие не имеют права думать, но первых выдвигают, а иногда и принимают в партию.
ДЕТИ В ЛЕСУ
Нет, речь идет не о Мальчике–с-Пальчик и не о Ване и Маше, а о детях 11–14 лет из поселков Черкесск и Каригод. Это школьники. Они обязаны работать на лесоповале. Как и мы, бессарабцы, сосланные в нарымскую тайгу и работающие на лесозаготовках на берегу Анги.
Специальной детской нормы нет, а выполнить обычную человеческую норму, которую справедливость требует назвать буквально «нечеловеческой», разумеется, им не под силу. Эта работа дает детям право купить себе пайку хлеба в 700 грамм. Но даже если бы они предпочли свой иждивенческий паек хлеба в 150 грамм, им бы этого не разрешил леспромхоз, крепостными которого является всё местное таежное население.
Больно смотреть на этих малышей в отцовских картузах и материнских кофтах, ловко орудующих лопатами и поразительно сноровисто откатывающих стягами лесины!
Четырнадцать таких мальчишек и девчонок даны мне для выполнения вспомогательных работ на прокладке узкоколейки.
Они дети. Но вместе с тем есть в них что–то взрослое: все эти дети родились кто на Украине, кто в Алтайском крае и пережили ужасы раскулачивания и ссылки. Здесь главным образом «улов» 1937 года, хотя есть и с 33–го. (Первый «улов» – 1930 или 1931 года – едва успели нарыть землянки и почти все поумирали.) Кое–что они помнят: некоторым было уже по 5–7 лет. Это, равно как и жизнь на «новой родине», наложило особый отпечаток на них, на их не по–детски серьезные разговоры.
Каждый рассказывает мне вкратце историю своей жизни, мытарства семьи, кто и где умер…
А как дети ждали 1 сентября – начала занятий в школе! Но пришло 1 сентября, и начальник леспромхоза отменил на этот год школу: «Война! Пока не унистожим фашистов – никакого учения. Надо работать!»
В ту зиму работали все. И самые слабенькие ребятишки – одиннадцатилетний чахоточный Володя Турыгин и десятилетняя Валя Захарова – были счастливы, что им досталась «легкая» работа кольцевиков. В любую погоду – и в пургу, и в пятидесятиградусный мороз – ходили они с сумками почты: отчеты, рапорты, доносы – из Усть–Тьярма в Суйгу, больше пятидесяти километров в один конец. И за это получали право покупать себе 700 грамм хлеба!
Я не берусь судить о том, как обстояло дело на других лесоразработках; а говорю лишь о том, что было в Суйгинском леспромхозе, где начальником был Димитрий Алексеевич Хохрин. Как только разнеслась весть о том, что нашим начальником будет он, то люди – взрослые мужчины, черт возьми, лесорубы – плакали в отчаянии…
– Ну, теперь мы все и наши семьи погибли! – говорили они.
Самодержавие – в любом масштабе – зло, так как власть над людьми побуждает к злоупотреблению властью; если же, как в данном случае, «самодержцем» является садист, к тому же помешанный…
Норма, которая до Хохрина была 2,5 кубометра, была вначале повышена до 6 кубометров; затем он провозгласил военный график и потребовал 9 кубометров на человека, а под конец «принял обязательство», равное 12 кубометрам! Как могли люди, голодные, истощенные, вынужденные, как это было с нами, бессарабцами, работать на непривычном для нас морозе, выполнять подобные нормы? Одну норму приходилось выколачивать за несколько дней.
«ПИРОГИ»
Дед Кравченко подарил мне пару старых шубенных рукавиц. Какое счастье! Ведь до того я работала голыми руками, заматывая руки тряпками. Обмороженные руки покрылись сначала пузырями, затем язвами. Тряпки приклеивались, и каждый раз, отрывая тряпки, я бередила раны. Топорище всегда было в крови.
Как–то, получив аванс 5 рублей, которых должно было хватить на неделю, но никак не хватало, потому что только за хлеб приходилось платить 96 копеек, я задержалась в прихожей конторы, положив рукавицы на окно.
– Домнишора [27]Керсновская! – услышала я за собой тоненький голосок, и из темноты в освещенное луной пространство шагнула маленькая детская фигурка, закутанная в телогрейку, и я узнала младшую дочку Цую. Худенькая, вся прозрачная.
Я знала, что ее отец, типичный румынский чиновник, весьма чадолюбивый мещанин, в последнее время буквально озверел от голода и поедал весь свой паек сам, а детей – двух маленьких девочек лет восьми и десяти – кормила мать, болезненная женщина, работавшая уборщицей и получающая как служащая лишь 450 грамм хлеба и два раза в день по пол–литра супа. Но дети как иждивенцы на суп не имели права и получали лишь по 150 грамм хлеба! Местные иждивенцы могли хоть кое–как сводить концы с концами, имея хоть убогое, но подсобное хозяйство: крохотный огородик, корову, овцу. Кроме того, они всё лето заготавливали ягоды, грибы, орехи, а мальчики, даже совсем крохотные, умели рыбачить, ставить пади на глухарей… Но положение наших иждивенцев… О, это был кошмар! Они медленно умирали, и это была ничем не оправданная жестокость!
Девочка – кажется, ее звали Нелли – была очень ласковая, хорошо воспитанная, вежливая, тихая и терпеливая.
– Домнишора Керсновская! – повторила она. – Может быть, для вас это слишком много? Может, вы бы уступили один из них нам с сестрой?
– Что уступить? – спросила я, беспомощно озираясь.
Девочка смотрела куда–то мимо меня и бормотала:
– Они такие большие… Я думала… нам с сестрой…
– Но что же? Я не понимаю…
– Пироги… Они… Может быть, вам одного хватит?
Я повернулась туда, куда смотрела девочка. И поняла: на подоконнике, освещенные луной, лежали мои пухлые коричневатые шубенные рукавицы.
– Девочка ты моя милая! Да это же не пироги, а рукавицы!
– Ах!
На глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах… Она закрыла лицо и судорожно всхлипнула. Вся ее фигура изображала такое горькое разочарование, что, будь у меня хоть один–единственный пирог, я бы ей его отдала.
Я была голодна, мучительно голодна, но ни тогда, ни позже, даже на грани голодной смерти, я не испытывала звериного эгоизма.
Я НИ РАЗУ НЕ СМОЛЧАЛА!
Очень любил Хохрин проводить собрания. Сгонит, бывало, смертельно усталых, голодных лесорубов в клуб и начинает. И всегда одно и то же:
– Фашистов мы унистожим, – именно так он произносил это слово. – А для этого необходимо…
И тут же преподносит или увеличение норм, графика или обязательства, или урезку оплаты труда в пользу армии, или еще что–нибудь, например повышение качества древесины, то есть еще больше сжигать, оставляя лишь отборную.
Все молчат… Кто осмелится спорить?!
Нет! Как перед Богом скажу, положа руку на сердце: ни разу, ни одного–единственного раза я не смолчала!
…И вот опять собрание. После традиционного заявления о том, что фашизм будет «унистожен», Хохрин объявил:
– Наш рабочий коллектив решил помочь нашей доблестной Красной Армии: я наложил бронь на сорок мешков пшена, которое будет отправлено в действующую армию. Решение принято единогласно.
– Нет, не принято! – вырвалось у меня…
Я слишком изматывалась на работе, чтобы иметь силы как–то общаться с местным населением, бывать у людей в домах. Но в тех редких случаях, когда я заходила в дома, где были дети, то, что я видела, приводило меня в ужас.
Однажды я зашла к Яше Наливкину, нашему возчику. Работал он старательно, но явно через силу. Одутловатое лицо, мешки под глазами, дрожащие руки… Жена его редко выходила на работу.
– Болеет! – говорил Яша.
И вот я зашла в его лачугу. Зашла – и отшатнулась. Поперек широкой кровати лежало шестеро детей. Убитая горем мать, сгорбившись, сидела на табуретке и тупо глядела на своих детей. Детей?! Да разве можно было назвать детьми этих шестерых воскового цвета опухших старичков? Лица без выражения, погасшие глаза… Мать – еще молодая, но может ли быть возраст у такого страдания?
Обреченностью пахнуло на меня от этой картины. А ведь Хохрин каждый день угрожал и Яшу лишить пайки за то, что он «саботирует», не выполняя нормы!
…Об этих ребятах и подумала я тогда, когда встала и сказала:
– Нет, не принято! – и, не дожидаясь, взошла, почти вбежала на помост к трибуне. – Отослать сорок мешков крупы, доставленных с таким трудом на край света, в непроходимые болота, отослать их в армию – просто нелепо. Здесь они крайне необходимы… Мы работаем для армии: мы сами – тоже армия, трудовая армия, и, уничтожая ее, вы способствуете уменьшению обороноспособности страны! Мы, рабочие, можем еще подтянуть пояса потуже и урезать себе паек. Пусть мы будем еще более голодны, но пусть эти сорок мешков из здешней базы распределят по всем вашим точкам, где имеются дети. Пусть эти дети получат по сто, пусть даже по пятьдесят грамм в день. Это, и только это, может их спасти от неминуемой гибели!
– Правильно! Верно! Пусть дети получат крупу! – как одной грудью прошептал весь зал. До чего велик был страх!
– Керсновская! То, что вы говорите, преступление! Вы агитируете против Красной Армии! Это саботаж! – завопил не своим голосом Хохрин.
– Как? Дать сто грамм крупы умирающему ребенку – преступление? Сегодня я видела, как ваша жена без всякого ограничения покупала разных круп для вашей Лидочки, не говоря уж о том, что она из пекарни носит муку наволочками. И это не преступление? Да неужели вы не замечаете, что когда ваша корова и бык, возвращаясь с водопоя, испражняются, то в их помете – непереваренный овес, тот овес, который должен был пойти на крупу в наш суп? А в этом супе крупинка за крупинкой бегает с дубинкой. И это всё не преступление?!
– Вы ответите за вашу провокацию! – зашипел Хохрин. – Собрание закрыто! Расходитесь!
Да, за это выступление я расплатилась сполна. Уж и написал он «турусы на колесах» в очередном доносе! Я, оказывается, препятствовала энтузиастам, желавшим помочь Красной Армии, и призывала к саботажу.
ШАГ ЗА ШАГОМ ИДУ К КОНЦУ
Если бросить камень, то сначала он летит с большой скоростью, почти параллельно земле, затем скорость его убывает, и он по дуге приближается к земле, куда падает почти вертикально и, немного покатившись, замирает.
В эти февральские дни 1942 года я была уже на той части траектории, которая круто идет вниз.
…Первым долгом я направилась в контору, ведь нужно было сказать, что я ушла с работы! Иначе моя невыполненная норма ляжет на плечи Миши и Вали, и они не только не получат пирогов с брусникой, но и основная пайка будет им урезана.
Я сказала, что заболела, у меня жар и мне было плохо, что бригадир отправил меня, пока я еще держалась на ногах. Хохрин сидел, ссутулясь, за своим письменным столом и барабанил скрюченными, как паучья лапа, пальцами. Ни один мускул не дрогнул на его лице.
– Ступайте обратно, Керсновская, возвращайтесь на работу, – проскрипел его лишенный выражения голос, – и не прекращайте работу, пока норма не будет выполнена…
Вечером, когда открылся магазин, я вместе со всеми пошла в очередь за пайкой. Когда подошла моя очередь, продавец Щукин сказал мне:
– Для вас пайки нет! Хохрин вычеркнул вас из списка на получение хлеба.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Да! Могильная плита захлопнулась. Выхода нет. Впереди – смерть. Мейер Барзак мог валяться в ногах у Хохрина и целовать его сапоги, я нет.
Весь этот день 26 февраля я лежала пластом в каком–то лихорадочном полузабытьи.
Но вот в пустой барак вошли какие–то тени. Сон?! Нет, это женщины. Здешние, суйгинские. Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном. Я слышу отдельные фразы, хоть не разбираю, кто и что сказал:
– Ты умираешь, Фрося, ангельская твоя душа! Ты за правду стояла, жалела нас и деток наших… Господи! Буди милостив к рабе Твоей Афросинии! Пошли ей легкую кончину и жизнь вечную во Царствии Небесном! Однако женщине срамно быть похороненной в мужском обличии, и мы принесли тебе всё, чтобы обрядить в могилу. Вот тут и медные пятаки, чтоб глаза закрыть; вот кто что может тебе на заговенье, а вот и свечка восковая…
В руку мне вложили восковую свечку, зажженную. Затем, крестясь и кланяясь, женщины ушли. Проходя мимо изголовья, они земно кланялись со словами: «Прости, ради Бога, меня, грешную». И у меня хватило силы отвечать: «Бог простит! Живите долго…»
Уходя, каждая клала к изголовью что–то из «женского снаряжения», а на скамейку кое–что съестное.
Я опять осталась одна. Одна во всем бараке.
Но почему–то мне стало легче: я почувствовала, что здесь, в этом поселке, я не совсем одинока.
Я – голодна… Голодна?! Нет! Я не есть хочу! Я хочу отомстить! Убить! Убить гада!!!
Собравшись с силами, я вскочила, схватила топор и ринулась в контору с твердым намерением зарубить Хохрина.
Вечерело. Те, кто успел уже вернуться с работы, преимущественно сдельщики, усталые и голодные, торопились в ларек за хлебом или в очередь у дверей столовой, но все с удивлением смотрели на странную фигуру: без шапки, растрепанная, с расстегнутым воротом рубахи, спешила я почти бегом, с безумным взглядом, размахивая зажатым в руке топором. Никто меня не остановил. Никто не задавал и вопросов. Голодные спешили «к кормушке», но все с удивлением оглядывались…
Вот освещенные окна. Контора. Там не жгут лучину, там не чадит подслеповатая коптилка на пихтовом масле. Там горит лампа, и там за письменным столом сидит лицом к двери этот изверг – тот, кому я сейчас рассеку голову до самых плеч! В последний раз гляну в его «трупные» глаза и всажу ему топор между глаз. Рука не дрогнет. И топор не подведет… Мой топор как бритва: режет волос.
Вот только глянуть в его глаза!
Я взбежала по ступенькам, резким движением рванула дверь и стала как вкопанная: Хохрин сидел по эту сторону стола, и я чуть не наткнулась на него. Как долго стояла я за его спиной, сжимая в руках топор, не знаю… Было тихо. Я слышала, как колотится в груди сердце.
Нет! Я не убийца! Нанести удар из–за спины я не смогла…
Но на его глазах я не умру!
С лихорадочной поспешностью я сгребла в рюкзак все свои вещи, подошла к порогу и с удовлетворением оглянулась: пустые нары! Как будто меня там никогда и не бывало! И не будет!
СКВОЗЬ БОЛЬШУЮ ГАРЬ
…Выбирая, где идти легче, я шла по руслам рек, которые к тому же все текли на запад, куда имеет уклон местность между Обью и Енисеем. Но не следует думать, что это было легко, что–то вроде туристического похода. Куда там!
Когда я, обессилев, ложилась, зарывшись в снег, укутавшись одеялами, я всё время чувствовала, что где–то совсем рядом на страже стоит Смерть. Должно быть, это заставляло меня просыпаться…
Много сотен верст исходила я, потеряв уже всякую надежду где–нибудь прижиться или куда–нибудь дойти. Я видела феноменальную по своему плодородию землю со слоем чернозема в несколько аршин и людей, питающихся пареной крапивой, чуть сдобренной молоком. Я видела бескрайные степи, в которых пропадала неиспользованная трава, и худых коров, пасущихся на привязи возле огородов.
Всему я искала объяснение, так как хоть война и легла тяжелым бременем на всех, но объясняла она далеко не всё… Многое я мотала себе на ус, и прежде всего то, что в липкой паутине страха никто не осмеливается не только указать на недостаток, но не смеет его и заметить. Никакой критики! А это значит – никакой надежды на улучшение…
ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ
Но самую грустную, нелепую по своей жестокости сцену наблюдала я в Рубцовской области.
Пришла я в большое село, домики которого разбежались по довольно–таки крутым берегам небольшой речушки. Выспалась я превосходно в каком–то овине – погода была теплая и за летние короткие ночи земля не успевала остыть. Не спеша помывшись, «причепурившись» и обувшись (в пути я сапоги сбрасывала и шагала босиком), собиралась хорошо позавтракать. Была я очень богатой: проработав три дня на прополке картошки и гороха (в тех краях их сажали вместе: картошку – под лопату, а затем в «гнездо» втыкали по три горошины, и горох как бы лежал на картофельной ботве), я получила – неслыханная роскошь! – целую торбочку пшена, пережаренного с постным маслом. Горсть этого пшена, брошенная в мой кофейник, – и готов превосходный суп! Но на сей раз я захотела сварить настоящий «кулеш» – в настоящем котелке, на настоящем огне.
Окинув критическим взглядом всю деревню, я остановила свой выбор на полуразвалившейся избе. Она стояла в центре села, близ места, где угадывалась стоявшая здесь в прошлом церковь. Казалось, изба заболела проказой и все другие избы отшатнулись от нее в страхе. И стояла она, одинокая, на голом месте, заживо распадаясь. Половина пятистенной избы отсутствовала, оставшаяся же половина выглядела странно: окна с резными наличниками и почти без стекол, венцы из «кондового» леса и крыша из провалившегося гнилого теса и еще более гнилой соломы.
«Наверное, там живет какой–нибудь старичок бобыль, – подумала я, – он не станет допытываться!»
Я ошиблась. Но об ошибке не жалею. Я осталась голодной, хотя могла бы еще дня четыре быть сытой. Но и об этом не жалею. Знакомство с обитателями этой избы приоткрыло завесу над еще одной стороной советской действительности тех времен.
Подходя к избе, я услышала, что за стеной кто–то плакал и несколько голосов о чем–то спорили или жаловались. Желая оставить за собой возможность ретироваться, я тихонько подошла и встала за углом.
Ближе всего от меня стояла девушка–подросток, с материнской лаской обнимавшая за плечи худосочного мальчика лет четырнадцати–пятнадцати. На завалинке сидела, сгорбившись, старуха, зажав меж колен руки и низко опустив голову. Рядом с ней сидела девушка и, оживленно жестикулируя, говорила:
– Не надо было! Вовсе не надо было ходить! Когда на наряде Пантелеич, то ходить – лишь себя позорить! Ох, горюшко! Хоть бы умереть! А так – хуже смерти!
Стоя в дверях, тихо плакала еще одна девушка. (Обе девушки были уже немолоды, а на то, что они не замужем, указывал по–девичьи повязанный платок.) Против них стоял парень лет двадцати – высокий, красивый, но очень худой и обшарпанный. Он в чем–то оправдывался:
– Может, и взяли бы? Я ж не о себе думаю, а о вас! Легко мне, что ли, глядеть, как вы все пропадаете?
Я шагнула вперед и, сбрасывая на землю свой рюкзак, низко поклонилась со словами: «Слава Иисусу Христу!»
– Во веки веков, аминь! – сказала «старуха», подымая голову, и я заметила, что она вовсе не старая еще, но очень измождена голодом и заботой.
– Вы, я вижу, голодны, я тоже… Вот здесь у меня есть немного пшена… Сварите из него похлебку, и поснедаем, что Бог послал!
Не знаю, что побудило меня отдать весь мой драгоценный запас. Но мне показалось, что чей–то до боли знакомый голос мне прошептал: «Помогай! И Бог тебе поможет!»
Когда в океане происходит землетрясение, то кораблю нет дела до его эпицентра: реальная опасность – это цунами. Жители этого медвежьего угла не слишком вникали в то, какие последствия будет иметь для них революция. Была война. Это – плохо. Окончилась война. Это – хорошо. Не стало батюшки–царя… Не поймешь, плохо это или хорошо. Гражданская война их и вовсе не коснулась. Изменились некоторые названия властей, но жизненный уклад остался тот же, основанный на почитании старших. Прежде всё было проще, понятней: в семье – отец, в стране – царь, а над ними над всеми – Бог. У царя и у Бога было много посредников, плохих или хороших, но от них всегда можно было держаться в стороне. Самая же реальная власть – это был отец, хозяин.
Но вот в начале тридцатых годов и до них докатилась волна-цунами: началась коллективизация. Судна, успевшие поднять якоря и отдаться на волю волн, могли уцелеть. Но крепко цеплялся якорем за родную, надежную землю хозяин–свекр; ни в чем не уступал ему в этом и сын – муж женщины, рассказывавшей мне об этом.
– Пусть беднота вступает в колхоз, а я на своем хозяйстве своей головой думать хочу! И своими силами справлюсь!
Захлестнула его волна–цунами, швырнула на скалы, разбила в щепы всё его благосостояние… Но не сразу. Сначала его взяли за горло и стали душить всякого рода налогами, разверсткой, поборами… А тут подошел 33–й голодный год. Ему бы смириться, сдаться… Не захотел упрямый старик: «Пройдет лихая година! Распадется нелепая затея, развалится! А настоящий хозяин на колени не станет!»
В чем была его вина, я так и не поняла. Но вот однажды вызвали его в сельсовет… и домой он больше не вернулся. Говорят, в Рубцовку его угнали, а где он помер и как – об этом один Бог и знает. Не то сердце у него разорвалось, не то пристрелили «при попытке бежать».
Дело было весной. Надо было сеять. А тут пришли и описали за налог всё: семена, лошадей, инвентарь… Оставили одну корову, и то яловую, а потребовали уплатить поставку: молоко, мясо, полкожи… Кинулся мужик в правление – проситься в колхоз. Не тут–то было! Не нужны, дескать, пережитки прошлого.
Чего только в те годы не пришлось повидать! Кто был подогадливей, тот сразу собрался с семьей и уехал куда глаза глядят. Иные семью бросили – бабу, мол, и ребят, авось, пощадят, – а сами скрылись. Может, где–нибудь живут, а может, и сгинули. Других среди ночи похватали и вывезли куда–то. Иных – со стариками и детьми; иных – лишь тех, кто «в силе».
Ее мужик покорный: тише воды, ниже травы. Уж как он старался! День и ночь работал. Семья – голодом сидела. Всё отдавал в счет поставок. Но пришел 37–й страшный год. Не помогла покорность, не помогло молчание. Взяли его среди ночи… Взяли, да не одного, а со старшим сыном Кешей. Говорят, здесь же, за селом, обоих и порешили.
– Осталась я с пятью ребятами, – продолжала женщина свой рассказ. – Живем как зачумленные. Не то чтобы девок замуж взять – а девки все трое и работящи и пригожи, – но слова сказать им боятся. А может, брезгают. За сына Васятку так сердце и болит–замирает. Ему уже 19 лет. Ведь подумать: я мать, а хотела бы, чтобы его в армию забрали! С войны всё же ворочаются иногда, а «оттуда» нет возврата. Нет, не берут… «Репрессированный», говорят. Это значит – опасный, вроде заразный! И так повелось, что всякий над нами измывается! Вроде чтобы другим, глядя на нас, страшно стало… Только и ждешь, какую новую казнь для нас выдумают? Идти никуда нельзя, ремеслом каким заняться – запрещено. Даже пустырь вокруг дома – гляди, какой большой, – а картошку, и ту сажать не смей! Выделили нам одну десятину – верст за двадцать в степу. Кругом луга, колхозная ферма там. Вот эту десятину мы обработать должны: вскопать лопатой, засеять и государству пшеницу сдать. А скотина там пасется – всё вытопчет. Жить при той десятине не разрешают – и бросить ее не смей! Копай, сей и покупай шестьдесят пудов хлеба – отдай государству. А есть нам чего–то надо? Ни картошки, ни репы, ни зернышка! Крапиву сваришь, истолчешь, нечем даже подсолить! Как утро, идут дети, все пятеро, на колхозный двор, на работу просятся. Ведь даром работать – и то рады! Всё хоть похлебки дадут или обрату и хлеба грамм триста… Народу мало, работать некому, а брать их всё равно не хотят! Постоят, постоят – и домой вернутся, плачут с голоду… А мне, матери, каково на это смотреть?
Нет, мне не жаль было, что я отдала им то пшено, которого мне хватило бы еще на несколько дней.
«Последние могикане» – недобитые единоличники…
С какой продуманной жестокостью мстили тем, кто был лучшим сыном своей земли – крестьянином!
Не раз и не два встречалась я с этими отчаявшимися единоличниками, которым не давали ни жить, ни умереть и которых держали как бы другим в устрашение. И каждый раз удивлялась той изобретательности, с которой их подвергали пытке. Ни одна семья не была в полном составе, так как вместе им всё же было бы легче. Не всех мужчин забирали сразу, так как пытка страхом – ожидание неизбежной беды – вдвойне мучительна. У них не отбирали всё сразу, так как с каждой потерей они могли страдать снова и снова, могли надеяться… и вновь терять надежду, и каждый раз вновь отчаиваться.
Кто этого не видал, тот не поверит, как никто в Европе не верил ужасам голода 1933 года, террору 1937 года, раскулачиванию и ссылкам, начавшимся в конце двадцатых годов, испытанным нами в 1941 году и конца которым никто не мог предсказать!
ФРАНЦУЗСКИЙ КЛЮЧ И РУССКАЯ ШПИОНОМАНИЯ
Раннее утро. Я бодро шагаю по замерзшей за ночь дороге, похрустывая тонким ледком, затянувшим лужицы. Лес отступил. Возле дороги – зябь, и борозды парят, пригретые солнцем.