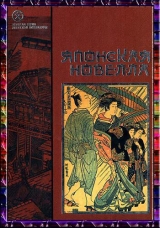
Текст книги "Японская новелла"
Автор книги: Рюноскэ Акутагава
Соавторы: Ясунари Кавабата,Дзюнъитиро Танидзаки,Сайкаку Ихара,Сёсан Судзуки,Огай Мори,Тэйсё Цуга,Рёи Асаи,Рока Токутоми,Ансэй Огита
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
10 мая
Открываю сёдзи – солнце поднялось над горой Акаги. Хотя небо очистилось и стало изумрудным, в горных долинах густо клубятся свинцовые облака. Земля смочена недавним дождем, тени деревьев размыты. Свежий и прохладный горный воздух пронизан светом утреннего солнца, и капли, падающие с верхушек деревьев, сверкают, подобно алмазам. Ласточки, радуясь хорошей погоде, непрерывно прилетают и снова улетают, звучат полные радости голоса пташек.
Спустя немного смотрю снова. Картина уже несколько изменилась. Небо сияет бледно-зеленым, по нижнему краю его ползут, как жуки-скарабеи, разорванные фиолетовые облака. Белые облака, клубящиеся на всем пространстве от гор Оноко и Комоти до Акаги – в них есть и темно-синий оттенок, – вытянулись в длинный ряд и словно серебряный пояс охватывают склоны гор. А вершины Оноко и Комоти– на их зеленовато-голубой поверхности лежит темно-синяя тень – выделяются на фоне неба точь-в-точь как плавучие острова.
Некоторое время наблюдаю облака у подножия Акаги: шаг за шагом начинают они двигаться на юго-восток, словно великая армия выступила в поход. Непрерывной чередой движутся они, клубясь и скучиваясь, а затем постепенно, следуя течению реки Тонэгава, они опускаются. В то время когда первый отряд их уже пришел в движение, облака у подножия Оноко и Комоти, да и те, что собрались в долине реки Адзумагава, еще хранят неподвижность.
Первый отряд их уже уплывает, за ними следует центр армии и арьергард, в свою очередь, тоже двигается в поход.
Длинный ряд белых облаков похож на дракона с белой чешуей или на водопад, только текущий горизонтально. Облака движутся вдоль реки, проходят над горами, задевая их верхушки – с запада на восток, с севера на юг, – и так, нагоняя друг друга, они постепенно проходят.
Внезапно они перечеркивают Оноко, делят на части Комоти, разрывают надвое силуэт Акаги, и в небе возникают призрачные горы.
Тот край облачной гряды, на который падает солнечный свет, сверкает ярче белого золота, светлее чистого серебра, а горы, выйдя из этих облаков, словно готовы растечься темными каплями по зеленому небу. Акаги уже вся стала темно-синей. Оноко и Комоти отчетливо, словно нарисованные кистью, выделяются своим голубым покровом.
А там, где облачная гряда бледнеет, горы на границе между провинциями Сиранэ и Этиго слабо отсвечивают зеленым. Но проходит время, и поток облаков, льющийся, словно бесконечная река, прерывается, большая их часть поднимается вверх и Акаги полностью сбрасывает с себя облачную одежду. Омытая дождем, осушенная облаками, ее поверхность чиста, как драгоценный камень.
Однако погода на горе Кодзан не установилась, и сегодня тоже к концу дня небо не проясняется. Красивые белые облака тают или, подобно дыму, оседают на ее склоне. Замутненные облака вскипают тут и там, клубятся, заслоняют свет, и почти мгновенно весь облик горы и ее цвет меняются. А после одиннадцати часов утра, снова и гора, и долина закрываются кучевыми облаками, и начинает лить дождь. Он то прекращается, то льет снова, небо немного прояснится и снова хмурится – погода все капризничает. Ночь тоже наполнена шумом дождя.
13 мая
С наступлением утра дождь становится упорнее, но ближе к полудню слабеет, облака и туман, покрывшие все кругом, светлеют, и хотя все, кроме одной лишь горы Икахо, еще окутано белым туманом, думаешь: скоро уж прояснится. Туман из горных долин начинает быстро устремляться вверх – так уплывает дым. Высоко поднявшись, он обволакивает жилища, гладит криптомерии и лиственницы, широко растекается вокруг.
Взглянешь на источник в саду – капли дождя еще беспрерывно выводят на его поверхности узоры; поднимешь глаза – дождь падает белыми нитями, однако небо постепенно светлеет, оживленно звучат голоса пташек, танцуют ласточки, далеко где-то ревет бык, кругом – на первых и вторых этажах – люди раздвигают сёдзи и радуются: “Наконец-то ясно”.
Время приближается к двум часам пополудни. Пелена облаков и тумана, заполнявшая горные долины, рвется, и, начиная со склонов, понемногу обнажается вся нижняя часть гор Оноко и Комоти.
После дождя тяжелая темная зелень блестит, словно вот-вот растает. Внезапно открываются просветы чистого неба. Облака постепенно расходятся, разрываются на тысячи клочьев, покидают горы, подымаются в небо или убегают – на восток, на восток...
Вдруг на левом склоне Акаги появляется разорванная радуга. Не сон ли это? Сверкая всеми красками, она словно готова каплями стечь на землю. Белые облака, понемногу отделяющиеся от склона Комоти и клочками всплывающие вверх, постепенно направляются к Акаги, и каждый раз, как они проходят мимо радуги, кажется, что многоцветная радуга дробится на части.
Вскоре и над правым склоном Комоти тоже встает радуга, но совсем бледная. Она даже не протягивается сплошной полосой, а кажется лишь прерывистой светлой линией.
Смотришь с высоты второго этажа – изменения облаков поистине не поддаются описанию. Прилепившиеся к горе синие облака образуют подкрашенный фон, а поверх них лежат другие, словно пропитанные белой краской. Есть и такие, в которых белое незаметно переходит в темное. Иные, словно застыв в глубокой печали, не двигаются с места. А некоторые свободно плывут поверх других. Облака грозные, как гнев титана, легкие, как улыбка ангела; обильные облака причудливых очертаний, идущие, тянущиеся поперечной полосой, кучевые, похожие на скомканную вату; белые как серебро; сверкающие как медь; фиолетовые, голубые, серые, привольно располагающиеся на небе, они все заполонили собой.
Нарисуй такое художник—не поверят, и все же вот они, нарисованные кистью природы.
В самом деле, сколькими же ярусами они громоздятся? В глубине, за одним слоем таится другой, поверх этого – еще один, а дальше еле-еле проглядывает голубое небо. Глядишь, и кажется, что смотришь со скалы в бездонную пропасть.
На вершине горы Комоти облака всплывают клочьями, как вата, взглянешь еще раз – за ними словно полощутся белые флаги. А на верхушке Оноко скучились облака, напоминающие скалы, но вдруг все они, до единого, меняют свою форму – невозможно даже предположить, что в них таится такая энергия!
Спустя немного времени неожиданно выглядывает вечернее солнце; облака, что собрались на западе, становятся фиолетовыми и образуют отливающий золотом круг – яркий солнечный свет льется между ними, словно дождь. Дальние горы скрыты золотистой дымкой, три облачка, тянущиеся вдоль вершины Оноко, вспыхнув лиловым пламенем, внезапно взмывают ввысь, а те, на которые прямо падает солнечный свет, отливают белым золотом.
На Комоти появляются золотисто-изумрудные складки. На горе Рандзэн каждое дерево облито вечерним солнцем, и кажется, что свежая после дождя зелень вот-вот запылает.
На западной стороне неба пронзенные лучами вечернего солнца, движущиеся непрерывной грядой облака, начинают по одному таять. Между ними видно небо, теперь темно-голубое с золотистым оттенком. Облака похожи на золотого дракона, на скарабея, на золотые личинки, они плывут золотыми волнами по всему небу.
А на вершине Акаги облака либо горят как медь, либо налились темной синевой, и Акаги словно собирает всю свою силу, чтобы выдержать эту тяжесть на своих плечах.
Вскоре солнце заходит, наступает ночь. Горы чернеют в сумерках, небо еще таит в себе слабый свет, звезды – и прежде других Венера – расцветают на нем, как весенние цветы.
На Акаги, на Оноко и Комоти все еще видны лежащие темной грудой ночные облака. Икахо стала совсем черной, оттуда доносится громкий шум воды в реке Юдзава.
18 мая
Утро ясное. После полудня я видел, как похожие на вату облака беспрерывно летели с востока на запад, но часа в четыре снаружи, за сёдзи, внезапно сильно потемнело, и когда я, раздвинув их, выглянул, черное облако уже тянулось по направлению к вершинам Оноко и Комоти; горы и реки, насколько хватал глаз, набухли влагой, потемнели и словно накрепко сомкнули уста в скорбном молчании.
Ни один лист не шевелится. Ни одно дерево не шелестит. Кажется, что передо мной развернут свиток картины, которую можно было бы назвать “Горы и воды перед дождем”.
Оба горных пика уже погрузились в черное, будто испускающее тушь облако. И только скала Бёбу одиноко торчит в покрытом мрачными облаками, словно гневающемся на людей небе.
Повсюду несутся свинцовые облака, и невольно думается: не двинулось ли куда-то и само небо?
Немного времени спустя одна-две капли ударяют по крыше. И не успеваю я моргнуть глазом, как крупные капли забарабанили, точно град, и с оглушительным шумом полил дождь.
Оноко и Комоти тоже незаметно скрылись из виду, горный ветер налетел, раскачал деревья, и видно, как встревоженные ласточки и воробьи, непрерывно крича, пытаются спрятаться там, где листва гуще.
Начинает громыхать гром. Дождь льет, то внезапно утихая, то так же внезапно припуская, то он несется параллельно земле, то падает отвесными струями. Ласточки, не успевшие скрыться, летают с трудом, словно дождь прибивает их книзу. Молодая зелень на всем пространстве, непрерывно шурша, клонится, и все кругом движется на свой лад, все исполнено жизни.
Немного времени спустя дождь как будто утихает, туманное небо внезапно становится фиолетовым, а погодя снова превращается в серое. Неизвестно, откуда наплывают мутновато-белые облака, как будто на бескрайнем небе божественной кистью сделан первый мазок. Облака плавно движутся к западу.
Снова начинается сильный дождь... А когда он утихает, смутно выплывает вершина горы Оноко, на западе теперь становятся водны облака никелевого цвета.
Наконец, так и не в силах рассеять облака, среди дождя мрачно заходит солнце.
ВИШНЯБолее двадцати лет тому назад маленький мальчик, держась за руку взрослого, проходил через провинциальный городок Кияма, в провинции Хиго. Шел 1877 год. Спасая ребенка от тягот войны, его вели к родне в деревню.
В городке Кияма расположился штаб Сацумской армии, был развернут госпиталь. Не было здесь уголка, где не находились бы люди из Сацума. Разнокалиберные ружья свалены были грудой, словно стебли рисовой соломы. Были солдаты, которые вынесли на солнце грязные одеяла и ловили насекомых, поддаваясь при этом дремоте. Другие чинили порванные рейтузы. Некоторые, громко переговариваясь, чистили ружья.
Мальчик смотрел по сторонам; непонятный сацумский говор грохотал в его ушах, и двигался он боязливо, крепко вцепившись в руку своего спутника. Сацумская армия терпела поражения, одно за другим. Боеприпасы истощились, но у людей в этом отряде, может быть, находившемся на краю гибели, хватало духа, чтобы смеяться, и то там, то тут слышались громкий хохот и шутки.
“Говорят, это мятежники, а они совсем не такие страшные!” – думая так, мальчик все шел и шел, как вдруг навстречу ему показался мужчина.
Он был одет в заметно полинявшее европейское платье, на ногах у него были деревянные башмаки, за поясом – небрежно заткнутый меч в пурпурных ножнах.
Левая рука его висела на перевязи. Он шел не спеша, держа в правой руке ветку только что расцветшей вишни.
Обернувшись на оклик мужчины, точившего меч перед какой-то лавчонкой, он поднес ветку к самому его носу, перебросился с ним двумя-тремя словами и расхохотался во все горло.
Тут он увидел ребенка, который в эту минуту поравнялся с ним. Мужчина подал ему ветку и, бросив со смехом: “Не трусь!”, пошел дальше.
И долго еще детская рука сжимала эту вишневую ветку, пока в конце концов не бросила ее в речушку, недалеко от дороги...
Тот мальчик – я, пишущий сейчас эти строки. А кто был мужчина с пурпурными ножнами, давший мне ту ветку? Что сталось с ним? Этого мне не узнать. Однако теперь, по прошествии двадцати лет, каждый раз, когда я вижу цветы вишни, образ того человека с пурпурными ножнами является откуда-то и смутно встает передо мной.
БРАТЬЯНа станции железной дороги в Уцуномия было еще темно.
Я ехал с экспедицией к месту извержения вулкана Адзума. Раздался первый звонок, зажглись огни. Внезапно под окном вагона послышались голоса спорящих людей.
Я открыл окошко.
На платформе стояли двое. Одному из них можно было дать лет сорок с небольшим; бледное лицо с выпирающими скулами, бегающие глаза, тонкие губы; со щек к подбородку спускалась клочковатая борода, дней пять не бритая. На нем была старая шапка блином, ватное кимоно и фартук. В руках он держал сверток, завернутый в фуросики 39.
Другому было на вид около тридцати пяти лет. Темное безбровое лицо в рябинах, толстые губы, глаза под тяжелыми веками сверкают как молнии. Одет он был в рабочую куртку с вязаным воротом и в соломенные сандалии на босу ногу.
Неожиданно тот, что держал сверток, вскочил в вагон. Рябой, растерявшись, вцепился ему в рукав, но тот выдернул руку. Тогда он ухватился за сверток.
– Что ты делаешь?
– Ладно! Думаешь, дам тебе улизнуть?
Рябой заскрипел зубами; он пытался выдернуть сверток.
С разных сторон сбежались станционные служащие.
– Что здесь такое? Что случилось?
В окнах вагонов замелькали лица любопытных.
– Он – вор. Не вернул взятую вещь и собирается улизнуть! – Не сказав, а прорычав эти слова, рябой с силой дернул сверток к себе.
Стоявший в вагоне пошатнулся.
– Да отпусти же! – крикнул он. – Ведь сказано тебе: приеду – все как-нибудь улажу. Господа, здесь есть обстоятельства... Ну, пусти же!
– Да, как же! Вечно ты врешь, изворачиваешься! Обманщик! Скотина!
Раздался второй звонок.
Появился начальник станции, подошел полицейский.
– Что здесь случилось?
– Что такое? Вы всем мешаете!
– Нет, послушайте, тут такой пустяк...
– Совсем не пустяк! Обманщик! Скотина! Вор!..
– Да замолчишь ты?!
Голоса становились все громче, люди теснились у вагона. Полицейский силой оттащил рябого. Рябой обернулся:
– Ну помни же! Ни брата, никого у тебя больше нет, скотина! Дерьмо ты, а не брат! Обманщик!..
Глаза у него горели; закусив губы, он пошел за полицейским.
Так, значит, это были братья?!
Меня невольно охватила дрожь.
Взоры всех пассажиров в вагоне были прикованы к человеку со свертком, усевшемуся как раз напротив меня.
Он растерянно оглядывался кругом.
– Фу-у... Вот так брат! Из-за какого-то пустяка опозорил меня перед людьми!..
Шепча эти слова, он затянул у себя на коленях развязавшиеся углы злополучного свертка. Руки у него тряслись.
В вагоне было тихо. Никто не сказал ни слова.
ДВЕСТИ ИЕНС дуба, глухо стукнув, упал желудь. Еще не успело замолкнуть легкое эхо, как на веранде неожиданно появился человек; это был мужчина, не достигший тридцати лет. Рубец от старой раны белел на его небольшом носу. В гэта на низких подставках и в платье из полосатой ткани он походил на мелкого торговца. Глазные впадины были темны, как вечернее небо.
– Выслушайте меня, мне это непременно нужно... – задыхаясь, начал он, едва войдя в помещение. – Я несчастен, и причиной этому жена... Вы поймете, если я расскажу вам...
Вначале он отрывисто ронял слова, но постепенно овладел собой и, облегчая переполненное сердце, стал горячо говорить.
Оказалось, что он – житель префектуры Сайтама, его воспитали приемные родители. Начал торговать шелковичными коконами, но прогорел и родителей довел до разорения. Где он только не пытался поправить свои дела – жил в Корее, оттуда перебрался в Маньчжурию, в Аньдун. Здесь занялся лесным делом, нашел себе и жену. Некоторое время семья жила в Аньдуне, но обстоятельства складывались не так, как супруги ожидали, и они переехали в Далянь. Это было осенью, на следующий год после русско-японской войны.
Переехать-то они переехали, но подходящей работы не было и тут. Они влачили жалкое существование на задворках, где жили только маньчжуры, и в это время умер их единственный ребенок.
– Славная была малышка, – рассказывал он. – Ей уже исполнилось пять лет. Девочка, но очень была ко мне привязана. И когда мы жили на родине, тоже, бывало, придешь домой, мать и жена неприветливо встречают, а девочка радуется: “Папа! Папа!..” Отнесет на место мою шляпу – она часто так делала.
Она заболела воспалением легких. Я побежал к врачу, прошу его, он сказал: “Приду”, но так и не пришел. В это время она скончалась. После ее смерти у меня совсем опустились руки.
Врач, говорят, был христианином, да я ведь бедняк, потому, наверное, он и поступил с нами не по-христиански. Врач этот потом тоже потерял ребенка и, говорят, раскаивался, все повторял, что это, мол, ему в наказание за то, что так обошелся со мной.
Некоторое время он молчал, опустив глаза.
– И что же дальше?
– Ну, а дальше... Нельзя же было вечно болтаться без работы, а там была такая фирма – пожалуй, не самая большая в Даляне, но очень водная, – наверное, и вы знаете ее... Так вот, поступил я на службу в дом хозяина этой фирмы.
Ну, что тут говорить, недаром эта фирма считалась в Даляне одной из крупнейших: жизнь у них была роскошная. Кроме нас с женой, в доме служило еще пять-шесть человек. Хозяйка была славная женщина, заботилась о нас. Раз отправилась она по каким-то делам в Японию. И вот, прошло всего две недели, как уехала хозяйка, а жена моя совсем переменилась. Да моя ли это жена? Или какая-то чужая красавица? Только ничего хорошего в этой перемене не было, – выговорил он с трудом, словно давясь словами.
– Повадки у моей жены стали очень странными. Я уже заметил это и начал присматриваться. Много было такого, чего я никак не мог уразуметь. Вот приезжает хозяин на извозчике. Раздается звонок со второго этажа – жена надевает белый передник, ставит на поднос пиво и несет наверх.
А я стою под лестницей. Жена взглянет на меня уголком глаза и бежит на второй этаж. И, бывало, по часу, по два не спускается вниз. Уж я и прислушиваюсь к тому, что там делается, и потихоньку босиком пробираюсь к кабинету хозяина – у дверей подслушиваю, подглядываю в замочную скважину... Да куда там – дверь толстая-претолстая... Внутри – тишина, что они там делают – не поймешь. По правде говоря...
В голосе его послышались слезы. Сведенные вместе, черные как смоль брови задергались. Губы задрожали.
– Сколько я ни пытался прочесть что-нибудь в глазах жены, сколько ни всматривался в лицо хозяина, оставалось одно лишь подозрение, никаких доказательств я добыть не мог. Много раз я думал: не стану больше служить в таком доме. Да и жене не раз и не два я говорил об этом. Однако жена каждый раз сердилась на меня: хозяйка, мол, так заботилась о нас, как же можно оставить работу в ее отсутствие? Хочешь – отправляйся сам, куда тебе вздумается, ищи где угодно работу, – так дерзко она отвечала.
Не мог я больше терпеть.
И вот однажды я насильно вытащил жену за город, к реке, в такое место, где народу почти не бывает. Стал допытываться, что же у них там происходит, но она ни за что не хотела сказать правду. Тогда я вытащил нож, который был у меня за пазухой, и пригрозил ей: если признаешься – прощу! Будешь лгать – лишишься жизни, так и знай!
Жена изменилась в лице. Да, хозяин принудил ее, и, действительно, они совершили недозволенное – один раз, так она сказала.
– Ври больше! – закричал я. – Это у вас было не раз и не два, – я наступал на нее, и в конце концов она призналась во всем.
У него вырвался тяжелый вздох.
– После этого я написал хозяину письмо, упрекнул его за такие поступки. И вот, на следующий день он позвал меня в кабинет. “В самом деле, мы делали недозволенные вещи, – сказал он. – Но видишь, я, твой хозяин, смиренно извиняюсь перед тобой, так ты уж, пожалуйста, согласись договориться добром. А я зато позабочусь о твоем будущем, помогу тебе выбиться на дорогу. Вот, возьми для начала это, чтобы ты мог возвратиться в Японию”, – сказал он и дал мне двести иен, да, ассигнациями по десять иен; чтобы отделаться от меня, он дал эти двести иен.
– Значит, вы взяли деньги?.. А почему вы не закололи этого человека своим ножом?
Он потупился.
– Ну и что же было потом?
– Я съездил разок в Японию и снова вернулся в Далянь. Хозяин не захотел с нами знаться, даже не вышел к нам.
– Ну и что теперь?
– Теперь я держу на окраине Токио маленькую галантерейную лавочку.
– А жена?
– Жена со мной.
Беседа на некоторое время прервалась.
– Она со мной, но все это так тяжело, так тяжело... На сердце у меня такая обида, что нет сил терпеть... Вот потому я сегодня...
И человек этот, так внезапно появившийся, словно его занесло сюда ветром, бесследно исчез.
ЭСТЕТСТВУЮЩИЙ МУЖИЧОКОн – эстетствующий мужичок. На земле он работает не для того, чтобы прожить, а потому, что это отвечает его вкусам. Но ведь и всю свою жизнь он строит соответственно своим вкусам, значит, можно сказать, что работа на земле – это дело его жизни.
Знаменитый американский проповедник Бичер 40однажды угостил одного человека плодами батата и сказал:
– Это произведение моих рук. Каждая штука обошлась мне в один доллар, так что вы ешьте, пожалуйста!
Прошу прощения, но эстетствующий мужичок искуснее почтенного Бичера. И все же для него, ни в одном деле не проявляющего усердия, крестьянствовать столь же искусно, как, скажем, Наки-сан, вырастивший на баклажанном поле просо, – вещь совершенно недостижимая.
Один из мастеров сэнрю сложил такие строки:
Со словами: “Ловится?”
Приблизился Вэнь-ван.
Земледелие, которым занимается господин эстетствующий мужичок, сродни ужению, которым занимался Тайгун Ван 41. Тайгун Ван проводил дни, сидя с удочкой без крючка, а добыл дружбу императора Вэнь-вана. Эстетствующий мужичок проводит дни, натирая мозоли на руках, а надеется создать себе жизнь, отвечающую его вкусу.
Как крестьянин он в конце концов терпит крах. Бывает, что, посеяв три меры гречихи, он снимает лишь две. Семена, которые он бросает в землю, исчезают в ней без следа, как растаявший снег. Овощи, которые он выращивает, часто получаются горькими. Дыни, если только он не успеет посадить их до сентябрьской недели равноденствия, несъедобны. Хорошо, если редька у него уродится с двумя-тремя хвостами, обычно она вырастает закрученная в спираль– точь-в-точь новогоднее украшение симэ. А порой она напоминает осьминога – вот какую диковинную редьку он выращивает!
Его литературный стиль никак не назовешь образцовым, а вот редька его могла бы войти в сокровищницу искусства.
В рабочем платье, в одних таби 42, преисполненный решимости, словно выходя на битву, он – хочешь не хочешь – отправляется в поле.
Стоит ему немного поработать, как он уже обливается потом. Но каждый раз, когда его мотыга по самую рукоять вонзается в землю, – смотри, Небо! Смотри, Земля! И вы, люди, смотрите! – он кажется самому себе образцовым крестьянином.
Не в силах дольше терпеть, он вытирает пот с лица и облегченно вздыхает. Прохладный ветерок, слетающий с пасмурного неба, обдувает его лицо. “Эго и есть самое дорогое на свете”, – с восторгом думает он, прищурив свои большие глаза. Он внимательно наблюдает за тем, как на поле напротив настоящий крестьянин, пятясь, проводит борозду мотыгой с длинной ручкой, и восхищается непогрешимой ритмичностью его движений.
Шелест легкого дождя сливается с криками ласточек. На ячменном поле, где зелень слепит глаза, спокойно работает девушка, подпоясанная красным поясом, с головой, обернутой белым полотенцем. Глядя на нее, он терзается вопросом: “Не сложить ли о ней песню или стих?”
Он очень доволен, если настоящий крестьянин, проходя мимо, увидит, как он несет на плече бочку с удобрением. Он бывает очень горд, если хозяйка крестьянского дома похвалит его: “Вот вы как наловчились!”
А еще больше важничает он, если разряженные господа и дамы, приехав из города, застанут его в разгаре работы. Кое-кто из столичных гостей, изредка посещающих его, наверно, думает, видя его в облике усердного крестьянина: “Он действительно поднаторел в этом деле!” Но деревенские жители уже разглядели его истинный облик. Бабушка О-Кото, рисовое поле которой находится по соседству, говорит:
– Барин не только крестьянской работой живет, недаром у него денег столько, что он их может на просушку выкладывать, как одежду...
Это он однажды вздумал просушить стоиеновую ассигнацию. Но от того, что “барин не только крестьянской работой живет”, никуда не уйдешь. Он и на сельскохозяйственных курсах не побывал ни разу.
Жилище эстетствующего мужичка находится всего в одном ри от Токио. Посмотришь на восток – увидишь дым верфи в Мэгуро и электростанции в Сибуя. Да и полуденная пушка слышна, если ветер дует в эту сторону. А сразу после полуденной пушки из Токио доносится выстрел пушки из Иокогамы.
В темные ночи небо над Токио и небо над Иокогамой пылает заревом огней. Городской ветер налетает с юго-востока. На севере лежит равнина Мусаси. На западе видны и Мусаси, и Сагами, видна и гора Коею. С северо-запада прилетают полевой ветер, ветер с гор. Окно кабинета смотрит в сторону Токио, а главная комната дома обращена в сторону Иокогамы. Стеклянное окно в коридоре, возле которого он любит читать и писать, выходит на дорогу Косю.
Его жилище смотрит на все страны света, и самого его тянет то в одну сторону, то в другую...
Когда-то он копировал христианского проповедника. Копировал также учителя английского языка. Подражал корреспондентам газет и журналов. Подражал рыбакам. Теперь он имитирует крестьянина.
Имитация – это не подлинник. И он в конечном счете всего лишь эстетствующий мужичок.



