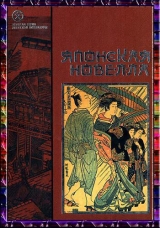
Текст книги "Японская новелла"
Автор книги: Рюноскэ Акутагава
Соавторы: Ясунари Кавабата,Дзюнъитиро Танидзаки,Сайкаку Ихара,Сёсан Судзуки,Огай Мори,Тэйсё Цуга,Рёи Асаи,Рока Токутоми,Ансэй Огита
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
1
Два ножных протеза месье Поля являются, в сущности, ненужными для моего повествования. Но они были очень нужны его ученикам.
Прежде всего потому, что в какое бы неурочное время мы ни заявлялись к нему, месье Поль был всегда дома. И по причине своего неподвижного образа жизни он всегда радовался приходу гостей.
“Он стал преподавать французский потому, что ему было грустно все время оставаться дома”.
Всякий так думал, хотя на поверку это оказалось вздорным слухом.
Сам же месье Поль частенько говорил: “От красивых людей исходит запах французской парфюмерии. Поэтому я и держусь французского языка здесь, в этой загадочной Японии”. Говорил, будто пел.
“Французский – это все равно, что загадочная Япония”, – подпевали и мы. Это была красивая песня. Особенно красиво она звучала для меня, его бедного ученика.
В те времена, когда месье Поль еще не лишился ног, он был секретарем французского посольства. И потому никто не удивлялся тому, что среди его учеников было столь много прекрасных дам и хорошеньких девушек. Они создавали вокруг него какой-то праздничный ореол – иностранной миссии, Рождества, набережной портового города Иокогамы... Когда у месье Поля выдавалась свободная минутка, а она у него выдавалась достаточно часто, он любил напевать вот эти слова из японской песни:
Платье новое, поясочек новый... Отчего невеста опечалилась?
Он выводил песню на какой-то чудесный французский манер, отчего она теряла свою вековую печаль. Грустная песня получалась по-французски светлой. И тогда я думал, что этот калека, которого судьба закинула в далекую Японию, больше напоминает какую-то добрую и любящую женщину.
Одна из его учениц, Б., хоть ей и было всего пятнадцать, однажды сказала мне: “Учитель Поль остался жить в Японии, потому что у здешних девушек глаза всегда на мокром месте. И они его жалеют. Я так полагаю, что когда он попал в катастрофу, кто-то так заливался слезами, что это заставило его позабыть обо всем на свете”.
2
Странный звук... Это голубь прогуливается по балкону номера, где живет обнищавший немецкий музыкант.
И вот голубь поднимается в вольное городское небо – вылетел из-за сохнущей на балконе куртки. А за городом уже пал предвечерний туман. И если бы не пароход, подернутое дымкой море слилось бы до неразличимости с далекими горами. Шестеро гостиничных голубей поднимаются в сероватое городское небо, вдыхая полной грудью июльскую жару.
Месье Поль сидит в кожаном кресле на японский манер. То есть он отстегнул свои протезы – будто бы коленки поджал. Я хочу сказать, что ему ничего не остается другого сделать, как усесться по-японски. И вот, будучи помещенным на кресло, как на подставку, он говорит мне: “Подвинь кресло поближе к окну”.
Возле окна стоит символ его жилья – огромная подзорная труба. Когда Поль потерял ноги и переместился в отель на вершине горы, друзья и знакомые подарили ему эту полезную штуку. Учитель любит прибор без памяти – он не разрешает нам даже слегка коснуться его. Смотреть в подзорную трубу было для учеников своего рода ритуалом, посредством которого ты проникался видениями учителя, открывал для себя закоулки его сердца... Словом, будто бы подсматривал за ним.
Сегодня учитель говорит мне: “А ты знаешь, какой представляется человеческая жизнь, если взглянуть на нее через подзорную трубу?”
– Что вы имеете в виду? Я, конечно, наблюдал в театральный бинокль за танцовщицами на сцене. Это было на представлении, приуроченном к цветению вишен. В театре “Синбаси”. Но это, пожалуй, и все.
Мне стоит больших усилий, чтобы сказать это по-французски.
– Ну и что, обнаружил ли ты что-нибудь интересное?
– Меня поразило, что теперь я стал видеть только танцовщиц. Они вдруг стали больше себя раза в полтора – будто их на меня волной бросило.
– А что видели вы, госпожа С?
– А я с башни видела город.
– Ну и каковы были ваши впечатления?
– Это давно было. Как это? Птицы полетели в небо, а я все думала, отчего они быстрее не полетят.
– Птицы? Ты имеешь в виду голубей?
– Ну да, голуби. Я просто забыла, как по-французски “голубь”. И еще мне казалось, что это они внутри бинокля крыльями машут.
“Ну ладно, сейчас посмотрим”. Наведя на резкость, Поль приблизил ко мне свой острый нос и сказал: “Смотри!”
Я отпрянул. Потому что перед моими глазами стояла целующаяся парочка. Я снова взглянул – точно, целуются.
Женщина была не накрашена. И вдруг к ее до неприятности белым щекам прилила кровь. Наверное, она нездорова. Мужчина целовал ее, а она вся дрожала. Ее волосы упали на спину. Она смотрела на мужчину снизу вверх. Наверное, она болела, а сегодня первый раз помыла голову. А причесалась неаккуратно. Вот волосы у нее и рассыпались.
Увидев мое побледневшее лицо, С. тоже захотела приобщиться к людским тайнам. “Дай теперь мне!” Я преградил ей путь к подзорной трубе. Если бы ее здесь не было, я бы сказал учителю: “Страсть, словно волна, бросилась с разбегу в мое сердце”.
Оставаясь устрашающе серьезным, учитель улыбнулся: “Когда Бог давал вещам имена, он смотрел на мир несколько по-иному, чем это делает человек”.
– Да-да, вот и художник тоже...
– В общем, приходите ко мне завтра в это же самое время, то есть в три часа дня. А я разыграю перед вами некую пьеску. И вы почувствуете себя богами.
3
На следующий день С. явилась на пять минут раньше меня. На ней было новое платье из светло-голубого крепа. От нее пахло другими духами. Над морем встали облака, яркие паруса яхт... Газгольдер на берегу сиял металлом. Во всем городе белыми были лишь дым над новой баней да стена огромной больницы.
Поль придвинул к С. стоявший на столе телефон. “Набери 57. Это номер больницы. Позови пациентку из третьей палаты, скажи, что это из дома звонят”.
Я же в это время смотрел в подзорную трубу. И снова перед моими глазами выросла вчерашняя парочка. Они снова целовались. К ним на плоскую крышу больницы, где был устроен сад, поднялась медсестра. Она слегка поклонилась женщине. Потом они стали спускаться вниз.
Б изумлении С. отняла трубку от уха и произнесла по-японски: “Сказали, что она на минутку вышла”.
Учитель повернулся ко мне: “Бери трубку. Будешь говорить ей то, что я тебе скажу. А ее слова передавать мне”.
Женский голос: “Кто это? Кто? Это ты, что ли?”
Учитель: “Да, это я. И я знаю, что ты целовалась на крыше с сыном директора больницы”.
Я: “Да, это твой муж. И я знаю, что ты целовалась на крыше с сыном директора больницы”.
Молчание.
– Ты с ним в первый раз поцеловалась позавчера. А вчера и сегодня ровно в три часа вы являлись к одной и той же скамеечке.
– Ты с ним целовалась в первый раз позавчера...
– Это и вправду ты, что ли? Пожалуйста, не пугай меня. Ты где, на работе? Дома? Что-то у тебя голос какой-то не такой. Где ты находишься?
– Она отпирается. Похоже, не верит, что это и правда муж.
– Ты что ж, меня не узнаешь, мужа своего? Я все знаю, потому что после того, как я приходил к тебе в палату утром, вернулся домой и обнаружил, что забыл там свою трость...
– Что же ты хочешь? Чтобы у меня после таких дел голос нормальный был? А я, между прочим, трость свою сегодня у тебя в палате забыл.
– Трость, трость... И за тростью сюда вернулся? Где ты сейчас?
(Слова, сказанные по-французски, далее опускаются).
– Мне ни в какую больницу и возвращаться не надо. Я все и так вижу. Ты забыла, что жена принадлежит мужу, ты оскорбила меня. И я видел, как после моего ухода ты сидела на кровати, стригла ногти, кушала апельсин, примеряла носки, на свои ноги все глядела, а потом губы накрасила и перед зеркалом вертелась.
– Подожди, подожди...
– Знай – у меня глаза, как у самого Бога!
– Да подожди ты, не о тебе разговариваем!
– Тогда знай, что этот самый мужчина на той же самой скамеечке целовался с девчонкой, которая находилась в той же самой палате до тебя. И с молоденькой медсестричкой тоже целовался. Ей, бедняге, пришлось из больницы потом уволиться. Я все знаю, я все видел! И вот ты, дура, на ту же самую скамейку уселась.
– Ох, ах, прости меня!
Голос в трубке задрожал. Месье Поль чуть сместил подзорную трубу, и я увидел, как эта мертвенно бледная женщина бежит к больничным воротам, будто сам дьявол гонится за ней. Потом она стала оглядываться по сторонам и грохнулась наземь.
Учитель зло рассмеялся. “Первый акт разыгран успешно. Мы сделали из нее супругу такую добродетельную, какой еще не видывал мир”.
4
Из подзорной трубы месье Поля можно было в подробностях наблюдать, что творится у больничных ворот, в аптеке, ординаторской, на кухне, в палатах северного крыла, в саду на крыше. Из соседних с больницей домов ничего этого видно не было. Никто, разумеется, и не мог подумать, что творящееся в больнице можно наблюдать с вершины горы.
“Ног у меня нет, но я видел столько секретов, что не достается на долю обычного человека. У меня две жизни – вы, мои ученики, и те люди в больнице. Ученики до сих пор почитают меня за дипломата. А потому радоваться и плакать мне пришлось больше с моими больничными друзьями. Через этот прибор их добродетели и грехи являются в преувеличенном размере. Ты знаешь все – как Бог, но ты и одинок, как Бог. Но с вашей помощью я теперь могу выносить и вердикты. Переходим ко второму акту”.
Второй акт не имел с трагедией ничего общего. В ординаторской находился врач, который был всегда озабочен тем, что рассматривал что-то в микроскоп.
“Микроскоп – это ведь тоже орудие не человеческое, но божественное. В нем тоже заключена любовь к трансформациям”, – сказал месье Поль и щеки его заалели.
А на лице у этого врача, между тем, красовался шрам – от правого уха до щеки. Результат какого-то неудачного опыта. Одна из сестер была в него влюблена. Однако он считал себя уродом и потому не обращал на нее никакого внимания.
План учителя заключался в том, чтобы С. вызвала по телефону этого доктора влюбленным голосом медсестры.
“Дело в том, что я здесь на работе недавно, а потому...” – только и смогла выжать из себя С.
“Ну что ж, продолжение второго акта назначается на завтра”.
Выпив в кафе гостиницы чаю, мы снова поднялись к учителю. Он жестко приказал С: “Убедительная просьба. Скажи по телефону, что ты намереваешься выйти замуж за студента”. С. покраснела, но выражение лица у учителя было самое решительное.
– У меня важное сообщение. Дело в том, что я решила выйти замуж за одного студента.
Потом С. вдруг сделала шаг назад и сказала во весь голос – так что ее собеседника на том конце провода перестало быть слышно: “Это мама!”
На том конце провода была мать С. Учитель соединил ее не с больницей, а с домом. Месье Поль сузил глаза и рассмеялся: “Завтра тебе предстоит играть роль влюбленной женщины. Поэтому я решил, что тебе нужно влюбиться уже сегодня”.
Мы тут же ушли. Камфарные деревья горели под закатным солнцем. Откуда-то сверху доносилась песенка месье Поля:
Платье новое, поясочек новый...
Отчего невеста опечалилась?
– Что мне делать? Как я домой вернусь?
– Пошли к морю.
По широкой мостовой мимо нас пронесся автомобиль. В автомобиле была та самая женщина со скамеечки на больничной крыше. При этом она сидела, тесно прижавшись к своему любовнику. Выходило, что учитель просчитался. Видно, они поверили, что мужу стало все известно. И им стало все равно. Интересно, видит ли сейчас их и нас наш безногий француз? Я чуть прижался к С. Страсть, исходившая от пронесшегося автомобиля, передалась и мне. И здесь подзорная труба с телефоном осечки не дали. Теперь и у меня появилась любовь. Я обернулся. Над гостиницей кружила тройка голубей.
1930
СОРТИРНЫЙ БУДДАДавным-давно, Арасияма, Киото, весна...
Дамы из знатных домов, их дочери, гейши из веселых кварталов и проститутки прибыли полюбоваться пышным цветением сакуры.
“Прошу прощения, но не могли бы мы воспользоваться вашей уборной?” – с поклоном спросили зардевшиеся женщины возле обшарпанного деревенского дома. Они зашли внутрь и – о ужас! – обнаружили это, занавешенное старыми циновками. При каждом порыве весеннего ветерка циновки колебались, отчего по коже столичных дам пробегал холодок. Слышался детский плач.
Видя то неудобство, которое испытывают столичные штучки, крестьянин построил небольшую уборную и повесил вывеску с надписью тушью: “Платный туалет. Вход – три монеты”. Во время цветения сакуры эта уборная пользовалась невероятным успехом, и хозяин сколотил приличное состояние.
Один деревенский завистник сказал своей жене так: “Хатихэй разбогател на своей уборной. Этой весной я тоже отгрохаю уборную и переплюну его”. Жена отвечала: “Твой план никуда не годится. Ты, конечно, можешь открыть новое заведение, но преимущество соседа в том, что у него есть старая клиентура. А потому мы станем только еще беднее”.
– Нет, это ты неправа. Ведь наша уборная – это не то, что его грязный сортир. Ты же знаешь, что у них там в столице все с ума сходят от чайной церемонии. Вот я возведу уборную в архитектурном стиле чайного павильона. Столбы закажем не в Ёсино – они слишком дрянные, а в Китаяма. Гвоздочки – фигурные, к потолку чайник на цепке подвесим. Здорово придумано, а? Окошки понизу пустим, половые досточки – струганные. Дерево на стены из Сацума завезем, “очко” – с инкрустацией сделаем. Дверь – из кипариса, крыша – из кедровой дранки, ступенечки – гранит из Курама. Вокруг – забор из бамбука, около умывальника – сосну посажу. И тогда и Сэнкэ, и Энею, и и Ураку, и Хаями – всех чайных мастеров переплюнем.
Жена слушала с тягостным видом. Потом спросила: “А сколько за вход брать будем?”
Крестьянин расстарался и ко времени цветения сакуры воздвиг свой дворец. Одного монаха он попросил начертать на вывеске образцовым почерком: “Платный туалет. Вход – восемь монет”.
Но даже столичные дамы не решались за эти деньги посетить уборную, хотя и говорили, что она изумительна.
Жена от злости застучала кулаками по полу: “Что я тебе говорила? Ты сюда вбухал все наши деньги! Как теперь жить будем?”
– Ты только не кипятись! Завтра я все устрою как надо – они у меня муравьями в очередь встанут! Ты тоже поднимайся пораньше, собери мне в дорогу поесть. А когда я в свое паломничество отправлюсь, людей набежит, как на ярмарку.
Хозяин был доволен своей придумкой. Следующим утром он поднялся позже обычного – около восьми. Повесил на шею коробочку с едой, грустно посмотрел на жену. “Послушай, дорогая, ты всю жизнь мне талдычила, что я круглый идиот и планы у меня дурацкие. Сегодня я тебе покажу – я уйду, а от клиентов отбоя не будет. Когда яма заполнится, повесь табличку, чтобы подождали, а сама скажи соседушке Дзирохэю, чтобы вычерпал”.
Жена была несказанно удивлена. Куда это он уйдет? В город, что ли? Будет там по улицам ходить и вопить: “Платный туалет! Посетите мой туалет!”?
Пока она так размышляла, пришла девица и, бросив восемь монет в ящик для денег, прошла в уборную. А потом народ повалил валом, так что жена только глаза на деньги таращила. Вскоре ей пришлось закрыть уборную и вызвать на подмогу соседа. За день она получила восемьсот монет, а соседа ей пришлось призывать аж пять раз.
“Ну и дела! В первый раз по задуманному вышло. У меня не муж, а Будда чудотворный!”
Обрадованная женщина купила сакэ и стала дожидаться мужа. И тут – о несчастье! – на носилках доставили его бездыханное тело.
“Его нашли в платном туалете Хатихэя. Он умер от подагры”.
Оказалось, что покойник отправился утром со своими тремя монетами прямиком в соседское заведение и закрылся там. Когда кто-то подходил к двери, он начинал покашливать. За целый день такого покашливания он совершенно охрип, а на закате не смог разогнуться.
Прознавшие про случившиеся столичные жители переговаривались:
– Как жаль, что жизнь столь изысканного человека прервалась так рано!
– Такого мастера по части чайных чудес больше не сыщешь!
– О таком красивом самоубийстве в Японии еще не слыхали!
– Он достиг просветления в сортире!
И не было никого, кто бы не присоединился к гимнам в его честь.
1929
ЗОНТИКВесенний дождичек, больше похожий на туман... Он не промочит тебя насквозь, но кожа от него все равно становится влажной.
Увидев юношу, девушка выбежала из лавки на улицу. Юноша держал над собой раскрытый зонтик. “Что, дождик идет?”
Юноша стоял под зонтом не потому, что боялся промокнуть. Просто он стеснялся того, что их увидят из лавки, где работала девушка.
Юноша молча держал зонтик над девушкой. Но все равно одним плечом она шла под дождем. Юноша начинал промокать, но никак не мог отважиться сказать ей: “Прижмись ко мне”. Ей же хотелось взяться за ручку зонта вместе с ним, но она отодвигалась от нее все дальше.
Они зашли в фотостудию. Отца юноши перевели на работу в другой город. Так что юноша с девушкой решили сфотографироваться на прощанье.
“Садитесь сюда”, – сказал фотограф, указывая на диван. Но юноша слишком стеснялся. Поэтому он встал позади девушки, но чтобы их тела стали хоть чуть ближе, слегка оттопыренным пальцем той руки, которой он держался за спинку дивана, он коснулся ее платья. Теперь он впервые дотронулся до нее. Слабое тепло, которое передалось его пальцам, заставило подумать о жаре ее нагого тела. Глядя на фотографию, он до самой смерти будет вспоминать это тепло.
– Хотите, еще один кадр сделаю? Крупным планом? Только тогда вам нужно встать поближе.
Юноша кивнул.
“Что с твоей прической?” – шепнул он девушке. Она посмотрела на него и покраснела. Глаза ее засветились радостью. По-детски послушно она побежала к зеркалу. Дело в том, что когда она увидела юношу из окна лавки, она тут же выскочила к нему, не успев причесаться. Всю дорогу она корила себя, поскольку выглядела так, будто только что сняла купальную шапочку. Но девушка была столь застенчивой, что никогда не позволяла себе в присутствии мужчин даже подправить упавшую прядку. Мальчик же не чувствовал себя вправе сказать ей, чтобы она привела себя в порядок.
Когда девушка бросилась к зеркалу, у нее был такой радостный вид, что и юноша тоже просветлел. Теперь они спокойно уселись на диван, как если бы это было для них делом привычным.
Покидая студию, юноша стал искать глазами свой зонт. И тут он увидел, что девушка стоит с ним на улице. Она поймала его взгляд и поняла, что вышла на улицу с его зонтом. Она удивилась тому, что, сама того не желая, повела себя так, как если бы уже принадлежала ему.
Юноша не просил отдать ему зонт обратно. Она же не решалась вернуть его. Что-то случилось с тех пор, как они отправились к фотографу, Они уже стали взрослыми, и обратный путь был дорогой супругов.
А вы говорите – зонтик, зонтик...
1932
ЦВЕЛИ КАМЕЛИИ...На вторую осень после окончания войны сразу в четырех семьях нашей десятидворки родились дети. Самая старшая из матерей родила двойню. Одна из ее девочек прожила только две недели. Молока у матери было много, она подкармливала им соседских детишек. В этой семье уже было двое сыновей, а теперь у них родилась и девочка. По моей просьбе ее назвали Кадзуко – “Дитя мира”.
А вообще-то среди пяти новорожденных оказалось четыре девочки. Люди смеялись: война закончилась – вот и солдаты больше не нужны. Нет, столько девочек родилось, конечно, случайно, но целых пять младенцев на десять семей... Этой осенью, куда ни посмотри, очень много детей народилось. Так что мы шли в ногу со страной. Мирное время настало. В войну рожали мало. А теперь совсем другое дело – солдаты к своим женам вернулись. Дело понятное. Но только дети рождались во всех семьях, не только там, куда мужья с фронта вернулись. Не все же мужчины воевали. У людей в годах тоже вдруг дети стали рождаться. Мир, да и только.
Вот и получается, что дети – это и вправду мир. И люди не обращали внимания на то, что Япония проиграла войну, что жить трудно, что лишние рты еды требуют. Здесь инстинкт размножения заработал. Самый сильный инстинкт. Будто вдруг источник забил. Или будто высохшая трава зазеленела и в рост пошла. Словом, общее оживление жизни произошло. И освобождение. Счастье, да и только. Человек ведь – не просто скотина, он еще и человек тоже.
Ну и еще, конечно, дети – они родителей от мыслей о войне отвлекают.
Мне – пятьдесят лет. И хоть война закончилась, а детей у меня не народилось. Пожилые семьи во время войны вкус к жизни совсем потеряли. И тут уж ничего не исправишь. Вот война кончилась, а нам всем конец пришел. Вроде и не должно так быть, а то, что войну проиграли – очень на нас сказалось. И страна, и время, в котором мы жили – все прахом пошло. Я чувствовал себя таким одиноким, что соседские дети казались мне светлячками из какого-то другого мира.
Из всех младенцев мальчик народился последним. Мать его была толстушкой, но таз у нее оказался узковат. Трудные были роды. Потом у нее случился какой-то спазм, даже помочиться не могла. Потом на второй день помочилась – мы тут все и обрадовались. Первые роды у нее были. Раньше, правда, выкидыш у нее случился.
Моей дочке шестнадцать лет. Очень она малышом заинтересовалась, запросто к соседям заходила. Все об этом знали. Сидит себе сидит, да вдруг с места сорвется, к соседям бежит на младенца посмотреть. Как накатывало на нее.
И вот как-то пришла с улицы, села передо мной и говорит: “Папа, а правда, что к Симамура их прежний ребеночек вернулся?”
– Не может быть! – выпалил я.
– Ты так думаешь?
Ее глаза как-то потускнели. Но она еще не отчаялась. Запыхалась, бежала во весь дух. Я не знал, что ей и сказать. Может, и не нужно было так ее охолаживать?
“Что, снова к Симамура ходила на ребеночка поглядеть?” – ласково спросил я. Дочь кивнула. “И что, он правда такой красивенький?”
– Пока непонятно. Родился ведь только.
– Ну и что ты там интересного услышала?
– Да вот смотрю, смотрю я на мальчика, а тут тетенька Симамура и говорит – а ты знаешь, Ёсико, что к нам наш прежний ребеночек вернулся? Тетенька Симамура ведь и раньше рожала, правда? Вот я и подумала, что это она о нем говорит.
– Вот оно что... – сказал я, затрудняясь с ответом. Так странно мне это показалось. – Наверное, ты не расслышала. Она хотела сказать, что как было бы хорошо, если бы он вернулся. Да и как про него узнаешь? Мы ведь даже не знаем, был ли это мальчик или девочка. Ведь тетенька Симамура не по-настоящему тогда родила.
– Да, ты прав.
Мне показалось, что я убедил ее. У меня самого осталось чувство какой-то недоговоренности, но Ёсико успокоилась. Поэтому я и не стал продолжать разговор. На самом-то деле выкидыш у Симамура случился на шестом месяце, так что вряд ли осталось секретом, кто это был. Но я не стал этого говорить.
Слух о том, что супруги Симамура твердят о том, что к ним вернулся их прежний ребенок, распространился среди всех наших. Дошел он и до моих ушей.
В разговоре с дочерью я воскликнул “Не может быть!”, полагая что разговор о возвратившемся ребенке – глупость. Однако по размышлении я решил, что это, может быть, tie совсем так. В давние времена подобные разговоры никто не счел бы бреднями. Да и сейчас такие люди тоже еще остались. Сами Симамура были, наверное, твердо уверены в том, что их неудавшийся ребенок переродился в нынешнего сына. Даже если считать их соображения за чрезмерную чувствительность, эта уверенность служила им утешением и подпорой.
Прошлый ребенок был зачат в те три дня, на которые вернулся отец во время передислокации его части. Выкидыш случился, когда он был на фронте. Сын родился через год с небольшим после демобилизации. Вполне можно представить, что они испытали после потери первого ребенка.
Ёсико всегда говорила о нем, как о живом. Она называла его “этот малыш”. Однако никто из деревни не держал его за живого. И только сами Симамура говорили о нем, как о народившемся. Я не хочу сказать, что этот малыш был человеком в полном смысле этого слова. Ведь он прожил свою жизнь в утробе. Он не видел солнечного света. Может, и души у него еще не было. Но люди все равно окружали его. И, быть может, его жизнь была безоблачной и счастливой. В любом случае он хотел жить.
Конечно, я не могу утверждать, что сын Симамура был точно таким же созданием, что и их первый ребенок. Но мы не знаем, какая биологическая и душевная связь между ними. Не знаем мы, как, когда и откуда берутся те силы, благодаря которым зарождается жизнь. Жизнь первого ребенка и второго – это разные жизни? Или же обе они составляют часть чего-то более общего? Поэтому голословное утверждение о невозможности перерождения, перерождения покойника в живого, является не более, чем предположением. Твердо заявлять о возможности перерождения или же его невозможности мы не имеем никаких оснований.
По размышлении я могу теперь в точности сказать, что раньше вся эта история с выкидышем была мне в общем-то безразлична. Однако теперь все изменилось. Я ощущал настоящее сочувствие. И стал думать об этом малыше, как о живом.
Когда стало известно, что жена Симамура избавилась от своих спазмов, дочка отправилась к ней посоветоваться насчет домашнего задания по труду. Помимо прочего, ею двигало еще и любопытство. Поскольку тетушка Симамура прожила какое-то время вместе с матерью в Токио у родственников, особой стеснительностью она не отличалась. Вернулись они потому, что дом во время бомбардировки сгорел. Я же был ответственным в нашей десятидворке за противопожарную безопасность и потому временами посещал эту семью, состоявшую из беременной дочери и старенькой матери.
Меня назначили на эту должность, поскольку я был единственным мужчиной, кто не ходил на работу. К тому же от природы я робок и потому чрезмерными придирками людям не надоедал. Ночному дежурному я рекомендовал приносить с собой книжку подлиннее – чтобы до рассвета хватило, старался поменьше тревожить сон людей. Обходы на своей одной ноге делал, за затемнением следил. Но это все. Хорошо, что в Камакура за всю войну ничего такого не случилось.
В начале весны, когда уже зацвела слива, во время ночного обхода я заметил, что с кухни Симамура пробивается свет. Я зацепил палкой за калитку, но как-то неловко – она выпала у меня из руки и свалилась за забор. На следующий день я хотел было пойти забрать ее, но постеснялся. Что я скажу? Вот, ходил тут ночью и палку обронил. А днем пришла беременная Симамура, стоя у ворот, позвала Ёсико.
– Это, наверное, твой отец во время обхода палочку обронил.
– А где вы ее нашли?
– Да вон, у калитки.
– И как это его угораздило?
– Так ведь темно же было.
Мы все жили в узком даже по Камакурским меркам ущелье. Во время воздушной тревоги я первым бросался к пещере на горе. Оттуда были видны все дома моей десятидворки.
В тот день был налет. Слышались взрывы. Уже добравшись до входа в бомбоубежище, я увидел, что Симамура стоит на тропинке. Сделав несколько шагов вниз, я закричал: “Скорее, скорее!”
– Вы только посмотрите на этих птичек!
И действительно – на старой сливе я увидел нескольких птах. Они отчаянно взмахивали крылышками, но взлететь не могли. Это были какие-то конвульсии в закрытом пространстве, где стенами служили зеленые ветки. Когда какой-то из птичек удавалось подлететь к ветке, она все равно не могла усесться на нее. То лапки разъедутся, то назад опрокинет...
Симамура добралась до пещеры, но и оттуда она продолжала наблюдать за сливой. Она сидела на корточках, плотно обхватив руками колени и смотрела на сливу.
В бамбуковую рощицу со страшным скрежетом врезался осколок.
Когда я размышляю обо всех этих разговорах про перерождения, я всегда вспоминаю тех птичек. Симамура была тогда беременна в первый раз. Это уже потом она родила без происшествий.
Вообще-то выкидыши во время войны случались часто. Зато беременели мало. У женщин как-то все в организме разладилось. А вот этой осенью – сразу в четырех семьях дети народились.
Вместе с дочерью мы проходили мимо живой изгороди у дома Симамура. Цвели камелии. Я их очень люблю. Мне осень вообще нравится.
Я шел и горевал о тех детях, которым из-за войны не удалось увидеть этот свет, о себе самом – война лишила меня жизни, думал о том, кем мне суждено переродиться.
1947



