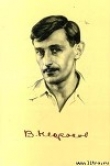Текст книги "Виктория"
Автор книги: Ромен Звягельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Пьяный капитан поднял перед ней указательный палец.
– Это нельзя! Гете запрещен. "Фауста " надо найти и уничтожить.
– Вот, вот,– подхватила Вика, – Найти. Надо найти прежде всего мою школьную подругу, господин капитан.
– Она сбежала? Она комсомолка? – взрычал Клоссер.
– Нет, она еврейка, и вы ее куда-то арестовали, – проговорила Вика спешно и добавила по-русски, – Баран неотесанный!
– А! Ист йорген! Пиф-паф!
Вика почувствовала, что еще одно мгновение – и она разможжит Клоссеру голову вот этой вот палкой от лопаты.
– Ком цу мир! Пойдем!– Клоссер сделал выпад в ее сторону, схватил ее за руку и потащил к калитке! Будем вместе искать твоя подруга и убивайт ее.
– Быстро же вы по-русски нахватались, – Вика попыталась высвободить руку, но Клоссер цепко впился, да еще за талию придерживал.
Они выкатились на дорогу, и Клоссер, который пьянел на глазах все больше и больше, потрусил вниз к жандармерии, не выпуская Викино запястье. Вика бежала за ним, и иногда ей приходилось подталкивать капитана, чтобы тот не завалился на нее.
– Какой хороший девочка! – кричал он, – Ты будешь умница! Пойдем со мной! Ком! Ком!
Ей на мгновение расхотелось искат Асю, вдруг почудилось, что никакой Аси Клоссер не покажет, а только поиздевается. Они съехали со склона, рядом с деревянной лестницей. Клоссер еле удерживался за перила со стороны земляного спуска.
Вика решила, что он ведет ее в комендатуру, попрощалась с жизнью, приготовилась к пыткам и избиениям. Да она спросила себя, готова ли она к боли, и прислушалась к себе. Не было в ней испуга. Свет в здании не горел. Только над входом мутно желтели лампочки и в кабинете дежурного светился ночник.
Пока она прощалась с жизнью, Клоссер дернул ее в другом направлении, в сторону дома Каменских. Вика, как воздушный шарик полетела за ним вниз. Они просеменили мимо Асиного дома и неожиданно Вика поняла, куда Клоссер ведет ее. Там, над ходжокским котлованом светилось небо. Поселок не спал, слышались звуки поезда, звякания в порту, там горели прожекторы. Из центра поселка выходил жесткий широкий столп света, он двигался по небу, и Вике показалось, что столп этот упирается в невидимый потолок, нависший над котлованом.
Вскоре показался мрачный призрак Успенской церкви. Перед ней горел огонь костра, тени прыгали по стенам, свет огня то расползался по всему облупленному боку церкви, то слизывал сам себя и сворачивался.
Вокруг церкви расположились фашисты. Двое сидели прямо на ступеньках крыльца, кто-то играл на губной гармошке.
– Стой здесь, – приказал Клоссер.
Он пошел покачиваясь к наряду, Вика смотрела, как пережимаются его женские ягодицы, открытые задравшимся мятым форменным пиджаком.
– У, стрельнуть бы по твоему толстому фашисткому заду!
Он открыл перед ней двери собора, просунул внутрь факел. Вика зашла в темноту, огненные блики пробегали по лицам спящих вповалку людей. Первой она узнала пожилую соседку, которая спасла ей жизнь неделей раньше.
Кто-то приподнял голову: папин завхоз, Вика узнала и его яйцеобразную голову с завитками по краям.
Ася спала в обнимку с матерью, обе они лежали возле амбразуры – на краю пропасти. Немцы, очевидно, понимали, что никто не побежит через этот лаз слишком отвесный, почти вертикальный склон вел в долину.
– Ну, нашла, – спросил Клоссер по-немецки?
Вика отрицательно покачала головой.
– Они все будут пиф-паф!
Немец прицелился пальцем и, происнося "паф, паф", стрелял в людей.
– За что? Что они сделали?
– Они предали Христа! – был ответ, – их всех расстреляют.
Стены надвигались на Вику, она четко различила фрагменты фресок, прикрытые грязной штукатуркой, раньше она не видела эти изображения над окнами, она еще раз взглянула на Каменских. Марк Семенович бережно укрыл головы своих женщин рукой, другой накрыл их, словно боялся проснуться уже без них.
Клоссер вынес из помещения факел и позвал Вику.
Она побежала домой, как только церковь скрылась за поворотом дороги. Клоссер не погнался за нею.
Павла Павловича Вика подстерегла в огороде, у туалета. Окликнув его, она рассказала о вчерашнем, о Каменских, о полусотне людей, томящихся в церкви неподалеку.
Павел Павлович заметно похудел за последнее время, кожа на нем висела, он был бледен и рассеян.
– Деточка, таких вещей больше не предпринимай, это ты не можешь, это ты не в силах.
– Павел Павлович, я в силах, в силах. Павел Павлович, здесь где-то должна быть библиотека, то есть церковные документы, монастырские...
– В поселке может и не быть, это же дела такие... А зачем?
– Ходы, понимаете. Ася рассказывала, что церковь эта была главной храмовой церковью монастыря, вы не видели, там на подъеме даже корни монастырской стены сохранились. Там лазы должны быть, дорогой, замечательный Павел Павлович!
Хирург закусил губу, закивал сам себе.
– Как же их искать?
Викин мозг работал виртуозно.
– Может, спросить у стареньких, кто здесь давно живет, кто до революции здесь жил?
– Ай, умница.
Стали искать старожилов Ходжока. Помог Саша Оношенко. Его семья жила в Ходжоке испокон веков, когда еще речка подходила к самому верхнему поселку, так говорила ему прабабка.
Он привел Вику к себе, в низкую покосившуюся хибарку, пол которой под ногами не только проминался, но и буквально шатался, как качели.
– Стой, а фрицы? – шепнула Вика, переступив было порог.
– Нет сейчас никого, все на выезде. Они что-то строят за садами, в той стороне, где старые шахты.
Саша Оношенко, за ним Ренат вошли в темный коридорчик, прошли вперед Вики в угол, где оказалась дверь.
– Они в том доме живут, – добавил Ренат, – Иди не бойся.
Прабабка Оношенко была действительно древняя, то, что надо. Саша приступил к ней от порога, не дав старухе разглядеть вошедших.
– Бабуля, вот монастырь был в верхнем поселке...
Старуха, тощая, чернолицая от старости, как стены дома, с гармошкой морщин и заметным пушком над верхней губой, пахнущая ветхим трухлявым деревом, посмотрела на Вику и вдруг быстро скороговоркой стала объяснять.
– На утесе, вона там, а как же, знаменитый Успенский монастырь, туда до революции со всего Кавказа и аж с Дона православные сходилися. Помню, был там настоятелем святой Филарет, лечил людей, люди к нему месяцами ждали черед. А он, батюшка, ласково посмотрит, с добрым сердцем выслушает, говорит, иди, матушка, домой, молись, все тебе воздастся. Сам Господь Бог через него чудеса творил, Филаретом его звали. Он и схоронен там, в пещерах.
Вика напрягла слух до боли в скулах, впилась в бабушку Оношенко глазами.
– А где же это?
– Не время сейчас к чудотворцу ходить, хотя оно то и надо ба.
Вика присела на корточки возле старушки, положила ей ладони на колени.
– Ишь черноглазая, твоя что ля, Санек?
Саша Оношенко смутился, сказал, что Вика его одноклассница, а Ренат Лавочкин ревниво следил за тем, как двигаются его влажные яркие губы.
– Бабушка, а ходы те можно найти? Вы сами там были?
– Ходили. Я-то перед революцией, в ампиралистическую, замуж вышла. Так ходила просить, чтобы мужа маво не убило на фронте. Тяжелая я была.
Бабушка Оношенко гладила руки Вики, похлопывала по ним.
– Помогла могилка старца Филарета. Заходили мы, помнится, через лаз, что на верхнем тракте.
– Это какой же такой верхний тракт?
– Что на село Верховье ведет. Там нонча лекарня.
Тут Вика уж и сама вспомнила, что видела – видела! она этот вход в пещеры.
– Знаю, знаю, где это! – уверенно сказала она, – Так что же, бабушка, от того хода можно и в сам монастырь пробиться?
– Не знаю, милок, не знаю. Мы-то пробивалися.
Павел Павлович лежал в овраге лицом к дороге, смешно высовывая голову.
Вика ползала по поляне, ухабами сходившей вниз, стараясь найти ту яму, в которую попала, убегая от фашистов. Парни искали в другой стороне.
Вот он, лаз: черный пахнущий черноземом вход, словно львиной гривой обрамленный сухой травой и корневищами.
Не дожидаясь Павла Павловича и ребят, Вика нацепила платок, нагнулась и палкой нащупала: ступени. Она присела и спустила ногу. Оказавшись внутри, она зажгла спичку. К ее удивлению, стены здесь были не земляные, а серые, похожие на цемент. То ли это побеленный песок, то ли белая глина. Сверху, с потолка свисали тонюсенькие корни трав. Мороз по коже пробегал от одиночества, вот она смогла встать в полный рост, зажгла свечу, предусмотрительно взятую из дома Оношенко, пошла вперед. Впереди и позади стояла непроглядная мгла.
Наверху все притихли: по дороге проезжали мотоциклисты. Павел Павлович понял, что те сбоку могли его заметить, овраг выходил прямо на боковой вид. Но немцы проехали, не обратив внимания на рыжий холм и прячущихся в его листве людей.
– Вичка! – позвал Ренат, – Вичка, ты где?
Но Вика не слышала, она была в этот миг как раз под ним, на глубине метров двадцати. Она шла по жесткому сухому полу, ледяной воздух обдавал ее дыханием потустороннего мира.
Пока ход был прямой, однолинейный, Вика представляла куда он ведет ее, что сейчас там над ней, и убеждалась в том, что ход соединяет эту часть холма с монастырем. Ей пришлось несколько раз спуститься по земляным ступеням, она оказывалась на просторных площадках и спускалась дальше, попадая снова в коридор. Вскоре пошли ответвления, кельи – она просовывала в темные проемы свечу, в шарообразных маленьких помещениях виднелись земляные нары. Пахло влажным гипсом, все кругом было пусто и жутко.
Страшнее было в узких простенках, чем нежели в больших сводах подземных ходов. Спустя длительный промежуток времени, сколько его прошло, она не понимала, ход неожиданно повел ее наверх. Она уже окоченела, голени ее и лодыжки в беленьких носках покрылись мурашками и не чувствовали прикосновения. Вика по ступеням поднялась вверх и обнаружила перед собой стену и дверь в ней. Дверь была деревянная, сквозь щели пробивался белый яркий свет и теплые струйки воздуха.
Она попыталась открыть ее, но дверь от легкого прикосновения подалась и стала падать на Вику. Оступившись, она сначала упала навзничь и покатилась по ступеням в темноту, дверь, догоняя ее, больно билась о ее бока.
Все кругом осветилось. Когда она подняла окровавленную голову, она увидела только небо. Ей показалось, что она на вершине самой невероятной по высоте горы, и обратного пути нет.
Разодраны были не только туфли, платье и косынка, но и ее коленки, из губы хлестала кровь.
Она вспомнила, что не встретила по дороге могилы чудотворца Филарета, иначе бы он помог ей найти подход к собору. Тихо ступая, она поднялась к отверстию, легла, высунула свои косички, подстегнутые ленточками к своему основанию, наружу и застыла от восторга и жути.
Это была ходжокская котловина. Туман простирался над рекой, значит, было еще утро. Вике казалось, что прошло много лет с тех пор, как она спустилась в пещеру, и вот он, результат. Под ней шла вниз совершенно прямая стена, вверху – она попыталась задрать голову – вверху гора заканчивалась метрах в двух от нее, но дотянуться до этого верха было невозможно. Вика ударила кулаком по земле и беспомощно заревела, растянув запекшуюся губу, губа треснула и она почувствовала солоноватый привкус крови во рту.
Ей показалось, что она услышала голоса. Она перестала шевелиться, да, это были звуки человеческого голоса. Вика еще прислушалась: нет, говорили по-русски.
Голоса, казалось, шли с неба, прямо над нею ворковали люди, голуби, духи... Она присмотрелась к потолку, к своду пещеры. По периметру помещения виднелись кирпичные основания какого-то строения. Какая-то белая полоска виднелась прямо над головой Вики. Она поднялась и увидела, что наверху, над ней, не земля, а доски. Поискав подставку, она нашла ящик, встала на него, просунула свой взгляд в щелку. Это была церковь. Она побежала к опасной голубой амбразуре.
– Эй, – шепотом прокричала она, снова высунувшись из проема, – Эй, слышите!
Голоса замолкли, что-то шмякнулось на траву. Она увидела лицо Софьи Евгеньевны.
– Вика! Что ты делаешь, как ты забралась? Ася! Ася!
Она увидела над собой бледное личико, неузнаваемое, обреченное.
– Тише! Ася! Вам надо спасаться. Всем. Здесь пещеры, ходы, помнишь?
– Марк, иди сюда, – зашептала Софья Евгеньевна, – нет, лучше иди сторожи, сторожи нас.
– А у нас тут утренний моцион, – грустно пошутила Ася, – Привет, подружка.
– Значит, так. Хватит болтать. Идите ищите вход в подпол. В крайнем случае разбирайте доски. Не сегодня – завтра вас поведут на расстрел!
– О-о, – зарычала Софья Евгеньевна, – Нет! Они сказали, что перевезут нас в другое место, типа общины, поселения...
– Я вам говорю. Вы Христа продали. Это я для ясности.
Софья Евгеньевна пожала плечами:
– Если бы мы продали Христа, мы бы были очень богатыми. Почему же мы живем в неволе? Марк, ты слышишь, что она говорит, надо разбирать пол.
Головы исчезли, слышно было, как Софья Евгеньевна пробирается через лаз обратно в церковь, ходит над головой Вики. На ее пробор полетел песок. Внезапно кто-то навалился на нее сзади и сердце ее ухнуло в пятки. В глазах стало темно и она потеряла сознание.
Прошло минут десять, пока Павел Павлович приводил ее в чувства.
– Как же ты так неосторожно, – укорял он Сашу, – Она столько натерпелась! А ты! Я, взрослый мужик, один бы побоялся, а она ... как будто чувство опасности отсутствует!
– А так бывает? Вот здорово! – ахнул Ренат. – А чего же она Саню испугалась?
– Ну, во-первых, нервное перенапряжение, во-вторых, дело может быть и в Сашином облике, а потом, в усыпальнице настоящего святого, рядом с мощами, все чувства просыпаются!
На этих словах Вика стала приоткрывать глаза, и первое, что она увидела, был скелет, слегка прикрытый истлевшей парчой, на приступке за спиной Павла Павловича. Она теперь уже и не могла точно сказать, Саша ее напугал, или это был кто-то другой, кто-то еще...
С треском отломилась доска над головой Павла Павловича. Она присел на корточки, прикрыл голову ладонью. Над ними стояли люди.
– А где остальные, – вдруг спросила Вика, – Вас здесь ночью больше было.
Все молчали.
– А где тетя Тося? А где Лев Борисович?
Никто не ответил ей.
Быстро, по-одному спрыгивая в подпол, на мягкую мучную землю пещеры, люди проходили мимо них, мимо мощей святого чудотворца Филарета и исчезали в черном узком коридоре.
– Ася, где моя Ася, – настораживаясь все больше и больше, спрашивала Вика, все еще лежавшая на ступеньках, ведущих в небо.
Последним спрыгнул мальчик лет пятнадцати, которого Вика никогда раньше не видела. Он сказал:
– Бегите, ребята. Скоро нас хватятся. Ноги надо делать. А ту семью, которая утром по краю обрыва гуляла, сразу, как они про вас рассказали, забрали фрицы, вывели из церкви. Еще с ними несколько человек. Ну, не стойте, уведите же ее.
Вика еще долго боролась, пытаясь обратно поднять и отодвинуть доску, бросаясь в лаз, стараясь вылезти наружу через проем в стене. Выстрелы наверху прозвучали, когда она смирилась и дала себя увести.
Павел Павлович привел ее домой. Они шли открыто, по дороге, навстречу беспокойно проносившимся мимо грузовикам. Где-то со стороны Кубани, со стороны Краснодара ухали раскаты громовых орудий, Вике даже казалось, что ветер доносит многотысячное "Ура!", протяжное, остервенелое!
Она прошла мимо своего дома и направилась дальше, Павел Павлович решил, что она хочет к нему, посидеть в их доме, пока не отойдет от произошедших событий.
– Не боишься? Там большие чины, полковник ЭСЭС, адъютанты его.
– Мы незаметно.
– Ну, пойдем, моя хорошая, Лариса с малышкой нам чайку нальют, гренки испечем.
– Почему вы не уехали, может быть, Каменские бы с вами увязались бы. Теперь их нет. Софья Евгеньевна была хорошей учительницей, доброй. А Марк Семенович, он был хорошим врачом?
Павел Павлович кивнул и пошел во двор, оставив открытой калитку.
Вика машинально прошла мимо, остановилась только у последнего участка. Она надумала пойти вперед, к церкви, посмотреть, что там происходит.
Поскольку со времени побега заключенных прошло уже часа два, их, конечно, давно хватились, оцепили должно быть местечко. Она выглянула из-за боковых, самых дальних стволов, открывающих поляну, увидала, что поляна пуста. Значит, фашисты уехали отсюда. Нечего им больше здесь делать. Она подошла к церкви. Костер еще теплился, от него шел ванючий резиновый запах. Она стала обходить собор по краю холма, с трудом находя место, где можно бы поставить ступню, дошла до могильных крестов, легла на землю. Открытого отверстия на склоне видно не было. Она прочитала надпись на старом широком кресте. Поняла только имя и дату смерти: чдтв. Филарет, 1834.
Перепутала что-то бабушка. Не может же быть ей сто пятьдесят лет.
Она стала возвращаться, так же осторожно ступая на кочки, но тут взгляд ее упал вниз, и она закричала.
Внизу, на одном из уступов крутого отвесного склона лежало тело Аси. Тоненькое, легкое, оно как-то удерживалось на маленькой площадке, в то время как другие тела – тети Тоси, Льва Борисовича и Асиных родителей лежали у основания горы, далеко, так далеко, как будто они были уже не на земле, а где-то за пределами.
Вика закрыла рот ладонями, выдыхая, в них свои рыдания, не помня себя шагнула вперед. Мощная рука Павла Павловича подцепила ее предплечье, уволокла в безопасность.
– Уйдите! Мне больно! – кричала Вика. – Мне больно! Вот кровь на стенах. Кровь. Здесь в них стреляли, пускали пули. Здесь тащили. А ваш Бог на все это смотрел и радовался. Он любит мучеников. Он их не спасает. Он за людей решает, что тот свет прекраснее, чем этот. А он-то сам кто?! Изверг!!!
Вика орала, билась в истерике и пыталась стукнуть своим маленьким кулачком по красной кирпичной стене.
– Молчи, молчи, дочка, – сипел Павел Павлович, – Родная, сколько людей спасла. Молчи.
До свидания, девочки
Накануне вечером в поселок нагрянул отряд эйнзацкоманды, командиру подразделения доложили о неприятном инциденте с побегом арестованных местных евреев.
Вермахтом еще перед вторжением в Польшу был разработан план по освобождению восточных земель от коренного населения. Важная роль при этом отводилась карательным органам, в первую очередь СС. Руководство СС активно участвовало при разработке и внедрении планов экспансии, при захвате восточных территорий гитлеровцы ставили цель – обезлюдить пространства, освободить их от коренного населения для немецкой колонизации.
Основным документом планирования захвата чужих земель и порабощения местного населения был генеральный план "Ост" – "Восток": архивный номер 484173 – "Прововые, экономические и территориальные основы развития Востока". Разработан и утвержден этот план был в июне сорок второго. План содержал обзор предполагаемого экономического развития восточных территорий, отграничение колонизированных районов от остальных оккупированных земель, основные принципы их использования вплоть до создания коллонизационных марок.
В марте 1942 года рейскомиссар оккупированных восточных областей, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы в телеграмме комиссарам областей настаивал на увеличении объема отсылки в Германию рабочей силы и форсировании этих задач любыми мерами, включая самые суровые принципы принудительности труда, с тем, чтобы в кратчайший срок утроить количество завербованных.
Вечером, капитан Клоссер снес калитку, распахнул дверь в дом, ворвался в комнату Вики и Елизаветы Степановны и стянул Вику с постели. Он с разлету влепил сонной девочке пощечину и еще, и еще – пока Елизавета Степановна, у которой не получалось оттащить его, не впилась зубами в его плечо. Клоссер зажмурился, схватился за плечо, ударил Елизавету Степановну ослабевшей рукой и ушел.
Утром их разбудило тарахтенье мотора.
– Матка, вставай.
В каморку втиснулись Клоссер, его адъютант, и какой-то переводчик.
– Собирайтесь, дочь едет на земляные работы.
Елизавета Семеновна, которая так и не допыталась ночью, за что ее бил Клоссер, поднялась, как призрак из-под земли, загородила дочь. Переводчик устало и презрительно попытался объснить еще раз:
– Она у тебя крепкая девица. Надо погнать поработать на благо вашей новой страны Германии.
Переводчик был из тех, кто и в возрасте сорока, сорока пяти казался вьюношей-очкариком. Он безаппеляционно, но в то же время беспристрастно выговаривал слова.
– Там ждейт машин. Все молодые люди едут на десять дней – на пятнадцать дней на земляные работы.
Елизавета Степановна и Вика теперь стояли перед ними, забыв про свои ночнушки... Вика никак не могла проснуться, все кружилось в голове: Ася, Филарет, Павел Павлович.
И вдруг ее ударило молнией: увозят!
– Мамка, вещи зобирайт, два кофта, два белья, еда немного, – он хохотнул и хлопнул себя по животу, – остальное нам.
Вика перелезла через причитающую что-то невнятно мать и сволокла с комода чулочки, майку и халат. Сначала она надела на себя халат, потом посмотрела на Клоссера:
– Может, выйдете?
– Одевайся, одевайся, – пригрозил переводчик, перехватив слащавый взгляд Клоссера.
Мать встала и стянула с кровати простынь. Надменно глядя на офицеров, она загородила дочь.
– Зачем ты одеваешься. Они не могут тебя заставить.
У Елизаветы Степановны блуждали глаза по крепкому, холеному телу дочери, прыгающей на одной ноге и поочередно подвязывающей чулки. Она не понимала значения произносимых слов.
– Мама, у них оружие и они здесь. Они Каменских убили, мама, проговорила Вика.
– Ой, деточка моя! – Елизавета Степановна положила свою красивую тяжелую ладонь на грудь, – Как же это, а?
– Матка, тебе сказано: на два неделя. Ростов, Краснодар, может и ближе. Надо трудиться, пока молодой. Бистро, шнель.
– Клади, мама, нитки с иголкой, бумагу с карандашом, хлеб с салом, платье вот это, платье то – матросское. Пальто достань, я одену. Сапоги. На зиму пуховой платок и варежки. Штаны. Завяжи в большой платок, им прикрываться хорошо...
– То есть как, на зиму? – спросила Елизавета Степановна, повернувшись к Клоссеру.
Переводчик поднял на нее автомат, перекинув его вперед. Клоссер показал ему рукой притормозить.
– Она моя работница, – сказал по-немецки, – Я тут решаю.
Мать непонимающе посмотрела на дочь.
– Я, мама, это так... на всякий случай. Ну, вот и все. Прощай, единственная моя, любимая моя, добрая моя, мама. Если что, не поминай лихом. Ваня и батя отомстят.
Елизавета Степановна дрожащими руками обхватила голову дочери, сжав ее лицо, скомкав непереплетенные косички, больно сдавила ей виски, офицеры и солдат стали отдирать девушку от матери, но не в силах были победить материнскую силу, материнское горе.
Адъютант еще раз дернул за плечи Елизавету Степановну, потом отошел, сколько мог, и с разбегу ударил ее ребром ладони по шее. Елизавета Степановна обмякла и осела возле кровати. Из носа ее полилась кровь. Вику не пустили к матери, выгибающуюся вынесли из дома, как выносили недавно из этого дома мертвую Матрену Захаровну.
Закрытый грузовик, в который бросили Вику, покатился вниз, к вокзалу, по пути собирая юных, полных жизни, юношей и девушек поселка-порта Ходжок.
Они ехали в холодном, отсыревшем, темном вагоне. Кто-то в темноте предлагал разворотить пол и сбежать.
Ехали сутки. Состав шел медленно, иногда притормаживал, несколько раз, в основном ночью, останавливался на полустанках
Днем под крышей кто-то проделал большую ращелину, света немного прибавилось. Стали осматривать друг друга. Вика сидела в середине, прислонясь спиной к стене. Рядом с ней оказались незнакомые девушки. На платформе Ходжок большую толпу собранной молодежи рассортировали – парней отдельно, девочек отдельно. Потребовалось по два вагона на тех и на других. Вика не могла себе представить, что в поселке столько молодых людей ее возраста или чуть помладше. Те, кто постарше, да и многие ее ровесники успели уйти на фронт.
Лица у многих девчонок были заплаканы. Но были и такие, которые держались мужественно, не рыдали, не причитали.
– Это же сколько народу повывезут теперь отовсюду? – шептали одни.
– Не знаете, куда нас? – спрашивали другие.
– На десять дней.
– И вам сказали, что на десять дней?
– Да, видать, правда.
– Да окопы рыть везут. Окопы.
– Окопы? Против кого ж те окопы?
– Да против наших же.
– Выроем мы им окопы. Могилами станут те окопы. Не трусь, ребята...
– Выходит, уж теснят их наши-то, раз окопы...
Вика слушала те разговоры с жадностью, машинально высматривала знакомых. Но не она первая, а Саня Оношенко и Ренат Лавочкин первые увидели ее. К тому времени их уже развели и расставили в шеренгу, Вика метнулась, но это все, что она могла – метнуться к своим дорогим мальчишкам, горько пожимавшим веками, пытаясь поддержать ее, утешить.
Вика еще какое-то время смотрела из соломенной темноты на станцию и высившуюся за нею гору, на которой в рыжей хвое утопала ее родная хата. Так и не разглядев, не отыскав ее, Вика увидела, что в вагон запустили последнюю девушку, полненькую, с трудом закинувшую себя в эту ловушку – и дверь вагона, скрипуче проехав по рельсине, с грохотом закрылась за ней.
Когда глаза привыкли к темноте, девочки, молчавшие уже два часа, потихоньку разговорились.
– А я тебя знаю, – сказала та полненькая, что не могла вскарабкаться в вагон, – ты на районном конкурсе рисунка первое место заняла. Точно?
– Было дело, – кивнула Вика, – А ты откуда?
– Я с верхнего поселка, с улицы Радио. У нас в школе таких талантов нету. Меня соседка брала на конкурс посмотреть.
И тут Вика вспомнила, где она видела ее.
– Ася?
Девочка отшатнулась от стенки, посмотрела на Вику.
– А ты откуда знаешь?
– Это моя подруга. Я тоже с верхнего. Я тебя в огороде видела, и в магазине.
– А где же подруга твоя, увиливает от работы? – пошутила девочка, – Они хитрые, эти евреи.
Вику обожгло, злость физически ощутимо пробежала по ее жилам.
– Они, может, быть и хитрые, да вот только мы с тобой на немцев пахать едем, а она на дне котлована лежит, с пулей в сердце.
Вика замолчала, стараясь не дать волю слезам.
– Ты не сердись. Насчет евреев – это я за матерью повторяю. Мне Ася очень даже нравилась, – процедила девочка и вдруг стукнула кулаком по доскам пола, – Ненавижу! Этих гадов! Как бы их истребить всех, как их земля носит! Фашистов этих!
Она достала из мешка картошку, колбасу и огурцы. Расстелила перед Викой.
– Я когда нервничаю, должна поесть! Видишь, какая толстая, все поэтому. И засыпаю моментально. Мамаша меня доводит. А сама изводится, говорит, что мне все скандалы, как об стенку горох, мол, лягу и усну, а она всю ночь блох считает. А у меня реакция такая. Кушай, небось не успели картохи наварить.
Вика увидела, что место у белого глазка в досках освободилось и пошла, расставив руки, к противоположной стене.
Они проезжали красивый ровный пейзаж. Еще когда поезд тронулся, Вика поняла, что везут их в сторону Краснодара, Ростова, но никак не на юг. Она с тех пор, как привез их батя в Ходжок, помнила, с какой стороны пришел поезд, в какой стороне осталась Кубань, Темиргоевская, Плахов и Юрка Толстой.
Конечно, никто не мог знать, что там задумали немцы, что запланировали в своих железных фашистских мозгах, но приближение к замечательному городу Ростову радовало ее.
Крепкий немецкий состав бежал по краснодарской земле, огибая пушистые круглые деревья на коротких стволах, туманные луга, быстро перестукивал по мосточкам, по высоким насыпям над болотными топями, быстро просвистывал по широким лесным просекам и снова вырывался на равнину, где в утренней тяжелой дымке проступали сырые стога.
– Хоть бы нас разбомбило что ли по дороге, – вздохнул кто-то за спиной.
Другой голос отозвался:
– Чтобы не достались фашистам на растерзание. Я согласилась бы. Пусть бы наши налетели.
– Или партизаны бы поезд под откос пустили, – добавил третий голос, Глядишь бы и остались бы живы.
– Девчонки, а какой у нас по счету вагон?
– Шестой, чи седьмой.
– Уцелеем.
– А парни?
Все замолкли на минуту. Парни ехали в третьем и четвертом. В промежутке шли платформы с артилерией.
– Не, тогда не надо, – протянул первый голос.
– Ну, хватит, – раздалось над ухом Вики, – Дай другим посмотреть, подышать.
В вагоне, и правда, стоял затхлый воздух старой избы, который по мере потепления за пределами вагона, становился сухим и едким.
Девчонки просились в туалет, дубасили на полустанках в дверь, но никто не отвечал им. К вечеру многим пришлось делиться питьем и едой с соседками, которые не расчитали провизии.
Все они уже рассказали друг другу по кругу, как их забирали, какие слезы лили матери, и Викечудился за поездом звук материнских рыданий.
Спать не хотелось. Вика полулежа сидела на прежнем месте, а Шура, Асина соседка, беспокойно посапывала, прислонясь головой к ее боку, подложив под ухо локоть.
Стало холодно, Вика давно уже надела свое старенькое фассоное пальто, накинула на себя поверх пальто шаль, укрыла ноги. На голову повязала другой платок, нащупав его в узле, тот стал маленьким: немного еды и валенки.
Она знала, чувствовала настолько, что чувство это можно было принять за достоверное знание, что зимовать в Ходжоке ей не придется.
Спустя два месяца она снова ехала в товарняке, набитом девичьими телами.
Поезд шел на Запад. Она стояла на ящике у маленького незастекленого окошка, что сиял белым светом неба, которое не подавало признаков жизни, как лицо умершего.
Обтрепавшаяся одежда ее была аккуратно заштопана: она одна из немногих догадалась взять с собой иголку и нитки.
Варежки она отдала Шуре еще в самом начале, когда их привезли в на окраину Ростова и выдали кирки и лопаты.
Сколько тут было народу!
Цепочки людей, молодых, угнетенных надзирающими стволами автоматов, долбили мерзлую землю. До самого горизонта уходили те цепочки. Кожа пристывала к стальным ломам, раздиралась неотесанными коренками лопат. Вика давно осознала, что она обречена опекать неповортливую, неловкую, неприспособленную Шуру. Всякий раз, когда она внутренне возмущалась этой обузе, она вспоминала Асю. Она говорила себе, что это Ася послала к ней Шуру, и теперь она, Вика, обязана уберечь эту девочку от смертельных опасностей и тягот.
Их водили на окопы через весь город и однажды провели по улице, где они останавливались у отцовского брата. Улицы не было. От дома остался лишь первый этаж, точнее стена первого этажа с вывеской "Парикмахерская". Вике показалось, что она уловила тонкий запах одеколона, шедший из выбитых дверей и зияющих рам, но внутри дома не осталось ни намека на пакимакерский салон, там лежала груда обломков и щебня, отчего дом казался еще огромнее, еще мощнее, чем цельный.
Город стоял в руинах. Особенно заметно это было отсюда с окраины. Вика давно научилась смотреть на войну, как на данность, давно не переживала из-за собственной боли и постоянной близости человеческой трагедии.