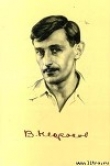Текст книги "Виктория"
Автор книги: Ромен Звягельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Звягельский Ромен
Виктория
Ромен Звягельский
Виктория
Внукам моим
Денису и Александру
посвящаю...
Об авторе и его книге
Ромен Звягельский человек, про которого можно сказать: был везде, исколесил более тридцати стран мира. Любимые места Камчатка, Сахалин, Курилы, Дальний Восток... Семь лет жизни отдал Чукотке. Прыгал с парашютом, спускался на подводных лодках, ходил в дальние морские походы, поднимался в заоблачную высь, дрейфовал с полярниками на станции "Северный полюс-23".
Жизненное кредо: "Как я счастлив, что нет мне покоя".
Публицист, каинодраматург, автор многих книг и сценариев. Один из них "Вторая жизнь старого фото" получил Гран-при на кинофестивале в Риме.
На его счету много раз восстановленная справедливость. Каждое прикосновение его пера к бумаге – слово о добре. Каждое написанное им слово – искренне.
Фантастическое чувство испытывает человек, приобретая и открывая только что написанную, свежую книгу. Это момент сравним с приближением к новой галактике: что в ней, добрыми или злыми силами она создана, для чего она явлена мирозданию, примет ли она тебя?
Очевидно, создание книги сопоставимо с рождением ребенка. А может быть, его величество Замысел возникает совсем обыденно, тихо, даже скрытно. Живет человек, пишет прозу, умеет видеть и замечать в этом мире то, что не всем нам дано: просто открывает нам великолепие заморских стран, ромашку в теплом сене, таинственность дамы в страусовых перьях, показывает, как в сравнении познавать добро и зло, о нас самих нам рассказывает.
Но ведь человек и приобретает способность к Творчеству, когда осознает в себе дар объективно оценивать необходимость того или иного повествования для человечества. Когда понимает, что без его романа человеческое общество будет беднее, неразумнее, непросвященнее. Что называется, не может не писать, и вот тогда, "от избытка чувств глаголют уста".
А где-то на другом конце света живет известная художница, милая, скромная женщина, ученица великих и выдающихся фламандцев, растит четверых детей, любит мужа, любит жизнь, потому что каждое мгновенье своей жизни помнит какой ценой завоевано счастье.
И кто мне может возразить, когда я утверждаю, что встреча этих двух людей: автора и его героини – божественное провидение. Не бывает случайностей: жизнь умнее нас! А еще... в случайности верят те, кто не верует.
И надо же было российскому журналисту, автору повестей и рассказов, очерков, настоящему офицеру, доброму, грустному, порядочному человеку проехать половину Европы, оказаться в бельгийском городе-порте Антверпене, встретиться там с художницей Викторией Смейтс, подспудно понять какая могучая личность явилась ему и... вдруг узнать, что перед ним кубанская казачка Виктория Васильевна Сорина.
Для нас с вами произошла эта встреча, – ибо жизнь этой женщины замечательна, поучительна, интересна. Ибо Кто-то хотел, чтобы появилась на свет Книга.
Мне могут возразить: на чужих ошибках никто никогда еще ничему не научился. На чужих ошибках, – может быть. Но, на чужом мужестве, на чужой чистоте, на высоком... – а для чего же тогда вся великая мировая литература?
Российское общество только снимает шоры с глаз, только начитает отходить от коллективизации умов и стереотипности поведения. Мы уже не приветствует гибель за идею, особенно если идея безнравственна. Именно поэтому возможно воссоединение с родиной тех его граждан, которые всегда мыслили индивидуально и были сильнее системы. После освобождения из концлагеря героиня романа выбрала не любимую родину, а любимого мужчину. Но еще она выбрала жизнь, а не смерть. Еще она выбрала разум, а не тупое подчинение распорядку лагерной страны.
Писатель одним из первых рассказывает нам о том, как система преследовала своих граждан, и без того прошедших страшные испытания и ни в чем не виноватых, за пределами СССР и даже за пределами так называемого социалистического лагеря.
Да знает ли кто-нибудь, что такое расставание с родиной? Когда бьется душа человеческая, как родник, придавленный камнем. А еще страшнее, отлучение от родины – среди своих. Своих ли? Не дай вам Бог испытать...
...Бьет ключ чистой души моей землячки, достойно отстоявшей свое счастье и свою свободу, свое дело, свою неповторимость и чувство.
Литературоведы говорят: автор – обладает "всеобщностью" видения. Это значит, что автор знает, что думают, что чувствуют его герои, что будет с ними дальше... Ромен Звягельский знает, что будет не только с его героиней, но и с прототипом этой героини: она и дальше будет счастлива и переживет все невзгоды, у нее есть четверо красивых взрослых детей, целых две родины, множество друзей и живопись.
И еще у нее есть эта книга, в которой – такой живой, такой молодой худенький светлоглазый Якоб, ее Жак, который дал ей любовь, да такую любовь, о какой пишут книги и слагают песни!
Марат Самсонов,
народный художник России
ВИКТОРИЯ
Москва-Антверпен-Торгау
1999 г.
... любовь – над бурей поднятый маяк,
не меркнущий во мраке и тумане..
У. Шекспир
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ * ЭТО СТРАШНОЕ ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО
Лагерь под Торгау
1944
И редко сквозь решетку луч зари
Пройдет сюда с теплом, участьем.
Тогда мне кажется: ко мне пришло,
Платком накрывшись алым, счастье.
Муса Джалиль.
Он добился своего. Глаза сначала стали слезиться от ветра, от слабости, от усталости, а потом, уже ползущие по щекам слезы, превратились в слезы отчаяния и безысходности. Ах, ветер! Ветер! Где твои сильные руки, уносящие эти две былинки отсюда навсегда?
Вот она приближается к своим. Одна женщина оглядывается:
– Викачка, рассопливилась!
Это грубо, но почему ей становится так обидно, когда она слышит грубые слова? Ну вот, пожалуйста, слезы потекли еще сильнее, а ведь она не хочет, совсем не хочет плакать. Здесь это не принято, потому что не вызывает сострадания.
Здесь мало сострадания. Но все остальное человеческое – осталось. Но что тогда – осталось?
У него разрывается сердце. Сначала он замечает издалека, что лицо ее немножко изменилось, вот эти тоненькие черточки по краям губ стали чернее, губа дернулась, набухли крылья носа, она выпячивает нижнюю губу и по-детски выдыхает. Теперь он видит ее мокрое лицо: в нем блеснуло солнце. Красный отблеск напугал его. Он поднял глаза к небу и увидел, что небо помрачнело, как ее лицо: закат сегодня малинов и торжествен.
И тут он зарычал. Это не было похоже ни на один из известных природе звуков дикого зверя, он зарычал по-человечьи. Всю кожу его покрыли мурашки, он не мог вытерпеть ее страдания и зарычал в небо всей носоглоткой, плотно сомкнув губы и прикрыв веки.
И в это мгновение что-то произошло в толпе. Люди, до той поры составляющие две плотных стены брыкающихся, толкающихся локтями и бедрами, вожделенных собеседников, вздрогнули, сжались и отделились друг от друга, а затем по ту и другую сторону прохода они стали расступаться, отодвигая других, стоящих сбоку.
Словно огромный шар воздуха оттеснил их, образовав узкий проем, и они бросились друг другу навстречу. Им казалось, что они бегут уже вечность, они приближались друг к другу, протягивая руки и шепча имя.
– Жак.
– Виктория.
Оба они готовы были уже взлететь, в ту секунду, когда налету, наотмашь, всей своей юной плотью не ударились об упругие струны колючей проволоки, преграждающей каждому из них дорогу к счастью. Она застонала, по-младенчески наклонив голову к плечу, лицо ее некрасиво исказилось, губа съехала вправо. Она, все еще протягивая к нему окровавленную руку, пыталась дотянуться до его пальцев. Но ограждение напирало на его грудь, отталкивало его, протыкало его кожу отточенными остриями загнутых гвоздей.
Часовой, дежуривший на вышке в конце прохода, заметил странное движение заключенных и этих двоих, выглядевших отсюда, с вышки, мелкими пыжащимися букашками, пытающихся дотянуться друг до друга своими лапками, громко буркнул:
– Фридрих, куда ты смотришь!
Но увидел, что Фридрих, прогуливается по разделительной полосе между двумя лагерями – женским и мужским – с овчаркой, не слышит его, он пустил автоматную очередь, расстреляв воздух.
Звук ударился о стены каменного замка, что за мостом, на том берегу Эльбы, как раз напротив городской ратуши Торгау, которая виднеется в зарослях старинных буков и вязов на этом берегу.
Оттолкнувшись от стен, звук, преобразился в эхо полетел обратно через узкую прямую речку и утонул в зарослях камыша, не дотянув до ратуши каких-нибудь ста метров.
Волны, впитавшие этот звук, заплескались у ног двух рыбаков, умиротворенно поджидающих плотвичку, стоя на берегу.
– В лагере стреляют, – констатировал толстый немец, что сидел на самодельном сундуке, сбитом им специально для рыбалки, с мягким ковриком на крышке, чтобы мягче было сидеть, – опять кто-то бежал.
– Наверное, лова не будет, – двусмысленно сказал второй, высокий, с длинным обвислым зобом, как у пеликана, очевидно, страдающий болезнью щетовидки, – впрочем, я о рыбе, – поправился он.
– Фроляйн Роза была вчера на мессе? – поинтересовался первый, поднимая из воды грузило и пытаясь поймать поплавок для того, чтобы сложить удочку.
– Она пригласила меня сегодня на пирог. Будут ее родственники: сестра с детьми и этот молодой Ауфенштарг, ее свояк. Не знаю, стоит ли давать ей повод думать...Такое время...Того гляди пошлют на фронт, под русские пули...
В это время толстый, одетый в неудобную бежевую униформу какого-то местного клуба, с изображением белоглавого орла на рукаве, окончательно опутал леской удочку, зацепился ею за прибрежный камыш и начинал испуганно искать виновного в порче лески.
– Черт их дери, – наконец, раздраженно выругался он, – как они мешают мне спокойно жить. Как же от них избавиться! Эти постоянные побеги, эта стрельба! Эрих, вы можете войти в воду?
Эрих Тоггард дернул головой, отчего зоб его задрожал, и посмотрел на свои высокие резиновые сапоги. Он несколько замешкался, но легкий порыв ветра сам собою распутал леску и отцепил ее от осоки, что сняло с него напряжение.
– Так что вы мне посоветуете? – Вновь заговорил он, легко собрав свой скарб, – Может отменить помолвку, что-то я далеко зашел.
– Вера, – проговорил его штандартенфюрер Поппер.
Эрих поднял тонкие длинные брови, вытянул шею и стал казаться еще выше.
– Вера, молодой человек должна быть у вас. Откладывать свою жизнь, значит – сомневаться в исходе войны. А это уже простите...
– Но, штандартенфюрер, вы же сами настаивали на том, чтобы я не отлучался с территории даже в увольнение.
Они шли по узкой улице, которая, если бы дома были чуть выше, сделалась бы сырой и темной, как некоторые улицы Стогкольма или Рима. Брусчатка была выложена по диагонали, острые углы ее неприятно кололись через подошву. Эльба блестела за деревьями алыми волнами, по приобретенной на службе привычке на всякий случай оборачиваться, глядя на эти яркие искрящиеся блики, Эрих закрывал от боли глаза.
Они сели в автомобиль и Эрих повез штандартенфюрера Поппера в сторону лагерей. Начальнику лагеря "Фогельгезам", что значило в переводе с немецкого "Птичье гнездо", нужно было срочно выяснить, почему стреляли, и дать соответствующие указания, в случае, если и в самом деле снова совершен побег в его лагере.
– Не могли подождать до понедельника, – ворчал он всю дорогу, имея в виду заключенных.
Эрих вел сегодня машину сам. Водитель был бы лишним на прогулке. Они ехали по старой Лейпцигской дороге, во все стороны от которой убегали ровные, как планшет землемера, поля. Машина успела остыть, небо тускнело и больше не угнетало жарой.
Хорошо бы тревога оказалась ложной – он рассчитывал сразу же вернуться в город и отведать Розиного пирога. Роза была уроженкой Торгау, жила одна, так как брат и отец ее были на фронте, а мать давно умерла. В пригороде на частной ферме жила ее старшая сестра. Марта смогла выйти замуж, и тут же нарожала троих своих детишек, дабы не забыть воспитательские навыки.
Эрих начал ухаживать за Розой четыре месяца назад. Он приметил ее на фабрике среди вольнонаемных. Она была прехорошенькая, светловолосая и пухленькая, как розанчик. Как потом оказалось, и дома у нее было все обустроено в розовых тонах. Роза призналась, что обои, гардины и обивку мебели она поменяла уже после отъезда мужчин на фронт. Это был кремовый, бисквитный, карамельный дом, так и стремящийся способствовать обольщению. Эрих не сразу понял, что девушка не строгих правил. Все ее рассказы о детстве и семейных традициях, свидетельствовали о строгом пуританском воспитании барышни.
Но оказалось, что это не мешает девушке страстно желать обзавестись муженьком и использовать для этого все возможные средства и объективные события, например, войну. Точнее военных, оказавшихся по воле судьбы в этих малонаселенных краях, но чтобы не ниже фельдфебеля.
В этом звании было нечто притягательное. Отец Розы всю первую Мировую провел в окопах, имел несколько наград, даже побывал под Верденом, правда еще когда там шли позиционные бои, но фельдфебеля так и не получил. На то была , по его словам, объективная причина – война закончилась. За это он изредка поругивал кайзера, хотя и был его страстным обожателем. Роза так толком и не поняла, за что же отец поругивал кайзера: то ли за то что война закончилась, то ли за то ,что тот не дал ему фельдфебеля, но то что это звание должно быть у каждого немецкого солдата расчитывающего занять достойное место на новых восточных землях, она усвоила четко.
На фабрику Эрих приезжал три раза в неделю, когда было его дежурство. Он отвечал за отправку туда пленных женщин.
Лагерь был женским, и девушки, для которых жизнь закончилась перед воротами лагеря "Фогельгезам" в основном прибыли из России. Правда, в отдельных бараках жили француженки, голландки и прочая второсортная европейская шваль.
Правда, и среди них встречались аппетитные самки. Одна, очень юная, с каштановыми волосами, была особенно желанной, потому что казалась самой неискушенной и незащищенной. Фельдфебель Эрих Тоггард, любимчик полковника, искренне верил, что осчастливит любую женщину, которой ему удастся помочь, за очень небольшую кратковременную услугу.
Машина остановилась взвизгнув тормозами. Хвост пыли всю дорогу летел за машиной, наконец догнал ее, застилая видимость. Левая угловая вышка давно сообщила о приближении хозяина. В лагере начали наводить порядок.
Прежде всего дежурные по казармам пробежали по длинным деревянным коридорам, стуча в комнаты офицерского состава. Оттуда быстро выбежали несколько девушек, которых те же дежурные развели по баракам. Офицеры, одергивая форму, высыпали встречать шефа, что только выдавало в них готовность загладить некую вину .
Офицеры любили полковника. Вернее, им нравился сам факт того, что именно этот недотепа ими руководит. Это был человек неприспособленный к руководству, потому что не умел контролировать подчиненных, не догадывался на чем его могут надуть, не предполагал, где он бывает смешон, где ненавистен. Он просто не чувствовал таких тонких материй. Он мог наорать, мог поднять руку на подчиненного, он мог бросить, отворачиваясь: "Расстрелять!". Он всегда отворачивался, когда отдавал этот приказ. Но чаще ему приходилось списывать человеческие единицы, после таких вот выстрелов, которые он слышал сегодня на пляже, в Торгау.
– Что тут происходит? – многозначительно спросил Тоггард, вылезая из машины и огибая ее, чтобы открыть дверцу командиру.
Черты его лица были весьма правильными, отточенными, без единого изъяна, и поэтому казалось, что он не то чтобы некрасив, но неинтересен внешне; как говорила Роза, без изюминки.
Открыв дверцу и встав за ней, Поппер посмотрел поверх машины, предупреждая взглядом своего приятеля подполковника Бродзена, остававшегося сегодня за главного, что он кое-чем встревожен.
– Ну, ну, ну, – нетерпеливо поторопил штандартенфюрер, – вам был задан вопрос.
– Никаких происшествий, штандартенфюрер, – ответил Бродзен, – все спокойно. Звонили из управления снабжения. Машина с провиантом будет не завтра, а в среду. Вот – все.
– Где-то стреляли. Никаких происшествий?! Стре-ля-ли, – произнес он по слогам, – Я – слышал. А вы – нет?
– О! Господин штандартенфюрер! Обычный выстрел в воздух. Заключенные расшумелись. Снова лезли на ограждение. Обычный выстрел.
– Значит, все-таки у нас.
Полковник Поппер никогда не был на фронте. Его прислали из тылового госпиталя, куда он попал после обстрела Мюнхена американцами. До этого счастливого дня он был куратором детских исправительных заведений Германии.
Он контролировал каждый выстрел в округе, хотя нельзя было сказать, что он огорчался, если кто-нибудь из заключенных погибал. Просто сам выстрел из оружия вызывал в нем шоковое состояние, преклонение перед человеческой мыслью, создавшей столь страшное неодушевленное орудие, отбирающее жизнь. О, это было для него непостижимым – человеческие жизни были в его ведении, и он мог распоряжаться ими, как хотел. Он мог конструировать их, забавляться с ними, как кот с полуживой мышкой, он мог принять решение относительно прекращения той или иной жизни. Эта людская податливая глина была в его руках и он мял ее, как хотел, то сжимая, то размазывая по земле.
Впрочем, он не стал бы огорчаться и в случае смерти жены или дочери, живших в городе на служебной квартире. Он похоронил бы любого близкого ему человека, руководствуясь правилами похорон, какие он бы для себя составил. И главное для него было бы – не отступить от этих правил. Франц Поппер приобрел жену только потому, что так было положено, и дополнительно выяснил , что жена, это человек, с которым надо жить до конца дней.
Он не удивился бы и собственной смерти, потому что был человеком поверхностным, не допускающим сантиментов.
Прямо с площади, не говоря ни слова, он направился в сторону мужского лагеря, примыкающего одним боком к ограждению "Птичьего Гнезда".
Он должен был самолично удостовериться в том, что в этой зоне все в порядке. Что он хотел там увидеть, никто не знал. Может быть, трупы или следы крови.
...После автоматной очереди люди стали расходиться. Они знали, что теперь нормального общения не будет. Автомат напомнил о себе. Теперь здесь лишь колыхались провода, горя подобно лампочкам в точках, где были накручены колючие шипы.
В сумерках что-то белело впереди, близорукий полковник Поппер не сразу понял, что это человеческое тело.
Пересекая территорию, следуя по центральной аллее лагеря между бараками, стоявшими слева и справа гуськом, он пытался изменить положение головы, чтобы получше разглядеть белое пятно на земле. Злость вскипала в его груди, клокотала, искала выхода. Он бежал уже почти, вытягивая при каждом рывке вперед ногу, следовавшие за ним офицеры чувствовали неловкость: шагом они не успевали, а если бы побежали, легко могли обогнать начальника лагеря, что вызвало бы его подозрения.
Они приближались к ограждению быстрым сбивчивым аллюром. Подходя, Эрих различил тело. Он сбоку взглянул на полковника, тот всматривался в темноту, сгустившуюся в эти пять минут. Казалось, что лагерь обступил черный высокий лес. Небо лишь вдалеке отблескивало, как черный жемчуг.
– А?.. Почему?
Полковник остановился с ходу, едва не сделав выпад вперед, застыл, показывая на тело, отворачиваясь от него, ища глазами Эриха.
– Что это?
Какая-то девушка лежала на земле у самого подножия высокого деревянного столба. Рука ее, просунутая между проволокой, расцарапанная до крови, все еще тянулась к угасшему солнцу.
Неожиданно он услышал шорох.
Он резко обернулся, испугавшись темноты, вернее, вспомнив, что он боится темноты с детства, боится поворачиваться спиной к открытому пространству.
Девушка была жива. Она немощно поднималась с земли, вставала на колени, пошатываясь, упиралась руками в землю, карабкалась по столбу, чтобы встать на ноги. Встав на ноги, она шмыгнула носом и опустила лицо.
"Опытная, – подумал Поппер, – Знает, что смотреть на господина – все равно что подписать себе смертный приговор".
Девушка вытерла мокрое липкое лицо рукавом робы.
Теперь Поппер и вовсе не знал, что ему делать. Он посмотрел на часы.
– Режим! – крикнул он и со всего размаху залепил ей оплеуху, – В карцер.
Эрих узнал ее. Это была та самая девчонка, которую он присмотрел себе, выпасывал ее уже несколько месяцев, попутно занимаясь другими.
Он кашлянул и произнес в жидковолосый затылок полковника:
– Все обошлось. Своего рода эксперимент – что могут делать половые гормоны с молодыми особями. Я беру девчонку на себя.
Полковник развернулся, вздохнул облегченно и пошел обратно, всем своим видом протестуя против того, чтобы его догоняли.
– Идите, господа, – сказал Эрих остальным, – Я сам отведу ее.
Удаляясь от ограждения внутрь территории, ведя перед собой понурую девчонку, он чувствовал, как из темноты смотрят на него два глаза, прожигая его спину и затылок.
КОМАНДИРОВКА В АНТВЕРПЕН
(Семидесятые годы)
О, как я люблю голоса твои, осень,
И ветер, и желтые листья кругом.
Г.Аполлинер
Хозяева – супруги Смейтс, расположились в кресле возле камина. Она, немолодая полнеющая дама, с лицом европейки, несколько впалыми губами и острым, несмотря на широкие скулы, подбородком, румяная, довольная жизнью, заняла само кресло, а супруг, настоящий хозяин, работящий и жилистый, как многие худые люди, присел на широкий подлокотник, спиной к огню.
Виктория, так звали хозяйку, была живой и непосредственной, ее волосы пушились над головой и она постоянно приглаживала их рукой. На пальцах, кое-где у ногтей, еще не отмылась масляная краска. Она красиво поворачивала голову, словно волосы ее оглаживал кто-то другой, шея ее напрягалась. Она часто оборачивалась на мужа, сидевшего позади, на ручке кресла, поднимала к нему лицо, а потом прижималась затылком. Терлась о его плечо. Сидевшему напротив мужчине, усердно поющему четвертую или пятую песню, было странно видеть, что и жителям капиталистической страны ничто человеческое не чуждо.
Советскому журналисту Станиславу Азарову было несколько неловко петь в таком большом холле, на таком расстоянии от двух внимательных слушателей. Не потому, что он никогда не пел в большой аудитории, просто привык он, да и его гитара, к кухонькам, к тесным дачным комнаткам переделкинских домишек, затерявшихся среди высоких дач классиков советской литературы, к тесным компаниям, когда до зари – беседы о новых стихах Вознесенского и Ахмадулиной, о премьере в "Современнике", о политике, о войне и женщинах, сигареты, винцо... и песенки, песенки по кругу. И в одних домах песенки Визбора, а в других песенки Галича, а в третьих домах песенки Высоцкого, а в четвертых и пятых – Никитина, Кима, Матвеевой.
– Ты играешь? – спрашивали незнакомца и, если тот кивал, просили, спой Булата!
За окнами стояли старые московские кварталы, близко-близко подходила стена какой-нибудь коммунальной трущобы, или сосны застилали все небо где-то далеко вверху, а тут дым, шум, приглушенные беседы, и молодость, молодость...
Он и в Антверпен взял гитару. Пограничники чуть было не завернули его: гитара-то старинная, да и не положено в командировку – с гитарой. Но он их переспорил. А документы на "подружку" он всегда носил с собой, как и удостоверение "Прессы", где красивым почерком было выведено: "Станислав Азаров, спец. корр. газеты "Красная звезда".
Зачем Ильину, главному редактору, потребовалось в своей газете помещать раздел "Культура и искусство" – было загадкой для всех. Зачем он послал Стаса из осенней теплой Москвы в промозглый бельгийский город-порт, было загадкой даже для него самого.
Дело в том, что пять месяцев назад ему позвонил из Бельгии его старый приятель Филипп Дескитере, адвокат. Звонок был неожиданным и встревожил Ильина не на шутку. Каждый звонок оттуда он воспринимал, как ребус: "Что бы это значило?" Он постоянно ждал провокаций.
Но Филипп ничего провокационного не произносил.
– Когда приедешь в гости? – Спрашивал он и смеялся.
– Не могу, Филипп, родной, строю счастливое будущее, – кряхтел Ильин, соображая, что подумают чекисты, слушающие телефон, после этого панибратского "когда приедешь в гости?" и добавил, – Пропадут они тут без меня.
– Ну, вот. А я тебе хотеть познакомит с нашей звездой! – говорил Филипп и снова смеялся.
– Я на противоправные контакты не хожу, милый, у меня жена. И что характерно, я давно забросил это дело! А потом: лучше уж вы к нам, я тебя со своей "Звездой" познакомлю, со всей редколлегией, у меня тут такие звездочки, будь здоров.
– Спасибо, на здорофье не жалуюсь, – подхватил Филипп, похахатывая, Та ньет, ты не то подумал. Звезда – не шоу, а фламандской живописи, наша гордост, живой гений! – восклицал Дескитере и опять заливался коротким полагающимся смехом.
Ильина бросало в холодный пот, при мысли, что телефонная станция может отнести расходы за переговоры с Бельгией на счет редакции. Но он старался держать себя в руках.
– Я не верю в гениев в женском обличье, Филенька. Хотя, может быть, у вас другой уровень цивилизации, когда и даму пропускают на вершину искусства. Так ты говоришь, она талантлива? И, очевидно, красива?
– М-м, ей сорок семь лет. Она отчень привлекательная, у нее есть замечательный муж, прелестный дом. Четверо детей.
– Сколько?!.
Ильин почесал за ухом, повернувшись к зеркалу. Ему нельзя было покидать страну, слишком устойчивая тишина на площади Ногина и в Кремле, слишком затянувшаяся беспокойная тишина. Генсек отчалил открывать Америку, стоял вопрос о том, чтобы записать и его, Ильина, в третий эшелон сопровождения, но пока все молчали.
Да и сердце пошаливало последнее время. Словом, какая там Бельгия с ее живописью. Но Филипп его зацепил за живое. Ильин не мог не понимать, что теперь тональность общения с Западом станет совершенно иной, в моду входит "Культурный обмен". Может быть, это шанс угодить и попасть в обойму.
Поразмыслив, Ильин решил попытаться выйти на кураторов и попробовать закинуть в Бельгию племянника, сына троюродной сестры по отцовской линии. Он работал в газете второй год, но негде было развернуться парню. А потенциал у него был, да плюс администраторский талант. Ильин, у которого катастрофически лысела голова, а виски стали седыми, в последнее время много думал о старости. А парня с таким материалом, да еще на тему искусства, можно протолкнуть и на радио, и в "Советскую культуру", а может быть, и на телевидение...
– Ну, раз она замужем, – крякнул он, – тогда сам не поеду. Буду ждать тебя в Москве. А вот спецкора постараюсь снарядить. Но ты мне должен сказать волшебные слова: почему ты хочешь, чтобы я поместил о ней статью?
– У нее будет в осень выставка, да и карнавал! Карнавал музыки состоится в то же самое времья, пусть ты приедьешь! – благожелательно и патетически произнес адвокат, впрочем, никогда не слышавший песни "Пусть всегда будет солнце". – Бельгия будет тебе так рада. Ты едешь в будущчем году в Германи?
– Обязательно, если пустят и если доживу! Но ты не убедил.
– Я хотел бы устроить тебе сюрпрайз, но могу сказать уже зейчас, что она имеет отношение к нам с тобой. Непосредственное, – очень правильно выговаривая буквы последнего слова, произнес Филипп.
Они договорились, что Филипп Дескитере позвонит в конце сентября, а Ильин подберет толкового журналиста и начнет оформление его командировки. Он не мог объяснить крупнейшему бельгийскому адвокату по телефону, что визиты на Старую площадь, как она раньше называлась, даже для согласования заграничной командировки сотрудника, всегда заканчиваются плохо. Просто по-разному плохо. Он не мог крикнуть в трубку, объяснить этой трубке, что он заперт и унижен в собственной стране после Победы, после встречи на низком железобетонном мосту через Эльбу с ним, с Филиппом, после всех проверок на благонадежность и примерного поведения – он имел право только на приспособленчество и заискивание. Но он не смог бы этого объяснить и не по телефону. Он себе-то не мог, не брался это объяснять.
– Э-эй, Филиппчик, как ее зовут-то хоть? – успел крикнуть в трубку Ильин.
– Виктория Смейтс, как Победа, – ответила "Бельгия" и добавила, – она примет его у себя в доме.
Самолет оказался с шутливым задиристым нравом: все время издавал какие-то шумы, скрежетал, чирикал, замолкал то одним двигателем, то другим, то затихал вообще, – во всяком случае так казалось Стасу, у которого уже испарина выступила от напряжения барабанной перепонки. Между прочим, самолет, еще и скрипел, поэтому иногда Стас хватался за ручки кресла. Он не то чтобы боялся смерти, но смерти в воздухе ему хотелось бы в своей жизни избежать. Но бывает ли смерть – в жизни? Ведь эти понятия несовместимы: они последовательны. Причем порядок этой последовательности почти всегда строго определен. Почти всегда...
Он смотрел на выпрыгивающие из лимонада искорки воды, на ртутные шарики, прилипшие к стенке чашечки, и вспоминал отца. Отец всегда приходил к нему в минуты упокоения, между одним и другим, следующим этапом жизни, когда Стас ощущал всем своим организмом, что переходит на новый уровень, что достигнуто и завершено что-то очень важное и весомое. Так было, когда он сделал предложение Нелле, завершилась юность, пришла молодость, так было, когда в тридцать один год он написал диссертацию, когда выпустил первый сборник рассказов и вступил в Союз писателей, и вот теперь, когда накануне отлета нигде, включая соседние галактики, не обнаружилось жены. А в этой галактике обнаружилась лишь ее записка, точнее письмо, написанное в порыве гневного приступа любви и ревности, о том, что он ее недостоин, что она ему не нужна, и поэтому он "неблагодарный", о том, что "ухожу" и всякое другое, что обычно бывает в мелодрамах.
Азаров собирал сумку сам. Теперь она выступала с полки над сиденьем, и Азаров совсем недавно заметил свисающий из кармашка носок.
Отец погиб в сорок третьем, как написал командир, "ваш муж политрук дивизиона истребителей танков Азаров А.Я., разрезан пулеметной очередью в бою за село Темиргоевское".
Тогда Стасу было девять лет. Он успел запомнить отца.
Они шли по улице выложенной пузатыми камнями. Он и сейчас может с точностью описать эти камни и эту, спускающуюся прямо в кущу темно-зеленых крепких крон, улицу. Камни уходили далеко в грунт, и перешагивать с одного на другой было нелегко. Можно было и поскользнуться и подвернуть ногу. Маленькая ступня Стасика сползала с камней в щели, и поэтому он боялся сделать шаг, ноги его дрожали, и их сводило судорогой. Отец нервничал из-за нерасторопности сына, но говорил очень тихо и мягко:
– Не шаркай, пожалуйста, ногами. Уже недалеко. Да и с горки легко идти.
У него был красивый гортанный голос, иногда, на Первомай и 7-е ноября он участвовал в концертах самодеятельности своего гарнизона и привозил потом фотокарточки в Москву.