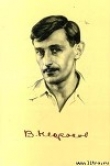Текст книги "Виктория"
Автор книги: Ромен Звягельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
– Спасибо вам, – беспрестанно повторяла Виктория, а сама мыслями была уже в дороге.
Она не представляла, какой застанет свою станицу, она и помнила-то ее как бы изнутри, а со стороны, с дороги, не представляла. Очевидно, это должно было быть совершенно другое зрелище. Она помнила речку, вдоль которой лежала снежная степь. Как-то она доберется до своего гнезда, до своих кровей...
– Переоделися? – мужчина приоткрыл дверь и постучал.
– Проходьте, – позвала Виктория.
– Что, спать не собираетесь?
– Посижу, пока можно в окно что либо увидеть.
– Добре. А я, с вашего позволения, подремлю. Утро вечера мудренее. Вы не сказали, чьи будете. Я-то в Темиргоевской всех, почитай, знаю. К кому в гости?
– К Сориным, – просто ответила Виктория, и мужчина больше не стал ее тревожить.
В окне проплывали фонари, рассеивающие свет в бледнеющем небе, переезды, станции, деревеньки, и утопающие в осенних бурых лесах церковки, видные со всех дорог и со всех сторон света.
Она смотрела на свою землю, которую не видела двадцать восемь лет и упивалась ее красотой, сочностью и близостью: выходи на любой остановке и прижимайся к ней грудью, обнимай и целуй ее, добрую, родную землю.
ГОСТЬЯ БЕЛЬГИИ
Бельгия была оставлена фашистами в сорок четвертом году. Союзные войска предоставили страну самой себе, начав, однако, навязывать такую экономическую политику, в которой бы учитывались в первую очередь интересы Англии и Америки. Но и присутствие главного победителя ощущалось в стране, столь долго находившейся в фашистской оккупации.
Когда собака Такса зашевелилась на постели, в ногах Барбары, первым проснулся Хендрик и обнаружил, что Барбара, как всегда, заснула с включенным светом и молитвенником в руке.
Такса тяжелым прыжком опустилась на пол и заметалась возле дверей спальни. Скулеж ее удивил Хендрика, и он сказал в пол-тона:
– Ну, что с тобой происходит весь вечер, Такса?
– Что? – проговорила просыпающаяся Барбара, – Который час?
– Половина двенадцатого ночи, дорогая. Может быть, она беременная?
– Кто, Элиз? – не понимая, зевнула Барбара, и Хендрик записал себе в память поговорить завтра с женой обстоятельно о личной жизни дочери, потом пояснил:
– Я говорю о собаке, душечка.
В это время Такса встала столбиком и даже какое-то время играла роль суслика, сложив на белом жабо свои коротенькие широкие лапки. Потом снова начала копать под дверью.
– Я тебя давно просила вырезать для нее маленькую калитку, – упрекнула Барбара и хотела было повернуться на бок, но собака вдруг так призывно взвизгнула, что у Барбары мгновенно исчез сон, она уже предвкушала долгий затяжной лай Таксы.
Так оно и вышло.
– Ну, хоть морду ей завязывай, – взмолилась она и, с недовольством встав, пошла выпускать собаку, – Ты весь дом перебудишь.
– Было бы кого будить, – подозрительно произнес Хендрик, спуская ноги, – Где твоя дочь?
В прихожей послышался звонок.
– Ну, вот же она! – беззаботно откинула ладошку Барбара, – И не так уж поздно.
– Ты уверена, что это не соседи с полицией?
Они оба надели халаты и, шествуя в прихожую, обратили внимание, что Такса прыгает возле двери на высоту человеческого роста.
– Или Элиз держит в руках килограммовую сахарную косточку или...
Когда Хендрик распахнул дверь, перед ним стоял сын. Высокий худой Хендрик отшатнулся к жене и бросился обратно – в объятья вступившего в родной дом Жака.
Вика лежала на узеньком топчанчике, между двумя партами. Парты были не такие, как в Советском Союзе, мелкие, на одного человека. Она пала духом за эту неделю, как не падала духом ни в Ростове-на-Дону, ни в лагере...
– Мы любим друг друга, – твердила она, дергая Жака за лацкан куртки и снова оборачивалась к советскому чиновнику, занимавшемуся русскими гражданками, но этот толстолобый лысый человек, вытирающий платком пот с лысины, и слушать ничего не желал.
– Да иди ты к черту со своей любовью. У меня таких любвеобильных тут тыща! Какая к черту любовь, ты не видишь, что делается?
– Они пришли вслед за своими сужеными, что же тут позорного? доказывала Вика.
Победивший в войне Советский Союз в качестве условия лояльности к бывшей германской колонии потребовал от Бельгии, как и от других стран, содействия в поиске и организации департации на родину советских граждан, по каким либо причинам оставшимся на чужой территории. Поскольку страны антигитлеровской коалиции уже имели подобное соглашение, согласие Бельгии на подобные действия было чисто номинальным.
Их с Жаком доставили в жандармерию прямо с вокзала. Оттуда, отпустив Жака, Вику препроводили в эту самую школу. Там, видимо, в кабинете директора, и беседовал с ней этот лысый. Жак прорвался в кабинет, крича, что это его жена.
Поддавшийся его убедительному, звучащему по-русски на весь коридор "я ее люблю", лысый приказал впустить и его. И теперь, тыча в грудь Жака длинным прозрачным эбонитовым пером, он объяснял Вике, что этот человек ее пошлет на все четыре стороны ровно через неделю.
– Они за нас работу выполняют, – гнусавил он, – по выявлению таких вот отчепенок! Ну, и спасибо. Попользовались и хватит. Короче, Сорина, вы побудете тут до выяснения, а потом мы перевезем вас в Союз, там выяснения продолжим. В родных пенатах лагеря для вас уже открыли свои ворота.
– Вы .... вы лысый! – крикнула Вика и прижалась к Жаку.
Их расстащили и Вику отправили наверх.
И теперь она, как ребенок, которого недавно отдали в интернат, оборачивалась на каждый скрип дверей. А двери были прозрачные, и в них за эту неделю вошло гораздо меньше бельгийских парней, чем здесь находилось русских девчонок.
Вику оскорбляло присутствие в одной комнате с ними. "Я не могу, как все, жить в неуверенности, я не могу жить с мыслью о том, что я обманута, не могу!" Она закрывала уши ладонями, чтобы только не слышать звуков дверей, скрипа половиц и разговоров девушек. Были здесь и такие, которые действительно не желали возвращаться на родину и бельгийские парни были для них лишь средством. Но таких было мало.
И разве она не хотела увидеть свою землю, выяснить, что стало с родными? Но как можно было соединить землю, на которой выросла, и землю, на которой жил ее Жак?
Она представляла, что ее соседки думают в это время о том же, им приходят те же мясли, и это бесило Вику.
В основном они были такими же потерянными детьми, которые ждали, когда за ними придут! Но Вике претили девичьи разговоры об их избранниках, она лежала на топчане и проверяла по своей памяти: не было ли в поведении Жака чего-то, что теперь могло дать основания сомневаться в его любви...
Когда ее вызвали с вещами к начальнику, перед глазами Вики проплыли картины детства, годы заточения в лагере, все встречи с Жаком на площадке, как перед глазами умирающего человека проплывает вся его жизнь. Как много и как мало еще было в этой жизни! Ей почудилось, что ее отправляют из Бельгии.
– Проходите, проходите, – Барбара втянула за руку в прихожую девушку, очень красивую, словно вырезаную из цельного куска бука, смуглую, улыбчивую и очень взволнованную девушку, – Вы подруга Жака?
Девушка старалась не заплакать, но видя, что даже сурового вида человек в длинном бордовом халате, часто моргает, совсем размякла. Женщина прислонилась щекой к плечу сына и поцеловала его. Потом она протянула руку к Вике и притянула ее за плечи. Так они и стояли несколько минут.
Только под утро вернувшись, Элизабет обнаружила в своей постели незнакомую принцессу, фаянсовое личико которой бледнело на ее подушке в ее постели. Элизабет улыбнулась и пошла в столовую, там тоже стоял диван.
Добрая Катарина, которой совсем, как оказалось, не шла худоба, работала по-прежнему консъержкой и осведомительницей.
Полицейский пришел на второй день пребывания Вики в доме Смейтсов. Он потребовал, чтобы Якоб и его гостья явились в полицию в течение дня, то есть немедленно и оформили документы. Что касалось Якоба – его документы были легко восстановимы, так как немцам некуда было вести свои архивы, и досье Якоба Смейтса поджидало его возвращения из добровольного трудового лагеря, а девушку из СССР ждала гостевая виза на три месяца. Так объяснил полицейский.
... Поезд шел так плавно, словно его толкал сзади кто-то быстроногий и ловкий. Виктория вставала рано – без пятнадцати пять – давнишняя привычка...
Она умылась и долго стояла в тихом пустом коридоре, где горела только одна лампочка возле купе проводницы.
Она снова разразилась воспоминаниями о том, сложном, но таком счастливом времени, когда они с Жаком, изнывая от любви и влечения друг другу, жили под одной крышей, но не были мужем и женой.
Элиз быстро взяла в оборот эту дикую русскую, черезчур уж скованную, шарахающуюся от фламандской речи и вообще от любого шороха. Вика большей частью проводила время в комнате Элиз, которую временно отдали гостье, но днем, когда в доме оставалась одна Барбара, она выходила и принималась потихоньку, вкрадчиво, а потом, видя, что ее не останавливают, все азартнее и азартнее убираться и готовить. Она сварила им украинский борщ. Варево имело успех!
Барбара и сама не могла понять, почему не ревнует сына к этой девушке. Правда, Жак и Виктория не проявляли чувств на людях, но оставаться наедине им доводилось только на прогулках.
Вскоре Виктория вошла в хозяйственный раж и проводила на кухне все свободное время. По вечерам после ужина – солянки или пельменей – Вика шла с Элизабет в их общую комнату и пыталась разговаривать по-фламандски. Только с веселой шустрой сестричкой Жака она не стеснялась произносить в нос звуки, неудобно загибать язык и производить на свет нечто, обозначавшее явления или предметы мира, которые так хотелось называть просто "кровать" или "небо".
В полиции ей сказали, что учитывая обстоятельства, могут временно зарегистрировать ее в Антверпене и даже ускорить оформление в советском консульстве ее документов, хоть какого-то удостоверения личности – в идеале заграничного паспорта. В углу одной из комнат этого одноэтажного отдельностоящего полицейского участка, помимо паспортистки, комиссара муниципалитета и переводчика сидел еще тот же человек, который допрашивал ее в школе, только уже в шляпе и демонстративно читал газету, перекинув ногу в широкой штанине на ногу. Вика заметила, что он внимательно слушает, что она рассказывает о немецком лагере, о своей прежней жизни, и посматривает на нее.
Она говорила по-русски, мужчина, сидевший между ней и столом, переводил, наклоняясь то к Вике, то к комиссару.
Неожиданно, на том месте, когда Вика рассказывала уже об освобождении, тот человек, что сидел в углу, сложил, смял почти, газету и встал. Он сбоку подошел к столу и уперся в него кулаками.
– А ты лжешь, фрау Виктория Сорина. Ты ведь и не собиралась возвращаться домой в Союз ССР? В ту страну, которая тебя вырастила, выкормила, дала образование!
Виктория недоуменно пожала плечами. Она давно не слышала столь правильной – как у диктора – русской речи.
– Ты, еще находясь в лагере, прислуживая фашистам, поняла, сколь опасно твое положение. Ведь вы работали на победу Германии, не так ли?
– Я работала ради того, чтобы дожить до победы моей родины! – ответила Вика.
Мороз по коже пробегал. Она вдруг вспомнила, что Жака не впустили, и ей захотелось бежать к нему и просить защиты. "Дать бы тебе по морде! – чуть было не сказала она, – Что ты знаешь?!"
– Ты, сука, родину продала! Ты им бомбы делала! А этими бомбами твою хату разбомбили, и отца твоего убили на фронте твоими бомбами!
Вику резануло по сердцу острым лезвием, таким после которого и разреза не заметно, а потом все рассыпаеться в дребезги, как у фокусника. Так и ее сердце разбилось тогда, омрачен был праздник.
– Я родину не предавала! А вы неправду говорите!
– Господа, – вмешался переводчик и обратился к Виктории весьма сочувственным тоном, – господин комиссар имеет сказать, что у него больше нет к вам вопросов. Вы можете быть свободны, но пожалуйста, являйтесь по первому же требованию. В любом случае, готовьтесь к отъезду. Три месяца пролетят быстро. Мы не сможем вас держать больше.
– Мы сможем, – недовольно бросил непредставившийся сотрудник советских органов.
... Дорога совсем не утомляла ее. Она оставила своих домочадцев в Бельгии, вернее ни Якоб, ни дети не поехали с ней. Ильина удивило это. Он, отыскавший ее станицу, ее дом, ожидал, что все дети Виктории захотят приехать на родину своей матери. Но нет, они, конечно, хотели ехать. Правда, о детях в первую поездку речь не стояла. Все таки страна Советов непредсказуемая страна, неизвестно, как встретит, как отпустит, да и не берут детей в разведку. Даже взрослых детей.
А Якоб собирался, он подготовил свои вещи и купил билет. Оформил паспорт, визу и приехал вместе с ней, с Викторией на вокзал.
Виктория поторапливала его с утра, а Жак только улыбался. Они встали у своего вагона и тут Жак, мудрый Жак сказал:
– Я не еду с тобой, родная.
Только тут она заметила, что в его руке только ее большая зеленая сумка.
– Где твои вещи? – озадаченно спросила она, – Ты не едешь? Что значит, ты не едешь, ты не хочешь? Ты ревнуешь? К России?
– Ты хорошо знаешь, что это не так, просто ... как тебе объяснить, это – твое возвращение. Это твоя земля, по которой ты пойдешь и ты должна услышать каждый свой шаг по этой земле. Ты должна насладиться тем, что тебе вернут, одной тебе.
– Но ты можешь порадоваться со мной и за меня.
– Я рад, но я не стану вмешиваться в твой первый разговор со своей землей. Вкуси это счастье сполна. Я поеду следом, мы все приедем в другой раз.
Она не совсем поняла его поступок. Но теперь, глядя на пролетающую в окне природу среднерусской полосы, почувствовала, что он был прав: какое она сейчас испытывала упоение утренними полями и перелесками, туманным млеком, разлитым в низинах, необъятностью этой величавой природы, отдыхающей в первых лучах восходящего солнца.
Викторию свела с ума Москва. Такого огромного, суетного мегаполиса она еще не видела, хотя и побывала уже с выставками в Англии, Германии и Италии. Нет, это было нечто иное, нечто необъяснимо щемящее, понятное, воздействующее на генетическую память. Азаров водил ее в гости к странным людям, которые помимо богемной вели одновременно жизнь отшельников, подпольщиков и пророков одновременно. Это могло быть только в Москве, там на Чистых прудах, в невысоких старых кварталах. Вика понимала о чем они спорят и видела, что они беседуют обо всем на свете не потому, что теперь можно и не страшно, а как раз оттого, что страшно и что нельзя. И она все время оглядывалась на улицах, а в гостинице посматривала на телефон, про который все ее знакомые говорили, что его прослушивают.
Она себя-то стала ощущать большей патриоткой, чем тот сотрудник НКВД, который пришел в квартиру Смейтсов тогда в августе сорок пятого, накануне последнего дня – заканчивался срок ее пребывания в Бельгии.
Они не стали заходить в квартиру.
– Викторья, – крикнула Барбара, уходя на кухню, – тебя хотят видеть эти господа.
Вика за три месяца довольно много слов выучила по-фламандски, но пока не понимала связную речь. В дверях стояли трое: комиссар, переводчик и этот, в широких штанах.
– Виктория Сорина, – сказал полицейский, сверяясь с бумажкой, – вам надлежит в течение двадцати четырех часов покинуть Бельгию. Вы подлежите департации в Советский Союз. Этот господин из советского консульства любезно согласился вас сопроводить.
– Стойте, стойте, – из-за спины Вики воскликнул Жак, – Папа, не держи меня. Вы, насколько я помню, вызывали Викторию в муниципальный комиссариат полиции пятнадцатого июня? Вы дали три месяца? Так почему же вы приходите двенадцатого?
– Да потому что, молодой вы человек, что юридически – в месяце тридцать дней и получается – в июле и в августе по одному дню идут в зачет этих девяноста дней. Вот и считайте.
– Я считаю, господа, считаю, – Жак дергал плечо Вики, а другой пятерней взволнованно вонзался в свои волосы, – получается тринадцатое сентября. Три-над-ца-тое!
– Послушайте, молодой человек, – устало вымолвил переводчик, – вы сейчас начнете о чиновниках и о тех трудностях, которые вы преодолели, но поверте, таков закон и день или два ничего не решат.
– Передайте вашему начальнику, – ткнул пальцем Жак, – что закон в данном случае распространяется на всех. До свидания, господа. Вика, закрывай дверь.
– Постойте, послушайте...
– Приходите, когда истекут ваши девяносто дней – девяносто дней, которые отпущены в этой стране на счастье!
Пока Жак выкрикивал все это, несколько раз приоткрывались противоположная дверь на лестничной клетке, а человек в штатском настырно смотрел на Вику. В конце концов, он устало вздохнул и занес ногу над порогом, но переводчик придержал его.
– Нельзя, вы же видите, вас не впускают добровольно. Уже поздний вечер и уже нет наци.
Человек дернул челюстью и проговорил сквозь зубы:
– Колыма по тебе плачет, сучка. А ты не пялься на меня, – бросил он переводчику, – Эта шлюха у меня еще отработает на лесоповале долг перед родиной. Сгною тебя, гнида. Я всю войну прошел, пока ты за фашистский харчь...
Пощечина прозвучала на весь лестничный стояк. Вика хлопнула дверью перед носом этого разъяренного быка.
Как они прожили эти три месяца? Да так, что только сейчас и вспомнили о том, что завтра тринадцатое. Вика летала по городу, Барбара сделала ей подарок – небольшая сумма денег была потрачена на платья, а Элиз, добрая, запутавшаяся в любви, Элизабет подарила ей пеньюар, предупредив, что дарит его на время и только ради брата: должна же девушка выглядеть красивой в постели. Но спала-то она теперь бок о бок с Викой, в ее комнату внесли диван из гостиной. Да и не могла Вика подумать о близости с человеком, который стал для нее целым миром.
Они ездили на море. Море в сентябре было холодным, красивые валуны лежали по всему устью Шельды, в заводях и заливах. Правда, и ржавеющих кораблей и самолетов немало чернело по берегу.
– Ты меня любишь? – спрашивал Жак и говорил по-русски, – А я тебья люблю.
– Люблю, – кричала Вика, – ударение на втором слоге, "Люб-лю-лю-лю-лю!"
И она носилась по берегу, как первобытный человек, падала разбивала лодыжки и снова неслась вровень стихии, и казалось ей, что она только что была создана Богом и планету эту Бог создал тоже для нее.
Жак не мог устроиться в прежний салон, по причине его полного отсутствия: в тротуар рядом с витриной попала авиационная бомба англичан, и салона, как и всего угла, выходящего на площадь святого Павла не стало.
Вернувшееся из долгой опалы старое бельгийское правительство выработало ряд собственных мер по поддержанию жизненного уровня населения, наращиванию производственного потенциала и запуску рыночных механизмов, разрушенных войной.
Первоочередной задачей поствоенной экономики было заполнение рынка необходимыми населению товарами, одновременно возврат из Швейцарии того золотого запаса, который удалось спасти. Людям нужны были деньги, причем обеспеченные товарами первой необходимости. Поэтому премьер-министр и его кабинет разработали программу социального обеспечения, гарантирующую каждой семье, пострадавшей в годы войны – различные пособия и выплаты, отдельно предусматривалась политика, направленная на поощрение семей, имеющих детей.
Люди, которые не могли найти работу или остались без дома, без средств к существованию, могли расчитывать на компенсацию от государства. Спешно создавались новые рабочие места на восстановленных производствах, поощрялись объединения мелких производств в концорциумы и союзы.
Жаку пришлось выстаивать долгие утренние очереди на бирже, но в конце концов, старый отцовский врач порекомендовал Жака своему личному парикмахеру. Тот только начинал создавать собственный салон, и дал согласие на будущее. Жак решил подождать именно это место.
Вика чувствовала полную неустранимую неловкость перед Барбарой. Мать Жака смотрела на нее так, как будто Виктория была на седьмом месяце беременности и требовала от ее Жака жениться. Вика вставала на ее место и понимала, что она была с неба упавшей нахлебницей. Жак только подшучивал над нею, говоря, что его мама без боя не отдаст.
На самом же деле, Барбара не думала о затратах, она разучилась экономить во время войны. Да-да, после такой нелегкой жизни и голода, после длительного периода строжайшей экономии на всем, некоторые люди отпускают свои желания на волю, стараясь жить сегодняшним днем.
Но не только поэтому Барбара не думала о цене, которую нужно было заплатить за счастье сына: счастье сына было бесценно. Она не старалась полюбить Вику ради сына, просто она видела, что эта русская девочка, которая и прикоснуться к нему боится, и есть часть ее сына, потому что Барбара видела те мощные силы, связывающие этих детей.
На ее глазах происходило рождение связей, на которых может устоять молодая любовь.
ВЕЧНАЯ МУДРОСТЬ
– Вы раненько вспархнули, – мужчина спросонья был похож на взлохмаченного лешего, – сейчас пойду покурю и будем завтракать. Это что у нас?
Они проезжали город.
– Борисоглебск, – констатировал мужчина, – я тут в страшном бою первый орден завоевал. Рукопашный был бой, вон оно как!
– Вы часто ездите в Москву?
– Не, – отмахнулся он, – Побереги Боже, но я Виктория Васильевна, эту всю дорогу своими ноженьками протопал, так что вот оно что...
Мужчина ушел в туалетную комнату, а Виктория смотрела ему вслед, подняв брови, и лишь через минуту поняла, что это – человек из ее прошлой жизни...
– Ну, что же давайте знакомиться, – сказал он, вернувшись в купе с полотенцем на плече, посвежевший, вроде бы и выпрямившийся, помолодевший, Плахов Иван Петрович, директор школы в станице Отрадокубанской.
"Здравствуйте! Здравствуйте! дорогой учитель рисования! Сколько раз, стоя за мольбертом, в институте живописи, на эскизах в мастерской у Поля Вантэ, в Королевской академии художеств, в лучших музеях перед картинами великих фламандцев, на выставках в столицах мира, я вспоминала вас. И поняла я только много позже, что лишь любовь рождает искусство! Это через первую страсть к вашему мужскому присутствию в моей юности, я прониклась волшебством красок, я стала творцом. Лишь любовь моего Жака помогла мне одолеть пятнадцать лет учений живописи. Его самоотверженность. И теперь ваша ученица стоит с ними, с большими художниками мира, если не в одном ряду, так в одном цеху. И это – ученица простого сельского учителя рисования из станицы Темиргоевской. "
– Я буду вас рисовать, Иван Петрович! Вот увидите, я вас так нарисую!
– Узнала! Девочка!
Старый солдат сурово поглядел на женщину, сидевшую перед ней, потом обмяк и суетливо полез за полку к вешалке, одел пиджак, звякнув несколькими орденами.
– А мы наслышаны о вас.
Иван Петрович совсем стушевался и еще долго не мог успокоиться и начать беседу.
– Я вас не узнала, – призналась Виктория, – вы не сердитесь?
Он пожал плечом. Задал главный вопрос:
– Чего же сердиться. Что же ты на родину-то не возвернулась, Вика?
– Я встретила человека, которого полюбила, теперь он мой муж. У нас четверо детей!
– Эва! – Петрович почесал в затылке, он совсем не был похож на директора художественной школы, – А я думал, может чего в лагере... Так это ж дело добре, раз так, то и предлагаю отметить встречу крепким горячительным напитком – чаем краснодарским!
Он сбегал за кипятком, торопливо поставил стаканы в подстаканниках на стол, подержался за ухо и стал спрашивать дальше.
– А вот к примеру, муж-то у тебя кто, немец?
– Бельгиец. Он был со мной вместе в лагере, только в соседнем.
– Бельгия вроде была оккупирована немцем еще до войны, до нашей. Так он служил там или сидел?
– Сидел, – Виктория улыбнулась пытливому старику, – А в основном стоял у забора и на меня смотрел, а я на него.
– А вы в Бельгии прямо так и живете? Квартиру дали? На стольких-то детей? Ты не обижайся моим расспросам, потому что нам, старикам, такое событие – с иностранкой поговорить, я теперь своей старухе как непрочитанная книга, она, рот открыв, меня слушать будет, я и бельгийка – в одном купе за чаепитием!
Вика подперла рукой щеку и любовалась этим простым открытым человеком, который не скрывал опаски своей по поводу ее жизни за границей, но слово "любовь" принимал, как пароль, открывающий все двери.
– У меня свой дом. Сначала мы с Жаком жили у его родителей, потом Жаку достался в управление салон, он парикмахер.
– О! Выходит, простой рабочий человек, – обрадовался Плахов.
– Потом муж настоял на том, чтобы я пошла учиться в институт.
– Это правильно. Это я одобряю. Толковый мужик!
– А для образования потребовались большие деньги, и тот дом, что Жак для нас построил сам, наняв рабочих...
– ...шабашников...
– да, мы продали, чтобы меня образовывать.
– Вот он весь секрет социализьма, – стукнул старичок по столу, – от каждого по способностям, каждому по труду. Хочешь, иди учись бесплатно, хочешь, не дай Бог, болей, никто тебе слова не скажет. А скоро будет вообще: от кажного по способностям, а вот уж каждому-то по нужде.
Он словно желал вызвать Викторию на спор о приемуществах социализма и капитализма, и уже заранее старался в том споре победить.
– Вот ты, к примеру, небось не работаешь?
– Работаю. Я же выучилась, Иван Петрович.
– С четырьмя-то детями, – не поверил Плахов.
– У меня своя мастерская, а с детьми помогает Жак, мой муж.
– Мужик у тебя, что надо, это мы выяснили, а как же тебе-то там приходится, работать заставляют? – зашел он с другого бока, – или он боится твоего влияния на ребятишек?
Виктория рассмеялась.
– Детишки уж взрослые: старшему двадцать пять, младшей четырнадцать. Тут уж никто не повлияет. А работать меня не заставляют. Я сама не могу не работать, это мое призвание – призвание свыше!
– Это что же за работа такая? – удивился Плахов.
– Я художница, я рисую картины и езжу с ними по всему свету. Так что, низкий поклон вам, Иван Петрович.
Старик покачал головой, принимая благодарность. Потом прокашлялся и сказал:
– Я вот, Вика, в роно согласую, может, выступишь у нас перед ребятами, им полезно, а мне – почет и уважение...
...Жак метался по квартире, как ужаленный, потом заперся в кабинете. Вика сидела на кухне, сложив на коленях руки, переваривала угрозы гэбэшника. Барбара, Элиз и Хендрик собрались в столовой.
– Что он кричал? – спросила Барбара, – Что надо этому русскому?
– Полицейский же сказал, мама, завтра истекает срок пребывания нашей Вики в Бельгии. А этот хряк кажется обещал Вике показать, где зимуют лапландсике олени.
– Ее ждет наказание, – подтвердил Хендрик, – То, что говорят про российские порядки в наших газетах, не выдумка. Сталин может отправить ее в Сибирь.
– Боже, какой ужас, – всплеснула руками Барбара, очевидно не представляя, о чем говорит муж, но возмущаясь самой вероятности наказания, За что?
– За то, что она полюбила иностранца, – резюмировала Элиза, – Вы не понимаете, что надо что-то делать? Не ломайте Жаку всю жизнь!
Родители не ожидали от дочери такого странного намека, разве они ломают ему жизнь? Что от них-то зависит?
– И потом, она не католичка, – пожала плечом Барбара.
В это время в комнату вошел Жак. Он засунул руки в карманы брюк почти по локоть, так и бухнулся на колени, не вынимая рук, опустив голову.
– Ты что, сынок? Встань!
– Я не стану без нее жить...
У Хендрика зачесалась рука.
– Как ты можешь говорить матери такое!
Но Барбара смотрела на сына и лихорадочно искала слова, выход искала, спасение для сына и понимала, что спасение это – сидит сейчас одна одинешенька на кухне и боится их решения.
– Он – твой сын, дорогой, он – также отчаянно любит и готов на все. Что же из того, что он говорит об этом вслух.
– Поднимись и сядь, – приказал отец и выдвинул стул для сына, – Что ты хочешь, помимо суицида?
– Ты знаешь. Если мы обвенчаемся, ее никто не тронет.
– Как это мало – жениться только, чтобы она осталась в стране, заметила Элизабет.
– Помолчи, – снова бросил отец, но Жак перебил его:
– Ты не права, Элиз. Я всегда знал, что люблю Вику, но я только сейчас узнал, насколько она мне дорога, я сидел и думал, я представлял и не мог представить жизнь без нее. Бог уже все решил и давно наметил: она была создана для меня, почему же мы должны позволять им увезти ее?
– Ну, кстати, Бог ничего не говорил об этом нам с отцом, – заметила Барбара.
– Конечно, ведь нам прочистили уши лагерные надзиратели, мама.
Барбара потупилась, долгая пауза зависла над столом, Жак посмотрел в противоположные окна. Там было темно. Барбара поднялась и вышла из комнаты.
Она подошла к Вике, все еще сидящей в большой кухне, на табурете.
– Виктория. Мой сын хочет на тебе жениться и он просил нас об этом, сказала она по-фламандски, – Я понимаю его. Мы все понимаем его. Мы хотим ему счастья, да и против твоего счастья ничего не имеем. Ты понимаешь меня?
Вика кивнула. Она все понимала по тону.
– Ты хозяйственная, и ты заботливая. Ты скромна и у тебя неплохие манеры, может быть, вы и смогли бы быть хорошей парой. Но, очевидно, для тебя, как и для нас окажется непреодолимым вопросом вопрос твоей веры. Не отвечай мне сейчас! Я знаю, вы там в Советском Союзе все неверующие, но в тебе, в твоей крови все равно – другая вера, а по сути другая религия другая жизненная традиция, отличная от нашей. Это очень большой барьер. Это не просто отличие в крестном знамении, в списке святых и прочих формальностях. От католицизма рождается один уклад и способ мировосприятия, от православия – другой. Не хуже, не лучше, другой, как ты адаптируешься во Фландрии? Как? Ведь брак – это на всю жизнь. Не лучше ли сейчас отказаться от этой попытки, девочка?
Элиза пришла на кухню и тихонечко стояла за спиной матери.
– Мама, я переведу ей это на немецкий, а ты иди в комнату, тебя зовет отец.
Барбара поджала губы и ушла. Через пять минут хлопнула входная дверь.
Жак лежал на своей кровати ничком, Вика впервые вошла в эту комнату.
– Кто там ушел? – спросил Жак.
– А что, если я – я ушла? – Вика удивилась, что Жак не выглянул в коридор, ведь она и впрямь еле сдерживалась, чтобы не убежать на улицу – как же тягостна была эта ночь!
– Нет, ты не можешь меня бросить. Иначе зачем мы выжили?
– Да, ты прав. Это твой папа, Барбара сказала, что он скоро вернется.
– Куда это он в десять часов ночи?..
Еще через полчаса Хендрик вернулся. За ним в квартиру вошла женщина в черно-белых одеждах, старая женщина, в движениях которой была уже заоблачная легкость.
– Вот, мать Магдалина, это наши дети.
Старушка остановилась перед вышедшими в прихожую Викой и Жаком. Она посмотрела на них, словно они были нарисованы на картине, одобрительно кивнула и сцепив пальцы на животе, направилась в гостиную.