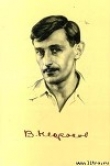Текст книги "Виктория"
Автор книги: Ромен Звягельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Впереди кресла заканчивались, там люди стояли уровнем ниже, и так до трибуны. С нее кто-то маленький размахивал ручками и кричал о победе великой Германии. Это был Блюм. Он был так далеко от Жака, что казался необязательным условием жизни. Но сзади в дверях стояли солдаты. Поэтому тот далекий маленький Блюм властвовал над судьбою Жака и всех этих людей, как бы далек и смешон он не был.
По огромному куполу вокзала грохотал ливень.
– Зарядил, – сказал кто-то по-французски, – Хорошо, что не печет солнце. Легче теплые вещи везти на себе, чем в сумке.
Парень был с красной нацистской повязкой на рукаве. Жак только сейчас увидел, что у многих здесь такие повязки.
– Сегодняшнее событие требует от вас спокойствия и собранности. Но вы должны гордится тем, что вам выпала честь служить фюреру, служить делу нацизма. Ваши братья сражаются на фронте, чтобы стереть коммунистическую нечисть с лица земли, а вы – вы едете строить новую жизнь для себя и для тех, кто принесет вам победу.
"Как я могу ехать?" – не переставая спрашивал себя Жак. Парень, стоявший рядом с ним, то и дело выбрасывал вперед руку, горланил "Хайль, Гитлер!" Он был похож на маленького чертенка, забавляющегося общим идиотизмом. Ну, не всерьез же он верил в могущество идей о высших и низших расах.
Вскоре открылись боковые двери, за ними показался перрон. В сизом дыму, блестящий от невидимого белого света стоял состав. Голубые корпуса вагонов покачивались в нетерпении.
"Что же, может быть все это и к лучшему. Никто не сможет меня удержать от возвращения домой, если я наконец-то разберусь в собственной жизни".
Их очень быстро сформировали в отряды, выкрикивая фамилии. Развели по вагонам. На сердце было горько и пусто. Ощущение неправильности, несправедливости происходящего, чувство потери той счастливой жизни и всего, что составляло его, Якоба Смейтса, разрывало грудь. У него отбирали страну, семью, работу, любимую – все ради чего он жил, не оценивая этого. Он не понимал раньше, что этим нужно дорожить.
К окнам вагонов были припаяны решетки. В остальном обычные вагоны общего класса, с жесткими полками вдоль и поперек.
Жак подсел к окну и положил на колени свой мешок. Когда состав вздохнул и тронулся, по вагону прошелся радостный ропот. Да и Жаку на миг показалось, что юношеская тяга к путешествиям всплыла в нем и затмила саднящие думы об оставленных в слезах матери и сестре. О Гретте.
Человеческий мозг, как те горные ручьи, которые всегда находят себе дорогу, начал пристраиваться к новому порядку мироздания.
* ЧАСТЬ ВТОРАЯ *
Коль сам умру, так песня не умрет,
Она, звеня, свою сослужит службу,
Поведав родине, как здесь цветет
В плененных душах цвет
прекрасной дружбы.
Муса Джалиль
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Я, уже т а м стоявший одной ногою,
Я говорю вам – жизнь все равно прекрасна.
Ю.Левитанский
Восточная рабочая сила
Пахло чистым бельем и женщиной. Да-да, Эрих давно не чувствовал запах утреннего женского дыхания и женского пота, и сейчас особенно остро обонял все, что ему давало это летнее утро. Штандартенфюрер дал ему увольнительную до послезавтра. Он, как и советовал Поппер, отправился прямиком на станцию, доехал до города на маленьком допотопном паровозике и заявился к Розе.
Ему были рады настолько, что показалось, будто она абсолютно не надеялась на его приезд и даже настроилась на скучный вечер с сестрой и ее выхолощенным муженьком.
Знакомство, однако, оказалось полезным. Герберт Аушентарг служил на заводе. Он не просто служил на заводе, но и был вице-президентом одного из концернов, входивших в холдинг. Был самым молодым начальником. Его взяли на завод сначала управлющим одим из цехов, по рекомендации самого рейсфюрера, а потом быстро повысили и позволили купить часть акций.
– Ведь этого монстра, а иначе не назовешь предприятие, занимающее двадцать квадратных километров, строили англичане.
– Неужели? – Эрих вел себя развязно, чем и покорил и Марту и ее мужа, Скажите пожалуйста, то-то я смотрю, что их самолеты пролетают все время мимо. Теперь я не буду ползти ближе к сортиру, когда услышу звуки бомбежки.
– Эрих шутит, – сглаживающе улыбалась своими крепкими щечками Роза, – А помнишь Марта, как мы детьми еще наблюдали необычные зарева в стороне заводов, все небо полыхало. Однажды ночью, сидим мы на крыльце со стороны двора, и вдруг такой всполох – что это? Наверное, взрыв, но звука не было.
– Милая Роза, не рассказвайте никому ваших детских воспоминаний.
– Мой шурин очень заботлив, но какую опасность могут содержать мои рассказы, там все равно все оцеплено солдатами. С тех самых пор и оцеплено. Идешь бывало по лесу, вдруг, как из-под земли, выныривают люди в маскировочных формах – жуть. Фроляйн, сюда ходить не следует. Все местные жители об этом знают. Они же там и работали на стройке, только делали вид, что строят кондитерскую фабрику. Да все присутвующие здесь, кроме Марты, и работают там, какие уж тайны...
Она была умиротворена тем, что вся семья, не считая троих детей сестры, а также отца, полковника Блюма, собралась в ее доме.
– А вы в каком ангаре обычно бываете, Герберт?
– В административном корпусе, мой друг, – Герберт был, конечно, кровей благородных, как он оказался среди этого простого люда, Эрих не предполагал.
– А я привожу своих подопечных в цех полировки, в химическую лабораторию двадцать третьего цеха, бывает поступают разнарядки в цех штамповки, но туда берут в основном европеек.
– О! Так вы еще и на работе видитесь с Розой! – всплескивала руками Марта.
Марта ждала четвертого. Ее маленький торчащий из-под платья, как гриб для штопки, живот не позволял ей сидеть за столом прямо, и она сидела боком на краешке стула. Она казалась немолодой и полностью отдавшей свою красоту, яркость, свежесть кожи своей младшей сестре. Она даже одета была в серое, серым было и ее лицо и ее волосы. Впрочем, личико у нее было интеллигентное. Смиренное такое личико. Она покорно и ласково смотрела на мужа, и всякий раз улыбалась Эриху, когда обращалась к нему.
С пирогом было покончено и остатки Роза завернула детишкам. Ауфенштарги предложили Эриху подвезти его до станции или поближе к лагерю, к ферме Ротвиль, но Роза вдруг вспомнила, что хотела попросить Эриха посмотреть одну из ставен наверху, она того гляди должна была слететь с петель.
– О! Осторожно, Эрих! Там наверху у них спальня! – хохотнул чем-то раздраженный Герберт, и Эрих сразу же понял, как тот оказался в ловушке семейства Блюм.
– Я буду осторожен, – ответил он, – Надеюсь, мы увидимся в скором времени.
– И мы надеемся. Папа был бы рад, знай он, как повезло Розе. Это будет прелестное торжество! – произнесла Марта, неправильно истолковав слова Тоггарда.
И вот теперь он проснулся в розовых одеялах и подушках и почувствовал, что его купили с потрохами. Солнечные зайчики скакали по толстой руке Розы с ямочками в локте. Он и не заметил, когда она успела подкрутить на ночь свои белые локоны, ведь угомонились они с ней не раньше рассвета.
Он встал и, прихватив свои вещички, шмыгнул из мансарды вниз. Эрих вдруг почувствовал голод и решил пройтись по сусекам Розы.
Когда она вышла из комнаты, внизу в зале сидел ее Эрих, в своей выцветшей гимнастреке, уплетал большой ломоть белого хлеба с вареньем и запивал молоком.
– Пожалуй, я погощу тут у тебя годков двадцать-тридцать, – пошутил он и широко самодовольно улыбнулся, – придется вызывать нашего папочку на "прелестное торжество".
Практически с начала войны немецко-фашисткое командование разработало план использования порабощенных народов Восточной Европы на благо вермахта. В циркулярном письме директора фабрики Крупп говорилось, что восточными рабочими считаются те, кто не принадлежит к германской этнической группе и захвачены в России, на Украине, в Белоруссии, а также в Латвии и Эстонии и привезены в Германию.
Вермахт изначально определил эту группу как низкоразвитый подсобный материал, нечто вроде неодушевленных орудий труда, безжалостное отношение к которым только приветствовалось. Ведь любое простейшее орудие труда быстро изнашивается и приходит в негодность. Тогда его выбрасывают и берут новое.
Индивидуальное использование восточного рабочего должно было быть согласовано с германской разведкой. Они не должны соприкасаться с рабочими других национальностей, их должна всегда сопровождать к месту отбывания трудовой повинности охрана. На правой стороне груди они должны носить знак с надписью "Ост" – "Восток".
Для содержания этих рабочих в Германии, на территории других, перешедших под управление вермахта земель, организовывались лагеря нескольких типов. В их числе лагеря для лиц в возрасте до двадцати лет, трудовые исправительные лагеря, лагеря для военнопленных, гетто и другие.
В памятках об обращении с восточными рабочими предписывалось "содержать восточных рабочих в закрытых лагерях, обособленных по поло-возрастному принципу, при производстве работ рабочие всех групп должны находиться под охраной часовых, всякая связь с местным населением им запрещается, покидание рабочего места строго карается".
Каждое утро после завтрака надзиратель Хофке зачитывал им требования "дойчедисциплин", а его двойник, чахоточный Клаус, переводчик, также гавкающе повторял правила на русском. Зачем им это надо было, никто не понимал. Ну, ладно заключенные встают в пять, но чтобы себя так мучить?..
Прошел уже год, как Вика находилась лагере "Фогельгезам" недалеко от Торгау.
Сначала поговаривали, что их везут в Берлин. По дороге в вагон набили сто человек, а может и больше. Сейчас она не понимала, как они там все умещались. Ехали долго, несколько раз обстреливали, бомбили, на третьи сутки кто-то стал подозрительно дохать всеми легкими, как будто хотел вывернуть их наружу. Они спали в два слоя. Ложились на ноги друг друга. Так и лежали в пять рядов по двадцать человек. Там под окошком, спала Нюра, односельчанка. Ее рыжие завитушки освещало окошечко под потолком, и Вике грело душу это рыжее пятнышко в темном душном вагоне: Нюра была частью ее жизни, и значит, жизнь еще теплилась и в ней, в Вике Сориной, увозимой из родной растерзанной страны в зловонную варварскую Германию.
Кашель раздавался из того же угла, но Виктория посматривала: нет, это не Нюра, ее макушка даже не шевелиться, когда раздается этот раздирающий кашель. Валя Каталенко и Лена Красавина спали рядом с Викой, затылок в затылок. Им было тяжелее, чем остальным. Их обманули злее, вероломнее. Им, можно сказать, двух шагов до дому не дали сделать. Вика не могла заснуть всю первую ночь, вторую, а на третью, заледеневшие от ударивших морозов, они не встали и днем. Так и пролежали обессиленные без еды и воды, потом Вика, наконец, заснула. Она чувствовала, что состав заскрежетал и остановился на какой-то станции, она слышала, как солдаты скинули внешние задвижки и дверь поехала вправо, загородив окошко, под которым спала Нюра. Кто-то забрался в теплушку, пошел по ногам, по головам, вот и Вику кто-то развернул, потрепал по плечу. Она приоткрыла глаза.
Над ней склонился солдат в металлической каске. У него были красные уши, они торчали и светились на ярком свету, Вика улыбнулась.
– Живая? – спросил он по-немецки и отбросил ее плечо, пошел дальше.
Ей пришлось долго расшевеливать собственные пальцы, потом суставы ног и рук, потом оттирать щеки. Она не чувствовала собственных щек и это пугало ее. Она вспомнила бабушку, или ей только показалось, что она ее вспомнила. Один лишь этот золотой светящийся затылок Нюры в далеке грел ее снова, как может согревать лишь близость земляка в несчастье.
Когда состав стал снова тормозить, она почувствовала в себе силы, чтобы встать и поглядеть в оконце. Окликнула Валю и Лену. Лена сразу открыла глаза, брызнула на Вику своим синим взглядом. Валю пришлось будить подольше. Та размякла в дороге, опухла, приоткрыв глаза, снова заплакала, как будто только лишь прерывалась на сон среди этого молчаливого слезоточения.
Виктория, расставив руки, попыталась встать, но это оказалось делом сложным, ноги не держали ее, все тело тряслось от слабости. Поползла по лежащим девичьим телам к Нюре, к окошку.
– Если им нужна рабочая сила, так ее ж в норме держать надо, а то падеж начнется, – рассуждала она тихонько и вдруг замерла и прошептала только, Но это не моя Нюра!
Еще через минуту в вагоне раздался ее бессмысленный, утиный резкий крик:
– Где моя Нюра! Нюра!
Страшная догадка оправдалась. Нюра умерла в дороге от скоротечного туберкулеза, очевидно, уже разъедавшего ее внутренности, когда состоялась их невероятная встреча в этом вагоне. Ее вынесли на одной из станций, пока Вика была в беспамятстве. На ее месте лежала другая рыжеволосая девочка, с белыми обветренными губами и раскосыми глазами. Вика смотрела на нее, как на что-то внеземное. Той даже стало не по себе.
– Но для чего же нужно так испытывать мое сердце! – вырвалось у Вики, и ей снова захотелось показать потолку кулак, плюнуть в него, запустить чем нибудь, и крикнуть "ненавижу!"
Жизнь в безжизненном пространстве
Рано утром – Вика уже привыкла просыпаться за пять минут до побудки и бежать к кранам, – рано утром длинный протяжный крик будил лагерь: "Подъем!"
Крик повторялся еще два раза, пока дежурный ефрейтор не проходил весь лагерь. Тогда в барак входил надзиратель Хофке и громко повторял "Подъем!"
Новенькие вставали не сразу. Они пробуждались долго, стонали от ломоты в суставах. Вика и ее соседки, с которыми она была неразлучна – ростовчанки Валя и Лена – вскакивали сначала с криком Хофке, потом слух их научился ловить первый петушиный крик дежурного, когда тот был еще на задах, вскоре Вика сама собой стала просыпаться за пять минут до побудки.
Она судорожно натягивала на себя чистое белье и лишь потом будила соседок, стеснялась переодеваться при них. Барак был огромный, высокий, нары стояли в два яруса, на них лежали тонкие подстилки. Сторожилы догадывались собирать траву и набивать ею эти подстилки. Всю первую зиму Вика и ее соседки проспали на голых досках. Накрывались тонкими тканевыми покрывалами и своими же ватниками. Верхнюю одежду у девушек отобрали сразу по приезду.
После дезобработки они вышли коротко стиженными, худенькими, впервые за два месяца помывшимися в бане. Им выдали сероватое нательное белье и льняные бежевые робы. Впрочем, их обычную одежду, кроме пальто, не отобрали. Только предупредили, что одевать гражданское можно лишь в воскресенье.
Когда Вика впервые увидела немецкую землю, немецкие поля, распаханные, ровные, безмолвные; статные степенные хутора, деревеньки, которые они проходили мертвенно-печальной процессией, она была удивлена новому ощущению: ей, с одной стороны и нравился этот упорядоченный, почти симметричный, пропорциональный мир немецкой природы, с другой, она даже рулоны сена в поле, даже золотые шары деревьев и туманистые перелески ненавидела, как только два антагонистических класса могут ненавидеть друг друга.
И если она рычать готова была от звука немецкой речи, то и на эту местность – поняла она – глаза ее вскоре смотреть не смогут без рези.
Самостоятельно им разрешалось только совершать утренний моцион и выходить после пяти из барака для того, чтобы пройти по аллее к площадке. Около каждого барака, человек на триста каждый, были свои туалеты и низкие на уровне пояса – трубы с дырками, из которых текли струйки воды. Девушкам приходилось набирать воду в кружки и бежать с ними за ширму.
Все это делалось в такой панике и толкотне, что половина девушек, одеваясь, сразу шла на построение. Мылись они уже по возвращении с работы.
– Дай зеркало, да скорее же, – торопила Валя Лену.
– С собой возьми. Поправь воротник. Вика уже дожидается. Иди, Вика, не жди нас.
Очень скоро они поняли, что лагерные законы несколько отличаются от законов человеческого общества. Здесь просто преступно требовать от другого делать все компанией и за компанию. Здесь это могло стоить жизни.
– Вчера увели Курочкину из зеленого барака, – шепнула Валя за завтраком.
Зеленым называли барак, на которым буква "В" была выведена зеленым цветом, чтобы не путаться называть ли этот барак буквой "В" или на немецкий лад буквой "Б". Они ели по утрам хлеб, иногда размоченное просо, иногда отваренный овес. На утро полагалась кипячная вода. Иногда кому-то удавалось добыть на заводе морковный чай или даже настойку цикория.
С завтрака выходили строиться на поверку. Все бараки строились на плацу перед административным зданием, и ряды девушек растягивались по аллее до последнего барака. На плацу, в котором находились казематы, служебная квартира начальника лагеря и другие административные помещения, умещалось лишь два первых корпуса. Правда, административное здание это стояло вдалеке, так что штандартенфюрер Поппер, глядя в окно, справа от его рабочего стола, лишь в проеме между столовой и дальним в том ряду бараком мог наблюдать начало строя.
Заключенных строили в колонну по пять человек и выводили за ворота.
Поскольку лагерная охрана напрямую не подчинялась начальнику лагеря, часовые повторно пересчитывали девушек по головам, так несли за них самостоятельную ответственность.
– Так вот, Курочкина обругала фюрера. Еще на заводе. Слышала проходившая мимо девица. Сучка, доложила. Курочкину увели и, говорят, ночью расстреляли, – дорассказала по дороге Валя.
– Это какая Курочкина? Худая, со вздернутым носом?
– Не знаю, как тебе объяснить, у нее по-моему такие светлопепельные волосы, вот так она подвязывала. Помнишь, я тебе еще говорила, чтоб ты мне так сделала, показывала ее.
– А да! Жалко. А может не расстреляли, может, наказали только.
– А чего ж тогда стреляли?
– Ну, мало ли!
Они, сами того не понимая, жили надеждой. И надежда – подсознательная врожденная надежда – заставляла их и там верить, что все это не навсегда. Что надо ждать. Война закончится. Так не будет вечно. Ведь когда-то все войны заканчиваются, и люди преобретают человечески облик.
– Девчонки, сегодня приведут обратно рано – суббота – вы идете на площадку? – Лена успела отростить новые белые смешные хвостики, которые торчали из-под ее голубой беретки, – Вик, может и ты с нами? Весна, неужели не наскучило в бараке сидеть.
– Нет, неохота.
– Заохотится – скажи. А я вот со своим Лионом договорилась. Он меня ждать будет. И Мишель.
– Ну, и шалава же ты, Ленка. И откуда такая выросла! – смеялась Валя.
По обочинам асфальтированной дороги, в тяжелых кирзовых сапогах шли солдаты, покрикивая по-немецки. Сначала не все понимали эти команды. Но когда застрелили одну девочку, просто споткнувшуюся и полетевшую носом вперед из строя, команды эти начали воздействовать и без перевода.
– Посмотрите на нее, – снизив голос, подковыривала Лена, – Лялька, а что ты ныла вот на этой же дороге год назад? Я самая невезучая, я самая несчастная. Теперь ожила, ругается!
Так у них повелось не сразу, ближе к весне, когда девчонки стали бегать на площадку. Лену стали называть Лелей, а Валю – Лялей. Это, кажется, французы придумали.
– А я и сейчас так думаю, Леля, – вздыхала крупная запыхавшаяся Валя, Вот смотри, сколько я на площадку с тобой хожу, а чтобы кто нибудь на меня запал. Даже места приткнуться не находишь порой. Ой, как же есть охота!
Охранники делали привал посередине дороги, когда колонна проходила два с половиной километра. Лагерь делили на три части и вели к заводу по разным дорогам. Девушек из Викиного барака и соседей, единственный в лагере барак с нидерландками и норвежками, вели по грунтовке до поворота на хутор Ротвиль, потом справа от леса они шли к этому большому ухоженному, как дом пастора, населенному пункту, который не был похож ни на деревню, ни на городок – они проходили его стороной, лишь начало домов и местный белый костел выходили к их пути, потом дорога резко выскакивала на шоссе, а вот уже по шоссе вели их километра полтора до поля, на котором делали привал.
– У вас мысли только об одном, – замечала Вика и, кряхтя, падала в траву.
Через пять минут девушек поднимали и вели дальше.
Той зимой, когда их первый раз привели на завод, они устали уже в дороге. Идти было скользко, они не чувствовали голеней, по ним можно было стучать, как по дереву – звук был похожий. В дороге молчали, глазея по сторонам и стараясь не поскользнуться на покрытом наледью асфальте. Все думали о предстоящей работе, страшась – выдюжат ли. А что если работа окажется непосильной?
Они подходили к какой-то непонятной насыпи, присыпанной снегом. Вниз спускалась дорога. Оказалось, завод был подземным, огромные двери ангара заглотнули их, как рыба-кит. Их остановили в первом же зале, разбили на отряды и развели по цехам. Вику и еще человек тридцать, отобранных молодым человеком в спецовке, долго вели по узким еле освещенным коридорам, пока не привели в такой же темный цех. Там уже работали женщины. Принимали по конвееру из соседнего зала металлические полые цилиндры и складывали их в ящики.
В цеху было натоплено и пахло маслянными красками, резиной и механическими маслами.
Вика не заметила, как отогрелась. Оказалось, что Лены и Вали в ее группе не было. Валя последнее время не давала им с Леной покоя. Начиная с прибытия в распределительный лагерь, она давила своей аппатией, нежеланием жить, кляла судьбу и все время спрашивала: "Ну, почему я? Почему я родилась в Ростове, а не на Урале, почему я оказалась дома, когда они за мной пришли, почему я не сбежала по дороге?"...
Им показали, что они должны делать. Тряпками, смоченными в масле, они должны были протирать эти цилиндры и лишь потом складывать в ящики, другим поручили покрывать эмалью какие-то непонятные металлические крышки, похожие на крышки банок с технической масляной краской, которые Вика когда-то покупала для покраски своего старого сарая.
Она взяла в руки кисть и окунула ее в таз с краской. Тягучая густая масса потекла обратно, резкий запах разнесся кругом – Вика надышаться не могла.
Немецких женщин увели из цеха. Солдаты из охраны сели к стенкам, по двое. Цех был большой, кубический, сверху свешивались какие-то провода, по стенам шли трубы, собираясь в узлы над самым полом. Под конвеером шли другие трубы и другие провода, над самыми головами девушек светились трубчатые неоновые лампы, от которых быстро слепли глаза.
Вика была в азарте. Глаза ее горели. Она не то, чтобы очень хотела перевыполнить план фашисткого командования по крышечкам, не то, чтобы истосковалась по работе на фашистскую победу, просто она сжимала в пальцах кисть и знала, как облегчить и упростить свою работу, чтобы ни одна капелька не измазала пальцы, а эмаль бы ложилась ровным гладким слоем.
– Красивый цвет...
Круглолицый нагловато улыбающийся офицер стоял рядом и, перекрикивая гул конвеера, показывал на тазик с эмалью.
– Красивый, – согласилась Вика, ответив по-русски.
– Вы из какого барака?
– Из первого.
– Хорошо. Гут.
Так она впервые увидела Тоггарда. Он посмотрел на нее, словно зацепился взглядом, как крючком, начал уже отворачиваться, а взгляд еще не переводил, повторил:
– Гут.
Вика, приспустив веки, чувствовала, что ее лицо изучают, и ей это было неприятно. "Не трогали бы уж меня", – говорила она про себя кому-то, очевидно, духу святому, в этих обстоятельствах и этот вздох мог сойти за что-то вроде молитвы. Перед уходом, когда уже кончалось терпение выполнять монотонную работу, их собрали и повели в общий зал, где стояла плита и столик с грудой мисок. Им налили похлебку и бухнули туда по одной нечищеной картофелине. Обед показался спасением и поднял дух.
– Если так будут кормить, я тут с вами довоенный вес нагоню, – пошутила Валя, заглядывая в миску Вики.
– Молчи, подруга, у самой наступает ожирение.
Они только растравили себя сытным по сравнению с лагерным завтраком кушаньем, но через полчаса голод утих, в желудке что-то по-кошачьи заурчало.
На обратном пути Вика с подругами шли молча. Валя больше не причитала. Ушла в себя и была мрачнее тучи. Да и Лена злилась на кого-то, поджимая свои тонкие чувственные губы.
– Это что же, мы тут будем на их заводах ишачить, те самые бомбы делать, которые на наши же города полетят?
– С чего ты взяла, что бомбы? Мы крышки какие-то красим, цилиндры такие, тоже вроде банок, мажем маслом и все.
– У нас по химии и физике – пятерка! – Лена показала пальцы.
– На двоих? – пошутила Вика и улыбнулась, видя, как Лена лукаво покосилась на нее.
– На каждую! У них в химлаборатории порошки. Они их смешивают, а мы стекло моем. Девок там хватает и ихних, за это я спокойна. Но вот они там за столами сидят, в микроскопы глядят, может даже биологическое оружие делают, слыхали про такое? А мы, – она повернулась к Вике, – а мы их мусор, пробирки, тряпки и приборы – все там чистим голыми руками. Это ладно, но они же на наши города...
Мимо них проехал небольшой автомобиль на высоких колесах.
– Гляди, как он на тебя шею вывернул, Вичка, – зашипели сразу со всех сторон, и Вика только и успела увидеть того же мужчину, что приставал к ней на заводе.
Они устроились на новом месте с поглощающим все невзгоды желанием создавать уют, вить гнездо, свойственным всем женщинам.
Их ряд нар шел вдоль стены: голова в ноги. Три их верхние койки располагались одна за другой вплотную. Внизу спали старожилы, три взрослые девушки, маленькая Жанна, Татьяна из Москвы и Фаина, татарка. Они были старше, гораздо старше новеньких, еще неоформившихся малолеток. Жанне было двадцать, а двум другим по двадцать четыре. Они казались прошедшими огонь и воду, всезнающими и чувствовалось, как они боятся, что новенькие вторгнуться в их уклад, создадут сложности, и что особенно опасно, оттеснят их на площадке.
Поэтому Жанна в первый же вечер по прибытии в лагерь, когда изнемогавшие от усталости, разбитые, вялые, девочки присели на нижние нары, не в силах забраться к себе наверх, развалившись на средней койке, объяснила, обращаясь почему-то именно к Вике, что там, на задах, у колючей проволоки можно гулять и разговаривать с парнями из соседнего лагеря.
– Мы сейчас отлежимся и часам к семи туда, – добавила Татьяна-московская.
– Только без нас не ходите, можете нарваться на пулеметик, – поспешила сказать Жанна, – В темноте-то. Мы вас представим по всем правилам.
– С какими парнями? – не поняла Лена, хотя глаза ее уже загорелись, щеки вспыхнули, усталость как рукой сняло, – С нашими?
– Да, нет, – ответила Жанна, – там в соседнем лагере пацаны французские сидят, так нам разрешается подходить к забору и с ними разговаривать.
– Ух, ты! А они что же знают русский?
– Разбежалась. Девки, вы гляньте, деваха-то какая шустрая. Уже намылилась!
– А что! Я у нас в Ростове никогда живых французов не видела!
– И не увидишь! Они уже все разобаны, это раз. А два – они все-таки какие-то полудохлые там, – проговорила Фая, из-за своей мягкотелости, очевидно, менее выносливая, лежащая за спиной Лены.
– Да, хорьки еще те.
– Не скажи, Жанетт, – вставила Татьяна, – французы что надо!
Девочки смущенно улыбались, слушая о невероятной близости загадочных французов. Валя и Лена сразу же обрели силы, чтобы забраться наверх и перестелить постели. Вика тоже забралась на свою полку, легла на спину, почувствовав томительную, тянущую боль в пояснице, в позвоночнике, а затем и в ногах.
Она не заметила, как заснула. В первый вечер их не стали будить, ушли на площадку без них: поняв, что еще долгое время новенькие будут предпочитать легкий – до завтрака – сон прогулкам под Луной: не до того.
Так оно и вышло. Привычка дело наживное. К началу весны сорок четвертого года девочки освоились в лагере, и хотя им открылись все тяготы несвободы, жизни в проголодь, частых проверок, побоев, ночных рейдов администрации, окриков и постоянно направленных на них дул пулеметов и автоматов охраны, они выстояли в холодные зимние ночи, привыкли к скудной пище два раза в сутки – в лагере утром и на заводе перед уходом, они научились не уставать, или по крайней мере привыкли жить с этой непроходящей усталостью, а монотонность существования наконец-то нарушила весна. Только к голоду нельзя было привыкнуть, хотя и много им не надо было: только снился им обыкновенный магазинный хлеб, мясо и фрукты.
Как и на родине, о которой они вспоминали по ночам, весна пришла запахами. Пахнуло из-за колючей проволоки талым снегом, ручьями, свежестью, и захотелось ласки и тепла.
– Ой, девчонки, скоро на солнышке погреемся, – то и дело слышалось вокруг, – Вика, Вика, твой по аллее прется!
Опять они ее подначивают.
Помощник начальника лагеря фельдфебель Тоггард чаще подходил к другим девушкам. Это случалось и в столовой и на построении и в свободные часы. В особенности он любил блуждать по цехам, пока заключенные работали. Но где бы он не привязывался к девушкам, он пытливо смотрел в сторону Вики. Заметили это не сразу, но со временем девушки поняли, что к ней он относится по-особому. Мог надолго уставиться на какую-нибудь молоденькую зависимую от всех на свете девчурку, подмигнуть ей, увиливающейся от его взгляда, кивнуть в сторону казарм, мол, не хотела бы?..
Но Тоггард никогда еще не подшучивал над Викой.
– Гляди, как пялится на наш барак! – комментировала Жанна, возле койки которой было пространство для стола, а стол стоял у небольшого, зарешеченного окна, впрочем, единственного в бараке.
Вику бесили эти разговорчики, она зло, исподлобья смотрела на Тоггарда, не понимая, что в нем ее так бесило. Раздражение это было чисто женским, не относящимся ни к войне, ни к фашистам вообще, ни к наглому поведению самого Тоггарда. Нет, что-то в нем было отвращающее, как в мужчине. Вика никак не могла определить в нем то, что делало его недочеловеком.
Говорили, что он таскает к себе девушек из других бараков.
– Вика, между прочим тебе обязаны спокойствием, – сказала как-то умная Татьяна снизу, – он к нам не ходит, потому что тебя боится.
– Ой, я тебя умоляю, – взвилась Фаина, которая обладала способоностью всем во всем завидовать, но не пакостить при этом, а завидовать на словах, в мимике, в подергивании плечиком, – да ему надо будет, он приведет двух охранников и уведет, кого захочет.
– Видно, с ней, он так как раз не хочет. Выжидает. Пасет.
– Так. Прекратите! – требовала Вика, и ее слушались.
Последнее время она заметила, что ее слушались. С ней стремились поговорить, ей улыбались, словно будущему объекту жертвоприношения.
– Какие же вы дурочки! Ведь и у него есть начальство. Можно настучать!
– Все, Вичка, сегодня идешь с нами на площадку. Мы ребятам про тебя все уши прожужжали. Они хотят познакомится.
Валя снова приобрела вкус к жизни. С весной это стало особенно заметно. Вике даже стало казаться, что Валя влюбилась. Однажды, та плакала ночью, Вика перелезла к ее изголовью, покачала ее плечо.