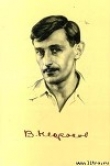Текст книги "Виктория"
Автор книги: Ромен Звягельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Вика рисовала, потом спускалась к Татьяне, спрашивала, видела ли та Сталина, была ли на Красной площади и чем занималась на кондитерской фабрике. Слушая Таню, она фантазировала и улетала в своих фантазиях в Москву, в Ростов, в степь...
Вдруг она увидела, что девушки расступились перед ней и с той стороны тоже образовался коридор – Жака пропускали его товарищи. До слуха ее снова долетело ее имя.
– Виктория!
– Жак! С днем рождения тебя! Жак!
Она близко близко подошла к проволоке, встала на кочку и так стала еще немного ближе к нему.
– Поздравляю! Желаю тебе либерте! И еще счастья и здоровья!
Она отступила на шаг и полезла под кофточку, а Жак с удивлением и широкой ошалелой улыбкой следил за ней, потирая пальцем подбородок и не зная, отворачиваться ли ему. С обоих сторон их уже обступали люди, но все они краешками глаз следили за этой, ставшей уже известной здесь парочкой.
Вика достала белый лист бумаги и долго боялась перевернуть его рисунком к Жаку.
– Что это? – спросил заинтригованно Жак, – Покажи!
– Это подарок, – проговорила Вика, и пока собиралась еще что-то объяснить, руки ее сами перевернули рисунок и подняли его над всеми.
Так замолкает публика в театре, когда заканчивается гениальное действо. Набрав в грудь воздуха, французы – и только теперь Вика заметила своих знакомых – взорвались криками, показавшимися сперва Вике слишком буйными, чтобы быть криками одобрения, но французы, выбрасывая вверх свои кулаки и морщась от восторга кричали "Браво, мадемуазель! Браво! Белле!" Этот переполох обратил на себя внимание и девушек и они стали заглядывать в рисунок и искать глазами того, кто был нарисован.
– Это же вон тот парень, впереди стоит! – не смущаясь, громко обсуждали они, – В рубашке, длинный.
Жак наконец-то преодолел сильный спазм в носу и глазах, провел всей ладонью по губам и вцепился в колючую проволоку, сотрясая ее, натягивая на себя:
– Их либе дих! – крикнул он ей, и все кругом замерли, как по мановению волшебства. Жак повторил по-фламандски, – Я люблю тебя! Не плачь! Почему ты плачешь, родная девочка? Вытри слезы! Мы будем вместе, сколько бы страданий не пришлось пройти и пережить! Поэтому не плачь сейчас, я не могу видеть твои слезы!
Вика плакала и смеялась, она старалась улыбаться и задыхалась рыданиями, не умея себя сдержать.
– Ты моя награда, ты моя отрада и счастье мое! – шептала она, – Я не плачу, я не буду плакать, я люблю тебя, жизнь моя!
Они не видели, как по лицам женщин текли слезы восторга и преклонения перед великим чудом любви, побеждающим все мытарства и все зло, срывающим оковы и возвышающимся над любыми, воздвигаемыми фашизмом стенами. Французы и бельгийцы, Лион и Мишель, кучерявый Луи, не осиливший свои слезы, наблюдали этих двух влюбленных, двигали желваками и сжимали кулаки, понимая весь трагизм и все величие двух этих юных душ, объяснившихся в любви перед всем миром на языке врага.
Жак не чувствовал, как гвозди проткнули его ладони, только ночью прорезалась боль, и кровь из ран залила постель.
Да, она любила его. И это была настоящая любовь, хотя ей никто и не объяснял какие есть мерила и эталоны. Просто всем своим женским чутьем она понимала, что этот человек дан ей свыше и только он может быть с нею рядом, если вообще когда нибудь она получит свободу. И она готовилась к этому. Она уже утвердилась в мысли, что Жак – ее судьба, ее забота, ее печаль и радость, что это не просто человек, которого она хочет целовать, обнимать, просто хотя бы видеть, а это еще другая вселенная, которую ей подарили, это родной, но другой, отличный от нее человек со своею судьбой, своим характером, которого она помимо ласки и нежности должна будет одарять каждой секундой своей жизни. Она спрашивала себя, смогла бы она отдать за него жизнь, руку, ногу, принести ради него в жертву самою себя, и, прислушавшись к себе, отвечала – да, смогла бы. Она стала заботиться о нем, а он о ней, Жак выучил много немецких слов, а Вика добавила к своему немецкому еще немного французского и даже фламандского, которому так смешно учил ее Жак.
Портрет она хранила у себя под матрацем, а утром, доставала его и здоровалась с Жаком, гладила его пальчиками по щеке и улыбалась ему. Она с великой радостью проживала каждый день и не думала больше о заточении и невозможности счастья. Она была счастлива! Оставалось только терпеливо выжидать, когда фашизм сожрет сам себя, а советские и союзные войска не загасят это адское нацистское варево.
Наступил сорок пятый год. Девушкам разрешили иметь мелкие деньги, а значит и зарабатывать их, выполняя просьбы работников завода, разрешили совершать мелкие покупки, и Вика, рисуя небольшие рождественские и пасхальные открытки, получала монеты, на которые могла себе позволить купить в столовой завода хлеб.
Пасху немцы отмечали тихо. Девушек не погнали на завод, но такого веселья, как в прошлом году, не наблюдалось и в казармах. Зато веселились французы и бельгийцы, у которых, оказывается, праздник этот был очень важным, не менее уважаемым, чем Рождество. Жак пытался рассказать Вике что-то из Евангельской истории, но недостаточно знал для этого немецкий.
Кроме того, Воскресение Господне, явилось для бюргеров городка Торгау сошествием с небес целой армады самолетов, похожих с земли на небольшие черные кресты, которые ставили при отступлении немцы на могилах своих солдат. Это было неприятное зрелище, настолько неприятное, Франц Поппер, обедавший с семьей в своей городской квартире, поперхнулся пасхальным пирогом, услышав этот нарастающий небесный гул.
– Они нас поработят? – спросила дочь, выбросив в воздух пару капелек слюны из-за металлической пластины на зубах, когда самолеты пролетели, Скоро?
– Не сегодня – завтра, – буркнул штандартенфюрер, – Не суйся не в свое дело. Тем более, что это не русские, ты что, не знаешь, что там – Англия.
– Что ты собираешься делать, Франц? – обеспокоенно спросила жена, – Ты о нас подумал?
– И эта туда же? Да вам-то чего боятся? Как жили, так и... Слышал бы меня фюрер! Один такой разговор – расстрел. И я сам...
Он еще хотел сказать, что сам бы расстрелял любого солдата, услышав такие речи, но в дверь постучали.
– Штандартефюрер! Срочное сообщение!
Поппер взял бумагу и отошел в глубь холла, читая.
– Подождите меня, – обеспокоенно сказал Поппер и закрыл за водителем дверь, – Эмма, кажется, началось. Ты давай ... жди меня...
Он оглядел комнату, поцеловал дочь в маленький выпукулый лоб и ушел.
Эмма Поппер начала вытаскивать из гардероба и с антресолей давно собранные чемоданы, проговаривая себе под нос:
– Как же, сидим и ждем, когда ты о нас вспомнишь. Придут русские, им объяснять будем, что мы тут ждем папочку, который достреливает ваших цыплят в своем "Птичьем гнезде".
Франца Поппера вызвали к коменданту Торгау на совещание. Оттуда он не поехал ни в лагерь, ни домой. Вместе с другими офицерами, его назначили сопровождать документацию и боеприпасы в направлении Берлина, без права попрощаться с родными. Да он и не вспомнил о том, что у него есть родные.
В тот день они тоже побоялись подойти к воротам лагеря. Прямо перед ними, там, где заканчивался бордюрный камень, обрамляющий площадь перед административным зданием, виднелись в земле небольшие черные кружки, отсвечивающие на солнце.
Кто-то первым принес весть о том, что лагерь заминирован и девушки даже выйти из барака боялись, не то, что пойти на площадку.
Вика тоже боялась. Татьяна была одной из тех смельчаков, которые приносили им странные ни на что не похожие вести.
– Никого! Вышки пустые, в соседнем лагере – тишина, может, их увели там всех, но наши-то где?
– Кто?
– Ну, эти – Хофке, охрана на вышках, вообще – все? Фай, ты не знаешь?
Фаина не знала, как не знал никто из них, что вот уже четвертые сутки идут бои с той стороны Торгау, и не просто взрывы бухали за семью горами и семью лесами, а это самая реальная Советская армия прорывалась с боями к Эльбе, вытесяняя противника к линии второго фронта.
Четверо суток не прекращались далекие бомбежки, взрывы и близкие трели автоматов. Казалось, что где-то на ферме Ротвиль идет перестрелка, но высыпать на территорию лагеря и сунуться под перекрестный огонь никому не приходило в голову. Они не знали куда идти и как это делать без команды! Они просыпались в пять часов утра и умывались, потом кто-то шел в столовую, а кто-то и того боялся делать, подавленно всматриваясь в лесные заросли за оградой: им казалось, что кто-то смотрит оттуда на них исследовательским ненавидящим взглядом, ждет, когда они совершат свою первую ошибку, чтобы растерзать их, придумав им самое жестокое наказание, самую жестокую смерть.
Потом они сидели на нарах и молча слушали ухание орудий, лай минометов и рев танков. Иногда наступала тишина, и девушки прислушивались, не возвращаются ли их хозяева.
Марта Ауфенштарг отправила ночную сиделку из комнаты и та не знала, куда ей податься. Молоденькая девушка не поняла, как надолго ей разрешено отлучится, но переспрашивать не решилась: у фрау Марты был вид умалишенной.
Как только сиделка вышла, ребенок сморщил личико и заскрипел: совершенно осознанная обида читалась на этом крохотном личике.
– Что ты? Что ты плачешь? – говорила Марта, – Тебе-то что плакать? Пойдем к папе, он отхлопает тебя по попке!
Марта наклонилась к детской кроватке и подняла младенца вместе с пеленками, одеялом и простынкой.
– Пойдем, папа нас зовет к себе.
Марта прошла по пустому вестибюлю – никого уже не было в хозяйской части дома – заскрипели ступеньки наверх под ее ногами.
– Осторожненько, – говорила она сама себе, оступаясь и путаясь в свисавшей детской простынке.
Сиделка, которую наняли караулить детей по ночам, слышала из кухни, как Марта попросила у мужа разрешения войти в его кабинет.
Молодой Герберт Ауфенштарг, увидев жену, бросился расставлять стулья и узкую, обитую кожей, скамейку, согнав с нее троих детей. Страший – Клаус был уже взрослым мальчиком, ему иполнилось шесть лет. Он бросился помогать отцу. Марта внесла ребенка и положила на диван, рядом с думкой. Потом она оглянулась на то, что там делает Герберт, и, взяв думку в руки, села на то место, где она лежала, едва не придавив голову младенца. Холодно отодвинув сына от себя, она отогнала младшую девочку от дивана и снова стала вертеть в руке думочку, пока муж не повелел детям сесть на скамью.
– Зачем все это? – спросил Клаус, тряхнув соломенной челкой.
– Мы с мамой уезжаем, нам надо с вами проститься. Завтра мы уже не увидимся. Ты отпустила слуг?
– Еще вечером, сразу после ужина.
– А мы? – перебил Клаус.
– А вам надлежит... – он не смог продолжить фразу.
– Зачем все это, – повторила Марта вопрос сына.
Герберт взорвался криком, впервые в жизни:
– Ты думаешь я знаю, что надо делать, когда... когда... уезжаешь?
Младенец заорал немощным, визгливым криком, открывая рот и выворачивая свои тонюсенькие слюнявые губки.
Герберт поцеловал детей и сам повел их в спальни, распологавшиеся в правом крыле второго этажа.
Марта осталась в кабинете, оцепенелая после вопля мужа. Все звенело в ушах ее, она держала в коготках думочку, словно прикрываясь ею от чего-то, потом медленно, не глядя, положила ее рядом с собой, и крик младенца захлебнулся.
Воля Господа
Так прошло трое суток.
Однажды в середине дня они услышали шум подъезжающей машины. К воротам лагеря подъехал большой черный "Студебеккер", и Татьяна, заметившая его первой, ворвалась в барак с криком: "Вернулись".
Девушки не сдвинулись с места. Они приплавились к своим нарам и ужас расправы охватил их.
– Одна газовая атака, и хлопот с нами уже никаких!
Так говорили те, кто постарше.
В это время капитан Володя Ильин, бритый под колено, в веселенькой пилоточке, выпрыгнул из машины, придерживая пилотку, прочитал по слогам надпись над воротами и крикнул водителю:
– Шурик! А тут люди! Вона-вона побежала за угол. Видал?
– Че-й тут не так, а товарищ капитан? Можа, не нада без наших?
– Слушай мою комнаду, Санек! – уже предвкушая великую миссию, залихватски взвился капитан Ильин, – Долбани-ка, брат, прикладом по замочку, а потом можно и гранаткой. Имеется? Пока наши догонят, мы народ к их встрече подготовим. Если, конечно, то не призрак из-за дома выглядывает.
– Вы верите в призраков, товарищ капитан? – просил долговязый Санек, прилаживая гранату к замку.
– Сейчас и ты поверишь, парень, – почему-то посеръезнев, ответил Ильин.
После того, как облачко пыли убежало внутрь лагеря, капитан первым перебрался на территорию через висящие на волоске ворота, и откинув мыском плоскую консервную банку, оказавшуюся даже не вскрытой, пошли по площади к корпусам. Из-за леса показался грузовик из роты Ильина.
Капитан постучал в стену барака, пока обходил его, Вика услышала стук и с испугу слетела с полки.
– Эй, есть кто живой? – проговорили за стенкой, – Выходи, девчата! Победа!
– По-русски, – прошептала Вика и побежала по проходу к выходу, По-русски! – закричала она грудным разрывающим связки голосом, в котором было сколько радости, столько и пережитого горя.
Ильин не успел дойти до входа в барак, как тот загудел, как улей, и взорвался женским воплем. Двери распахнулись, и словно пчелки, вылетели из них темною, тяжелою тучей дувушки и бросились к нему. Ильину не пришлось отмахиваться: его взяли на руки и понесли по лагерю.
– Ну, девки, ну, вы даете! – только и ухал он, проплывая по лагерю, видя, как за ним несут Санька, а по площади уже бегут его ребята из роты.
Вскоре подъехали командиры Ильина и другой грузовичок и пара автомобилей союзников. Но начальникам командовать парадом не пришлось, вида оружия эти люди не выдержали бы. Ликование худых, истощенных, слабых людей было такой силы, что организовывать хоть какой-то порядок и было бы самым настоящим безобразием.
Лагерь постепенно заполнился людьми, и Вика впервые увидела, сколько их, что они могут заполонить всю его территорию, все его закоулки. Она забежала в барак и, прихватив котомку, выбежала обратно. Она понеслась к воротам и никто не посмел остановить ее. Только крикнули в догонку:
– Куда вы, женщина, мы все тут...
– Вернется, ошалела, – добавил кто-то, – Не ходи за ней.
Вика обернулась и вдруг побежала к солдатам. Со стороны могло показаться, что она хаотично мечется по площади, не зная, куда податься.
– Миленькие, миленькие, там еще один лагерь, миленькие, не доехали, их тоже надо... Пойдемте со мной, миленькие!
Солдаты подхватились и побежали за Викой, в то время когда часть женщин тоже вспомнила о своих любимых и друзьях из лагеря арбайтеров, и мощной лавиной бросилась за солдатами.
В воздух поднялась густая пыль, словно площадь лагеря не была асфальтирована.
Французские и бельгийские парни уже пытались сорвать ломом засовы и замки с нескольких ворот, другие лопатами старались разодрать колючую проволоку.
– А ну, в сторонку, товарищи французы, – сориентировался чубатый крепкий паренек, – Сейчас мы ее...
В воздух поднялись клубы пыли, топот надвигался со всех сторон. Вику захлестнул и смял водоворот женского и мужского крика, плача, смеха, визгов и воскликов. Они звали друг друга, выкликали друг друга по именам, наконец-то немного расступились и начали находить свои пары, обнявшись, замирали и начинали снова, но тихо, говорить друг другу поздравления, глотая слезы. И вдруг она услышала свист: это была Пятая симфония Бетховена. И люди умолкли вокруг. Даже солдаты удивленно завертелись на месте, ища причину тишины. Вика шла на эту мелодию, и все расступались перед ней.
Она увидела его, по-бабьи протянула к нему руки и зашлась одним содрогающим тело выдохом, уже не видя его лица из-за стоящей в глазницах сверкающей радугой влаги.
– Зачем плачешь? – спросил он по-немецки.
– Радуюсь, – еле-еле вымолвила она.
– Смеяться надо, если радуешься, Виктория! Виктория моя! – не сдержавшись крикнул он в небо, и вдруг множество голосов за его спиной сначала тихо, а потом все громче и яростнее заорали во всю силу своих связок:
– Вива, Виктория! Вива, Виктория! Вива, Виктория!
А он осыпал ее лицо тысячами поцелуев, как это ей грезилось два года подряд в ее девичьих снах, и она теперь чувствовала не ту сжигающую нутро страсть, а мгновенно наступившее умиротворение от того, что ее возлюбленный оказался – былью!
– Я никому тебя не отдам! – шептала она в изнеможении и целовала его ладони.
Кто-то тихим голосом окликнул ее:
– Мадемуазель, – Луи и Лион стояли за ее спиной и, лучезарно улыбаясь , плакали невидимыми сухими слезами.
– Бонжур, мадемуазель! Мерси, мадемуазель! – Луи еще что-то сказал, и Вика, не поняв ничего, положила руку на его плечо.
– Мерси? За что мерси?
– Он говорит, – попытался объяснить Жак, – что ты дала им силы выжить!
– Я? – Вика расстерялась, а потом обвела их взглядом и полезла в котомку, – Вот, это вам.
Она отдала Луи маленький портрет Вали Каталенко, а Лиону – портрет Лены Красавиной. Они долго стояли молча, в– четвером, уткнувшись лбами друг в друга и больше ничего не могли говорить.
Прошло еще несколько часов, прежде чем люди стали задумываться, что им делать дальше. Они наконец-то осознали, что неволя позади, но еще боялись потерять свободу. Поэтому самым надежным всем казалось оставаться на месте, но уже с этой, внешней, стороны колючей проволоки. В кустах неподалеку солдаты развернули походную кухню. Сладкий дымок струился из короткой изогнутой трубы. Все желающие были накормлены и вставали в очередь по третьему кругу. Сами солдаты из роты Ильина прилегли в теньке, ожидая приказаний.
Начальство ушло на территорию лагеря. В административном корпусе, в кабинете полковника Поппера русские и шустро подоспевшие американские освободители решали, как загнать людей обратно в казармы и организовать хотя бы перепись, а потом проверку и департацию домой. Американский майор стучал себя в грудь кулаком, пытаясь втолковать русскому майору, что европейскими рабочими будет заниматься он, а русский майор, краснея от напряжения, кричал, что он сам справится с русскими женщинами. Словом, взаимопонимание было полное.
Ильин сидел в углу кабинета, сложив руки на груди, прижав подбородок к ключицам. Не нравилось ему все это. Он и подумать не мог, как можно теперь предложить освобожденным девушкам вернуться в лагерь, а ведь перепись продлится еще несколько дней, а то и недель. Народу-то – море. Он поискал сигареты, хлопая себя по карманам гимнастерки. Это заметил майор Буряк и сердито буркнул:
– Курить – на улицу.
Ильин вышел на плац и жадно закурил, он знал, что Буряк не переносит сигаретного дыма и прикажет ему выйти.
Ильин направился к своим, озираясь по сторонам, всматриваясь в лица людей, удивляясь, откуда это взялось столько парочек.
– Что нам делать, миленький? – спросила Вика, подойдя к тому великолепному солдату, которого она увидела первым, выбежав из барака. Теперь она стоял со своим отрядом под деревьями, покуривая, да дивясь, почему эти русские девчонки виснут на шеях иностранных парней, словно они супруги, долгое время бывшие в разлуке.
– Ох, ты какая! – состроил Ильин добрую задорную рожицу, – Свобода, войне конец. Правда, разбредаться не стоит, всякие недобитки еще по лесам да фермам шляются. Этот твой хлопчик?
– Мой.
– Вот и бери того хлопчика и прямиком в город, оттуда на поезд и домой. Но сперва бумаги все справь. Для этого нужно подождать немного здесь, начальство разберется, выдаст справки. Вот так вот, моя хорошая.
"Разберется? В чем разберется начальство и как можно ждать – здесь?!"
Они шли жиденькой, растянувшейся на километр вереницей. Парни-французы, девушки со своими спутниками. Впереди Якоба и Вероники шла Татьяна-московская в обнимку с низеньким плотным мужчиной в клетчатой застиранной рубашке.
– А ты как думала? Одной тебе счастье? – оглянувшись, ни с того ни с сего произнесла она, – Мы уже пожениться решили, это мой Петя.
– Питер, – представился и мужчина, услышав свое имя.
Они шли по дороге к городу, обгоняемые грузовиками и автомобилями, и им было не страшно даже без документов, которых они не стали дожидаться. Впереди справа блестела река, ровная, спокойная, узкая, а Жак показывал на мост, идущий к замку, что краснел черепичной крышей вдали, на той стороне, и говорил, что они идут туда. Вике было спокойно и уютно под его сильной рукой, лежащей на ее плече.
– Слышали? – снова обернулась Татьяна, – Наши на заводы ездили.
– Да что ты? Взорвались?
– Заводы целы, только все тамошние начальники кончили самоубийством. Мне капитан рассказывал, они домой поехали к одному, к другому, к третьему дела-то принимать надо – а они все мертвые и дети их мертвые, и жены, и собаки их тоже мертвые с кошками. А этому говорю, ни бум-бум. Как я буду французский учить?
Вика перевела на немецкий язык слова Татьяны, а потом потихонечку замедлила шаг, чтобы отстать от нее. Ей хотелось, чтобы Жак строил свои представления о русских женщинах только в общении с ней.
Они подходили к мосту. Мост был железобетонный, с высокими перекрестиями балок и гранитными бордюрами. В начале его стояли двое русских солдат, они балагурили с Татьяной, та им что-то упорно доказывала. В это время мимо поста спокойно проходили другие люди, Вика уловила краем уха, проходя за спиной Тани, слова солдата:
– Ну, вот видите, он говорит, что вас не знает.
Солдат посмотрел через плечо Татьяны на Вику и ничего не сказал.
Они шли по мосту через зеленовато-голубую Эльбу, приближались к блок-посту американцев, и Вика не думала о том, в какой стороне была ее родина. Ее родина, ее дом, ее счастье было здесь с ней, Жак вышагивал по этому сверхпрочному мосту, и обоим им казалось, что последние испытания они пройдут, сойдя с этого моста на берег, бесконечный и счастливый.
– Hello, boys, where do you came from, who are you? (Привет, малыш, откуда ты, кто?)
Это приветливо звучало по-английски, Вика поняла смысл вопроса.
Большой капрал в светло-зеленой каске, с мощной челюстью и огромными руками попросил их остановиться. Впрочем, он останавливал и предыдущие пары. Вика и не думала, скрывать, кто она и почему идет на запад. Но Жак сильно сжал ее локоть, и она промолчала.
– Мы бельгийцы. Были в лагере. Сейчас идем домой. Нам нужно в Анверпен, – объяснил он по-английски.
Американец улыбнулся квадратной челюстью и показал пальцем на Вику:
– She can speak? ( Она может говорить?)
– Ноу, – поспешил ответил Жак и сделал грустное лицо.
– Что ты ему сказал? – спросила Вика.
Грустное лицо пришлось сменить на гримассу разоблаченного лгунишки:
– Я ему сказал, что ты немая, – ответил Жак на ломанном немецком.
Вика так искренне засмеялась, что и капрал загрохотал до кашля, вытер глаза и показал вперед:
– Come, please. My boy, I old solder and I know that she – russian girls. ( Проходите, пожалуйста. Мой мальчик, я старый солдат и я знаю, что она русская).
Жак переменился в лице и загородил Вику.
– Don't be afraid, – капрал покачал головой, а потом показал на свои глаза, – I look – she like you! Go on! And – be happy! ( Не беспокойся, я вижу – она нравится тебе. Идите! И будьте счастливы!)
* ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ *
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: "Изменник он! Родину предал",
Не верь...
Муса Джалиль
Подвиг возвращения
( семьдесят четвертый год, Россия)
Видеть хоть дым, от родных берегов вдалеке восходящий
Гомер
– Так, женщина, у вас за постель "уплочено"? – в плоский проем купейной двери просунулась голова немолодой полной проводницы с огромным пучком на самом верху головы, на самой маковке, и проводница сама себе ответила, Ага. Уплочено. Кипяток вскипит, я вас покличу.
– Спасибо. Скажите, а когда Отрадокубанская?
– Скажу, все скажу, пока рано беспокоиться, – кивнула "двойная голова" и закрыла дверь.
– Вам Отрадокубанскую?
Напротив сидел пожилой мужчина с коричневой бородкой, верхние полки в это время года пустовали. Мужчина был похож на сушеный гриб, но глаза его горели светлой-светлой лазурью, от чего казалось, что старик – заколдованный молодец.
– Где-нибудь после Кантемировки подвалит народец, а потом всю ночь от Шахты до Ростова и там Тихорецк, Кропотный – не протолкнешься, – сказал мужчина, перехватив взгляд попутчицы, – шахтеры, железнодорожники, вот увидите.
– Я брала билет с трудом, – распевно произнесла женщина, – Никто в Москве в кассах не знал такую станцию. А сама – забыла.
– Я, выходит, с вами в один пункт еду. Вы не местная?
Она не знала, к чему относится вопрос собеседника, к Отрадокубанской или вообще к СССР. Акцент ее был едва ли заметен.
– Нет, но... – женщина загадочно покачала крупными кудряшками.
На вид ей было лет сорок, она была хоть и крупная, но не полная, а статная, и просматривалась в ней внутренняя решимость и твердость, и удивительно было, на что ей эта решимость, когда обстоятельств к тому нет особенных.
– Далеко ли там-то?
– Станица Темиргоевская, – ответила она.
Голос был у нее тягучий, очень высокий и звонкий, таким голосом хорошо казацкие песни петь.
– А вы не волнуйтесь, ложитеся спать, нам еще две сутки ехать. А точнее будет – ровно одну. Я-то сам раньше в Темиргоевской жил, до войны. Потом в райцентр перебрался.
Женщина рассмеялась забавным словам старичка, стала прибирать предметы на столике. Старик вышел в коридор, деловито похлопывая себя по опухшим карманам штанов в поисках папирос.
После возвращения из Бельгии Стас снова стал ухаживать за Неллей, как в первые месяцы их знакомства. Нелли жила у подруги, и Азарову приходилось сторожить ее то у подъезда дома, то у дверей "Шаболовки", где она работала редактором программ.
Нелли поняла, что перед ней совершенно другой человек, когда Стас повел ее в зоопарк. Эту искренность нельзя было подделать. Она увидела его маленьким мальчиком, подростком, парнем, молодым мужчиной, студентом журфака – это все был он, чужой и самый родной на этом свете.
И тогда она сказала себе: зачем ссориться с человеком, если без него ты не можешь прожить и дня. Бессмыслица какая-то.
В том же году она ушла в декрет, а под Крещенские морозы родила девочку, которую назвали Виктория. Стас настоял. Он все уши ей прожужжал про свою командировку в Бельгию, и Нелли понимала, что она обязана своим семейным счастьем неизвестной далекой художнице с необыкновенной судьбой и немножечко ревновала, даже не ревновала, а завидовала такому сильному потоку света, который шел от этой личности и достигал ее мужа даже здесь, в Москве.
Нелли даже вспыхнула, когда поняла, кто звонит. Голос у Виктории был звонкий, чрезвычайно оживленный, веселый, Нелли показалось, что Виктория пытается доказать свое превосходство даже этим тоном.
Но Виктория всего лишь была благожелательна. Она радовалась, что в квартире Азарова – женщина, что она слышит русскую речь, что она едет в Москву!
– Нет, слушайте, – говорил Азаров бегая по перрону Курского вокзала, так же нельзя. Оправляем человека неизвестно куда. Без провожатых... Надо же спросить хотя бы...
И он спрашивал у всех проводников, которые курили на низком перроне, дойдет ли поезд до Отрадокубанской, и , между прочим, некоторые о такой станции не слышали.
Виктории Васильевне и самой было страшновато. Она не боялась уезжать на этом поезде и даже не боялась самого поезда и вокзала, что вообще-то было ей свойственно, но она переживала, что, если потеряется и заедет не туда, то не уложится в сроки визы. В остальном она была спокойна.
Сколько стоило труда доказать радушным москвичам свою самостоятельность. Право на самостоятельность. Когда она приехала в Москву, ее окружили таким вниманием, что был риск не увидеть Москву вовсе, не услышать биения сердца столицы, ее дыхания: мероприятия были расписаны, пешком ей ходить не давали, у подъезда всегда стояла Ильинская "Волга", в номере ее постоянно присутствовали люди – журналисты, телевизионщики, Азаров, Ильин.
У Ильина было знакомое лицо. Его можно было принять за давно потерянного родственника. Впрочем, все люди, молодые, стремительные, рассудительные, как математики, казались ей родственниками, может быть даже братьями.
Но вскоре она поняла, что чего-то не хватает. Она захотела остановить эту гонку, эту шумную мелькающую в глазах карусель, проснуться, прислушаться. Как это сделать, не обидив друзей, она не знала. Но душа ее так рвалась на простор, что в одно прекрасное утро она просто сбежала. До вечера гуляла она по Москве. И лишь часам к шести, когда улица Горького была уже залита розовым светом заката, а внизу в дымке пылали купола Ивана Великого, она представила, какой переполох наверное сейчас в гостинице.
Зато она купила билет на родину.
Еще вчера она хитростью дозналась, с какого вокзала едут поезда на Кубань. Чувство близости к матери и отцу, сама возможность доехать до них за двое суток на поезде, не давала ей покоя. Виктория не хотела, чтобы билет на родину ей принес гостиничный клерк или пусть даже ее закадычный друг Стасик Азаров, она не могла допустить такого кощунства. Первым делом, выйдя утром из гостиницы, она направилась в метро и вышла на Курском.
Перед окошком кассы Виктория вдруг начала сомневаться.
– Мне нужен билет до Темигроевской, – так и сказала в стеклянную перегородку с дырочками.
– Говорите в микрофон, – ответили из кабины.
Виктория повторила. Кассирша долго думала советовалась с соседками и смотрела по бумагам:
– Нет такой станции.
– Тогда до Отрадокубанской. Я путаю.
– Идите в "Справку", а потом голову мне морочьте, – предложила кассирша.
Виктория оглянулась на очередь. "Как это мило".
В "Справке" Виктория тоже ничего не добилась, ее спрашивали, какие города рядом, но она не могла ответить. Разозлилась Виктория, пошла в буфет, выпила "Нарзану". Потом вернулась в кассовый зал, стала пробовать счастья во всех окошках подряд, благо очереди были небольшие.
В семнадцатом окошке молоденькая кассирша выдала-таки ей билет на поезд Москва-Армавир, который по ее, кассирши, подозрению должен был остановиться и в Отрадокубанской.
И лишь сейчас, на перроне, ее начало беспокоить, что вокзальная кассирша могла выдать билет совсем не на ту станцию, не в том направлении, и она тоже уточнила у проводницы своего вагона, которая наконец-то выползла в тамбур и открыла дверь над перроном, не спуская верхнюю загородку:
– Скажите, по крайней мере, этот поезд едет в Краснодарский край?
– Рано еще заходить, дамочка, – откликнулась проводница, впрочем весьма ласково.
Так они и простояли минут двадцать тесной группкой: Виктория, Азаров, Ильин и Нелли.
– Викочка, милая моя, как мы тебя отпускаем, я себя ругаю, – бормотал Ильин, – теперь, когда я встретил вас, я за вас отвечаю. Это тогда в Германии – главное было – выжить, потом главное было – свобода. Теперь главное – держаться друг за друга.