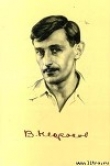Текст книги "Виктория"
Автор книги: Ромен Звягельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Мать звала ее в дом, но та сидела на земле и наблюдала.
Темнело в октябре рано, но где-то над устьем реки зажигалась в ясном ночном небе огромная желтая дыра, словно выход из тоннеля. Луна отражалась в речке, освещала горные склоны и они сияли своими синими макушками.
Больше не бомбили округу. С сущности ничего в мире не изменилось, только поселок стал чужим. Советская власть была устранена, а Советская власть была сама жизнь, олицетворяла родину. Люди остались советскими, в сердцах у них горела коммунистическая правда бытия, надежды на светлую свободную жизнь у них еще не остыли, а там, за пределами их понимания, уже был иной строй, и имя ему было – рабство. За один день хозяева поменялись в ее родном доме. Она смотрела на дерево на той стороне дороги, на колодец в кустах, на скамейку возле него и понимала, что теперь даже до них добежать ей страшно – кто-то другой распоряжается ее волей и ее свободой.
Среди ночи, когда все улеглось, все стихло, как и не было вторжения немцев, она все еще таращила глаза в окошко, выходящее во двор. Ей казалось, что кто-то ходит по дороге, скрипит калиткой, пробирается в их сад, чтобы лишить их жизни.
После ухода Вани ширму собрали и Вика теперь ночевала одна в огромной темной комнате, холодной и бездонной. Постель казалась сегодня особенно зябкой, обдавала ознобом. Бабушка лежала в закутке у занавески, отделяющей кухню, мама в комнатке, вход в которую отец соорудил прямо в предбанник, другая дверь от матери выводила в тот закуток, где спала Матрена. Она тонко назойливо похрапывала в темноте, но Вике казалось, что она спит не здесь, не в этом измерении, а где-то за дверью, и случись что, никто ее не спасет.
Тяжкий сон навалился на Вику, она проваливалась все глубже и глубже, когда вдруг кто-то ударил ее и разбудил. Она вскочила от перебоя в собственном сердце, оно вырывалось. Но кругом сояла тишина. Вика захлопнула ушные раковины, тишина давила, мучила, испытывала ее. В дверь снова постучали. Вика широко распахнула ресницы, уставясь в одну точку прислушивалась. В горле пересохло.
Елизавета Степановна пошла открывать. У самой поджилки тряслись:
– Кто там?
– Откройте, – попросили за дверью с примесью вопроса в тоне, – Полиция.
Вике почему-то стало все безразлично при слове полиция. Она уже вставала, зажигала лампу на своей тумбе у окна.
Матрена Захаровна все также мирно похрапывала в укрытии. Теперь Вике не было страшно. Она слышала, как мать открывает запор, как в сени входят несколько человек, как открывается дверь в комнату и они входят. Молодой солдат несет в руках ковш с водой, их ковш, на ходу жадно глотает воду, дергая кадыком и посматривая на нее, Вику.
" Вот и смерть моя пришла. И на что я им сдалась?!"
Она сказала себе, что раз так суждено, значит, тому и быть, и только ругала себя за то, что не смогла устроить этим скотам какой-нибудь заварухи, как-нибудь отомстить за себя, за свою несчастную страну, за отца и брата, может быть раненных, может быть, проливающих кровь в борьбе с фашистскими варварами.
– Нашли все-таки, – прошептала она сама себе, – Если бы не мама, далась бы я вам.
Ей показалось, что в комнату залетела стая ворон: а их всего-то было двое. Немцы были в черных плащах, с эмблемами и нашивками, их было двое. Один помладше, лет тридцати, другой за сорок, младший внес в комнату вещи. В сторонке стоял скособочившийся мужик из местных, в домашних штеблетах, в домашних брюках и длинном полосатом сюртуке. Вид у него был диковинный, он улыбался немцам и заискивал перед Елизаветой Степановной, чтобы ни дай Бог, та не устроила сцену. Вика узнала его, это был возница, хозяин телеги, привезший Сориных с вокзала, когда они прибыли в Ходжок.
Тот немец, что постарше, белобрысый, лысеющий, с ровным приятным лицом, оглядел помещение и удрученно покачал головой.
– Ну, как вам? – спохватился мужичок, – Убогость, конечно. Но леса кругом навалом, можно трошки подмастерить.
Вика вспомнила, что старик тоже самое говорил и ее отцу, и ей стало обидно. Кулаки сами собой сжались. "Вот же ж гад! Нашел куда привести, нашел чей дом осквернять! Да чтоб ты с горы упал на колья!"
Немцы переглянулись, младший пошел ставить чемодан на стол. Они совершенно не обращали внимание на хозяек. Мужичок неожиданно подхватился и подбежал к Викиной кровати. Он закатал всю ее едва прикрытую постель в матрац и поднял его в воздух.
– Найн матрац, – скрипнул белобрысый, – найн.
Тогда мужик снова раскатал матрац и принялся снимать с него простыню и наволочку с подушки. Вика подскочила к нему – там – под подушкой лежала ее красная косынка. После минутной борьбы, мужик понял так, что Вике стыдно, что он копается в ее белье, и он отступил.
Вика обегченно вздохнула забежав в комнату матери с кулем своего постельного белья.
Немцы по-прежнему не обращали внимания на Елизавету Степановну, а суетливый маленький старик-возница все подпирал ее локтем к выходу, приговаривая:
– Шла ба ты, баба, утро вечера мудренее.
Елизавета Степавновна, еле сдерживая приливы злобы, ненависти, ожесточения, уходить не хотела, выжидательно смотрела за немцами, но вдруг старик шепнул ей:
– Мужик-то где? В Красной армии? А сынок-комсомолия?
Елизавета Степановна отпрянула от него, как от чумового, обратилась было к немцам, что, мол, могли бы с хозяйкой и словом обмолвиться, но немцы лишь перевели с нее взгляд на мужика и жестом показали ему, чтобы тот убрал женщину восвояси.
– У тебя есть каморка, вот и ступай, – еще пуще зашептал тот, – Иди, слышь! А то щас силой уведу, вона братва за дверью дожидается.
Елизавета не поверила, но тут в комнату вернулась Вика, и Еслизавета Степановна перехватила взгляды немцев: они заулыбались.
Она хотела было вывести дочь и уйти вместе с нею к себе, но сзади окликнули ее:
– Матка, хенде хох.
Она замерла, оглянулась. Молодой немец, ухмыляясь, показывал в сторону Матрениной лавки.
– Убирайтся, – проговорил он, обнажая большие красивые зубы, Митнехмен хин дьес алт (Возьмите с собой туда свою старуху). арбейтерин гут?
– По дому будешь помогать: что приготовить, постирать, – вмешался старик, которому, очевидно, было не впервой устраивать немцев на квартиры и объяснять хозяйкам, что теперь их жизнь висит на волоске, – тогда можешь жить, а не то на улицу выбросят, а то и того. У них с энтим сторого. Перемелють в муку!
– Нетт фроляйн, – донеслось до уха Елизаветы Степановны, она быстро глянув на немцев, пронеслась мимо Вики, ухватив ее за руку, выдернула ее из комнаты и затащила в свою спальню.
– Ты что вылупилась на них? – в сердцах закричала она, – Ты что не видишь, как они зыркают, али тебе нравится? Так иди – улыбься им!
Она еще что-то кричала, плакала, охала, как ночная сова, пока Вика не протянула к ней ладони, Елизавета Степановна припала к ее груди и закатилась: из них обоих выходил через слезы панический ужас. Опасность временно миновала.
Вика встала и разложила свои тряпочки на боковой скамье. Пока она переставляла ее поудобнее, отодвигая комод, в комнате тоже ворочали что-то, грузно охая и крякая.
Когда через полчаса в их дверь поскреблись, они уже тихо сидели на кровати, с распухшими лицами, но готовые жить дальше, выживать, что бы это им ни стоило.
Cтарик просунул коротко стриженую голову в дверь и быстро украдкой прошептал:
– Бабку-то забирет кто вконец? – и исчез.
Елизавету Степановну обдало жаром: забыла она про мать.
Она бросилась в сенцы, распахнула дверь в комнату. Немцы, покатываясь со смеха, водили Матрену Захаровну за руку вокруг стола, похлопывая то по груди, то по плоским, вдавленным ягодицам, дотрагивались до нее, чтобы она поворчаливалась и шла в другом направлении. Она ходила по комнате вытянув руки вперед, открыв рот и мутные свои глазницы, в мятой простой рубахе без рукавов, босая, простоволосая. Вид ее был страшен. Она явно была не в себе, изнемогая, она пыталась присесть, нащупывала табуретку, но немцы с грохотом отодвигали ее. Оба они были уже распакованные, в одних рубахах и штанах на подтяжках. Волосы их были неубраны, по всему было видно, что забавляются они уже нехотя – присытившись. Немцы передавали друг другу ее легкую руку, она цеплялась пальцами за их пальцы, и, как показалось Елизавете Степановне, не понимала, что с ней происходит, где она и кто это вокруг нее прикасается к ее измученному телу и беззвучно заходится в петушином, омерзительном смехе.
– Мама! – крикнула она утробным, разрывающим гортань, криком, Матынька! Что они с вами сделали?!
Ей почудилось самое страшное.
Она бросилась, растолкала немцев и, обхватив обессилевшую, шатающуюся старуху, повела ее к себе.
– Что они с нею сделали? – бросилась она в сенцах на старика, но тот, ни слова не говоря, выскользнул во двор.
Вика помогла матери уложить безмолвную Матрену Захаровну в кровать, пригладила ее волосы, Елизавета Степановна села на лавку и завыла в красный дочерин платок.
Матрена то и дело сглатывала слезы и металась, Вике приходилось удерживать ее за плечи, накрывать, целовать и шептать ей безнадежные, бесполезные утешения.
– У-у! А-а-а! – гудела Матрена.
До рассвета оставалось немного времени. Немцы за стенкой все ходили: то ли разбирали вещи, то ли искали еду, то ли совесть не давала им покоя.
– Я не буду здесь жить, мама, пойми. Ну, неужели нельзя просто уйти, в лес, в горы, в другое место, к нашим. Что скажет отец, брат? Зачем мы остались? Давай уйдем! – шептала Вика матери.
– Уйдем? Давай, – зло отвечала Елизавета Степановна, – а бабку ты на себе в горы потащишь? А вещи? А что ты в горах тех кушать станешь?
– Нет-нет, мама, мы пойдем дальше, не везде же они, не везде. Да, хоть бы в Африку! А Москва? Москву-то отбили еще той зимой, слышала, а теперь и по всей Волге бои. И наши наступают. Так неужели ж мы будем тут им подштанники стирать? Это же предательство!
– Ну-ну! – прикрикнула мать, и шепотом продолжила, – Куда я побегу? Кто меня пропустит? Кто тебя пропустит? Нет, и куда бабку, я спрашиваю. Вот ты, молодость бестолковая, наши скоро будут здесь, а ты убегать собралась. А кто же здесь останется, на нашей-то землице? в наших-то родных домах? Нет уж, нехай приживалами живут, пусть похлебку мою хлебают, да пусть она у них все кишки пообжигает! А я со своей земли никуда не уйду! Посмотрим: кто кого!
Вика, все еще в душе протестуя против вероломства чужих незнакомых мужчин, захвативших не только ее страну, но и ее дом, ее комнату, ее кровать и кровать ее брата, ее стол на котором она делала уроки, читала "Тамань" и "Я помню чудное мгновенье", писала сочинение на тему: "Советский народ строитель коммунизма", рисовала отца, Ваню, маму, праздновала первомай и октярьскую революцию, долго не могла уснуть, то и дело начинала рыдать беззвучно, но останавливалась, затихала, боясь разбудить Матрену, растянулась для сна только под утро со слипающимися глазами, придвинулась к Матрене Захаровне и уткнулась носом ей в спину. Матрена Захаровна спала, не слышно было даже ее дыхания, уставшее от жизни тело, как каменное лежало у окна.
Через несколько минут, почувствовав морозное дыхание смерти, идущее от спины бабушки, Вика открыла глаза, отодвинулась, скатилась на пол, отползла по половице к лавке матери и стала трясти ее, ударяясь затылком в ее бедро.
– Мама, мама! Она умерла!
Она выскользнула незаметно в окно, для этого ей пришлось перебираться через тело бабушки. Елизавета Степановна, оглаживала лицо матери ладонями и качалась над ним в забытьи.
Вика побежала вверх по саду, перелезла через ограждение, пошла, осматриваясь вправо, под гору, вышла к заднему входу в магазин. Улицы были пусты, кругом, как серая мука, лежала ласковая холодная пыль, дорога была взрыхлена гусеницами танка. Она долго не могла решиться перебежать площадь. Наконец, изучив все окрестные кусты и углы, окна дома, что стоял в глубине, на той стороне площади, она вышла из-за магазина и, обогнув площадь по окружности, под старыми потрескавшимися тополями пробралась на ту сторону, откуда спускалась лестница вниз, на другой ярус, там, на улице Радио жил большой добрый человек Павел Павлович. Он облегчит похороны, он придумает что-нибудь, да и Марк Семенович поможет проводить Матрену достойно.
Она спустилась на живописную, похожую на своды храма, природную площадку, высокие деревья шумно раскачивали кронами на головокружительной высоте. Вика запрокинула голову и вдруг подумала, что Матрена уже никогда не увидит этой красоты, никогда не услышит этой золотой листвы, никогда уже не обретет счастья присутствия на этой земле.
Это и есть горе – когда всем своим существом ощущаешь невозможность счастья для себя или для другого человека.
Она решила не рисковать и зайти к дому Каменских с огорода. Как такового огорода Софья Евгеньевна не держала, но сейчас весь участочек ее бал заполнен астрами и хризантемами.
Она подобрала ветку и постучала в окно Аси. Через некоторое время в окне показался Павел Павлович, и это удивило Вику. Она подсунула руки подмышки, только теперь ощутив утреннюю пробирающую свежесть, пошла к веранде, но услышала, как открывается то самое окно. Павел Павлович подал ей руки и поднял вверх, как пылинку.
– Что стряслось, девочка моя?
– Баба Мотя умерла, я... – она хотела рассказать, как спала в одной постели с мертвой бабушкой, что мама видела, как немцы издевались над ней, что немцы! немцы теперь живут у них, но вдруг увидела неразобранную постель Аси, – Павел Павлович, а где Ася, а где все?..
Он попытался удержать ее, но она – крепкая, пятнадцатилетняя барышня в белых носочках, уперлась в пол и поборола его, ворвалась в гостиную. Там сидела дочь Павла Павловича, держа на руках спящего ребенка.
– Нету никого, – рассеяно объяснила Лариса, обводя взглядом комнату, никого нету, всех увели.
Фашисты пришли к Каменским вчера в обед, хотели разместить в доме какого-то офицера, большую шишку. Да стукач-подлец опростоволосился.
Вика не понимала. В чем опростоволосился какой-то стукач и где, собственно, ее Ася?
– Увели их, дитя мое, – пробасил хирург, – Ты же знаешь, они еврейской национальности.
– Не понимаю, – замотала головой Вика, – Бабушка умерла. Она лежит там, – Вика махнула рукой и вдруг закричала, – Ну, и что же что они евреи?! И что?!
Она, действительно, не понимала, в чем конкретно состояла причина исчезновения Каменских, она не могла поверить, что ее слабенькой, грациозной, любимой Аси нет, и ее кто-то насильно увел отсюда!
– Лариса не договорила, – помявшись, продолжил обескураженный несчастьем девочки Павел Павлович, – Немцы обходили дома с целью, знаете ли, найти жилище, а всех евреев они уводили.
Он махнул рукой в направлении веранды, но тут же добавил:
– Впрочем никто не знает, куда их увели и зачем.
Это последнее "зачем" вызвало такие подозрения у Вики, он так понятно произнес это "зачем", что Вика не смогла больше стоять на ногах.
– Зачем? Что зачем? – повторила она с напором, – Их убьют?
– Я не думаю, – Павел Павлович стал совсем жалким, совсем робким, он словно бы боялся этой девочки, так требовательно смотрящей на него, – Нет, я не думаю, – произнес он, потом потупившись проговорил, – не уверен.
Вика вдруг именно сейчас вспомнила, что как-то в станице Темиргоевской, ее учитель Плахов сказал о ней при всех:
– Вот Виктория никогда не теряется: она в любых сложных ситуациях сразу действовать будет, сразу пробиваться к победе.
Что-то в этом роде сказал тогда Иван Петрович.
Она вспомнила о маме, о том, что та ждет их, что теперь на одного Никодимова надежда.
– Нужно узнать, где их держат, куда увезли, – строго сказала она. – Вы можете помочь нам с похоронами? Отмучилась моя бабушка.
Она по-бабьи, по-взрослому вздохнула, посмотрела на Ларису Павловну. Та потупилась, сказала, что, если бы ее спросили, она бы отца не пустила, опасно сейчас. Мало ли кто прийдет, Каменские вернутся или фашисты, а она одна в чужом доме с ребенком.
Павел Павлович суетливо собирал в это время свой медицинский чемоданчик.
– Ларочка, стыдно. У людей горе. Ты вспомни маму. Пожалуйста, вспомни хоть раз!
Он вывел девочку на улицу, и они пошли к Сориным.
Рано утром, пока немцы спали – было слышно их мерное сопение – Матрену Захаровну вынесли в сад. Елизавета Степановна ходила на разведку, им не хотелось, чтобы кто-нибудь помешал их горю. Тело завернули в две простыни и настенный коврик, обвязали лентами. Втроем – Елизавета Степановна, Вика, Павел Павлович – тихо проносили этот длинный торжественно-пестрый свиток мимо дверей, вынесли Матрену Захаровну на белый свет и пошли по выпуклому, вздыбившемуся огороду, принесли в сад, к самому раскидистому, самому любимому Викой дереву. Его ветки были устроены так, что на них можно было сидеть, как в кресле.
– Вот там, мама, – попросила Вика, – Чтобы сидеть здесь у нее и думать.
– О чем же станешь думать? – спросил Павел Павлович.
И Вика ответила, не глядя ни на кого и не слыша никого:
– Как отомстить.
Елизавета Степановна, наконец, шепнула что-то на ухо Павлу Павловичу, и тот дернулся, затрясся и глаза его накалились. Он скинул пиджак, схватил лопату и принялся копать яму, и если бы Елизавета Степановна не окликнула его, так и копал бы до изнеможения, до исчезновения того жгучего желания калечить и убивать, которое впервые бушевало в нем, хирурге, спасшем сотни человеческих жизней.
Когда могила была вырыта, он, потный, в песке и листве, выбрался наружу и бережно положил тело на краю ямы. Он поднял голову, и лицо его исказилось. Вика не успела сообразить, что произошло, как он рванулся вперед, словно, споткнулся, они с матерью оглянулись, но было поздно. Павел Павлович наскочил всем своим корпусом на немчика, бегущего к ним по саду, залепил ему в ухо, тот упал навзничь.
Павел Павлович сплюнул на него, вернулся, но немчика уже поднял начальник, они вместе прыжками подлетели к телу и замерли. Вика ожидала, что сейчас они скрутят всех, Павла Павловича, ее, что достанут пистолеты и будут стрелять, но они застыли над телом.
Павел Павлович, который разве что не кричал от горя, развернулся и еще раз замахнулся, и скосил бы обоих, если бы не Елизавета Степановна, повисшая на нем:
– Не надо, Павел Павлович! Застрелють!
И правда, у старшего офицера чернел в ладони пистолет, он, раздувая ноздри и фыркая, наклонился и выпотрошил простынь в изголовье Матрены Захаровны. Вика смотрела на мать из-за низких ветвей яблони, боясь, что она не выдержит. Потому она боялась, что мать больше не плакала ни разу с самого того момента, она словно зажалась в себе, словно помутнение какое на нее нашло, и вот теперь каждую минуту мог случиться срыв.
Немец поднялся и, как показалось Вике, был обескуражен. Он пожал плечами, оглядываясь на всех. Елизавета Степановна, видя, как на лице офицера заиграла суетливая улыбка вины, подняла брови и расставила руки.
– А ты, собака, что думал: золото прячем? Али оружие? – пошла на него Елизавета Степановна, вдруг став страшной, лютой, какой никогда еще Вика не видела ее, мать стала подносить маленькие свои кулачки к носу немца, – Вот тебе золото. А то – оно и есть золото, то и есть мое оружие – то моя мать, которую вы изнасилили вчера, нехристи! Она и есть самое золото, родная моя мать. И через нее я теперь буду убивать вас, гадюки вы ползучие.
Она сникла, зарыдала, но и у непонявшего ее слов немца на лице появилась маска сочувствия, пока другой сидел в сторонке, опустив голову и потирая кулак.
– Гут, гут, фрау, – проскрипел старший, – Найн вайнен! Эншулдигунг! Ес тут мир лейд! ( Не плачьте, извините, мне жаль)
– Мне твоего мира не надо, – всхлипывая сказала женщина, – Чтоб тебя собаки разорвали. Чего тебе в моем доме понадобилось, чего вам нехватает, нехристи здурманенные?
Услышав слова матери о том, что над старухой ночью надругались, Вика сползла на землю и сидела теперь так же, как молодой немецкий солдат, в траве. С неба тягуче падали занесенные ветром ветхие серые листья, все кружилось: яблони, люди, могила, желтое лицо Матрены в прорези, сделанной немцем, облака...
Очнулась она в комнате, рядом была только мама, в глазах Вики застыли колкие большие кристаллики слез.
– Мама, а Ваня где? – спросила она, но мать почему-то испугалась, бросилась к ней с криком:
– Доча, что ты?!
Обыкновенный героизм
Их звали Вильгельм и Вернер. Вика умела понимать их немецкую речь: в школе у нее была пятерка по-немецкому.
Вернером звали молодого, зубастого парня, оказавшегося адьютантом второго. Представляясь Елизавете Степановне и Вике, Вернер усмехнулся и виновато сказал по-немецки:
– Когда я родился, Гете еще считали дозволенным поэтом.
– Тогда его еще считали гордостью немецкой нации, – более резко высказался капитан Клоссер, Вильгельм Клоссер.
Елизавета Степановна исподлобья смотрела на них, не понимая ни слова, кроме имен. Вика понимать не старалась, но насчет Гете и гения немецкой нации она поняла. Она помнила кадры киножурнала о том, как фашисты жгли книги. Она только не поняла, хвалят ли эти своего поэта или хулят.
– Пошли мы, что ли, – попросилась Елизавета Степановна, – готовить надо.
После смерти Матрены Захаровны прошло три дня. Павел Павлович больше не заходил, но Вика знала, что немцы ничего не сделают ему: не такие уж они сильные, эти фашисты. Отбери пистолет и можно косить косой.
– А здорово вы их, – говорила она Павлу Павловичу, забежав на следующий день, узнать про Каменских, – левой, правой.
– Бесстыдство, а не здорово! – проворчала обиженно Лариса, – Чужого отца не жалко, а если бы его убили?
– Не убили бы, Ляля, – самоуверенно отвечал Павел Павлович, хорохорясь перед Викой, – кишка, так сказать, тонка. Правильно я говорю?
– Правильно, Павел Павлович, – кивала Вика, – А про Асю ничего не известно?
Павел Павлович тряс подбородком, опускал взгляд.
Прийдя к ним еще через день, Вика наткнулась на немцев. Она, как обычно, по осторожности зашла с огорода, выюркнула из-за угла, хотела было вбежать на веранду, но перед ней на верхней ступени возник зевающий толстяк в форме эсесовца. Он что-то вязкое крякнул ей, пошло улыбнулся, и Вика опрометью побежала домой.
Они с матерью остались вдвоем. Соседи редко общались друг с другом, у всех на поселении были офицеры комендатуры, расположившейся как раз в тех двух каменных домах, что стояли на спуске от развилки к улице Радио.
Началась бабья осень. Вика сидела в саду на толстой гладкой ветке яблони, с закаменевшей яблочной тянучкой, вспоминала бабу Мотю, станицу Темиргоевскую, еще ту, в раннем детстве, когда она гостила у бабушки и дедушки в большом срубе, где все пахло древесными запахами, баней, липовым чаем и пряниками одновременно. Она запомнила этот дом необитым доской, золотисто-рыжим внутри, с высокими потолками, такими высокими, что казалось, сам богатырь Илья Муромец уместился бы в том доме. Кругом еще лежали стружки да опилки, это дедушка Степан наносил на подошвах валенок из сарая, где он мастерил конька.
Воспоминания сами перетекали в ее голову из воздуха, пахнущего дымому Матрениной могилы с яблочным крестом. Где-то на соседних огородах жгли листву.
Она вспоминала, как ее крестили. Она теперь и не знала, где ту церковь нашли в округе, только ввели ее бабушка с дедушкой в темную маленькую залу. Огонь поблескивал из-за большой иконы, отгораживающей одну часть церкви от другой. Пламя отражалось на деревянном, крытом золотом алтаре, тоже маленьком, хоть и в три ряда. Церковь была низенькая, маловместительная. Помнит она себя словно со стороны, вот она совершенно голенькая, пузо от голода торчком торчит, аж пупок выпирает, а потом в рубашке по колено, в тазу большом стоит. Сверху льется холодная вода и воду ту хочется выпить, а в рот она не попадает, отклоняется от чуба и льется на батюшку. Сбоку Матрена стоит и умиляется. Только это совсем другая Матрена, не эта.
Баба Мотя тогда была, как теперь мама, молодая, полная жизни, статная и загорелая, как налитое яблочко. Деда помнила плохо: у него была пушистая бородка, совсем седая, очень мягкая, она занавешивала все его лицо, Вика не могла вспомнить ни его облика, ни выражения лица, ни глаз, но помнила голос. Голос у деда был ласковый, такой же мягкий как борода и усы, говорил он очень медленно, всегда улыбался и рассказывал им с Ваней сказки про Словья-разбойника и еще про Руслана и Людмилу.
К ней подходил немец, тот, что постарше, элегантно вытягивая носок чищенного ботинка и выковыривая одним ногтем грязь из-под другого. Наверное, он гулял по саду и увидел Вику.
Она насторожилась.
– Загораете? – спросил он по-немецки, не требуя ответа.
– Не работаете? – спросила Вика тоже по-немецки, стараясь подбирать слова попроще.
– О, девочка знает по-немецки! Нам нужны такие люди, – обрадовался он сдержанно, – Вы не хотите работать в канцелярии жандармерии? Это ваш шанс, подумайте.
– Вы очень быстро говорите, – спокойно ответила Вика, оскорбленная предложением работать на окупантов, – Если бы я вашу мать или бабушку ... она не могла подобрать слова, – ...убила, вы бы стали на меня работать?
Немец впился в нее глазами, соображал, старался осознать, правильно ли он понял. И вдруг он нагнулся к ней, схватил ее двумя руками за плечи, стал трясти:
– Твое дело помалкивать, девушка. Твое дело – любить своих новых хозяев, ублажать. И ни о чем не спрашивать. Тебе не полагается. И не пытайся открывать рот, тебе ясно? И вообще, твоя сестра все придумала, – добавил он.
Мать долго не могла переменить в своей душе то, что уже затвердело в ней, не верила, отнекивалась, отбивалась.
– Но, мама, неужели ты не понимаешь, что ты зазря себя коришь, зазря терзаешься!
Мать отворачивалась, искоса глядя на дочь:
– А ты почем знаешь, что я себя корю?
– Ну, что же я слепая? Третьего дня ты им в суп плюнула, давеча, топор под кровать сунула, что дальше-то?
– Дальше веревку найду и ... беги в горы, от меня проку нету, одни убытки. Мать извергам на растерзание бросила, это ведь я ее убила, я...
Вика уговаривала Елизавету Степановну, говоря ей, что не могли они, что показалось...
– Между прочим, они нас с тобою за сестер приняли, – пыталась она расшевелить мать, – или ты очень молодая у меня, или я состарилась.
– А може и взаправду, – медленно сказала Елизавета Степановна, – може, вся эта жизнь ее в могилу свела, не дала старость посмотреть.
Вика не пошла работать в жандармерию, запасов еды в подполе еще хватало, мать обшивала соседскую немчуру, брала с них деньги.
Вика поняла, что и при немцах можно было выходить днем на улицу, ходить в здание школы, где иногда собирались ее одноклассники, человек пять, не больше.
– Петька Романов, Рафиз Сейфулин, Аза Кириченко, Вовчик, Ленка Гагарина уехали с родителями в Ташкент, за Урал, на север, – поведали ей наперебой мальчишки, – другие, Федя, твоя Маруся, Ленька – говорят в горах, у партизан.
Вика ругала себя за то, что не додумалась она про партизан, не подсказала матери, Каменским. Конечно, не дали бы им пропасть, если бы они ушли вовремя в горы.
Никто из ребят не знал, куда увели еврейские семьи, где их содержат. Одно успокаивало, массовых расстрелов еще не было, ребята бегали смотреть, как вешают второго секретаря райкома, пару раз фашисты устраивали погромы в домах коммунистов, жену начальника порта увели в верхний поселок, в жандармерию.
– Всех вместе их куда-то отвели, – размышлял командир их класса смуглявый, рассудительный Ренат Лавочкин, – всех лиц еврейской национальности провели по Подолу туда куда-то, к вам, – он кивнул на Вику, на улицу Радио.
Они сидели за школьным амбаром, на площадке, усыпанной соломой. Площадку эту обрамляли со всех сторон кусты, ребят не было видно ни с футбольного поля, ни из школьных окон, ни с дороги, проходившей совсем рядом.
– Ренатик, но ведь у всех у нас в домах живут немцы, – предожила Вика, – Неужели никак нельзя через них узнать. Вот у тебя, как с ними?
– У меня с ними не может быть никак, – отрезал Ренат, – Они меня уже два раза избили, когда я за мамку вступился. И сожрали все за пять дней.
– Да мы и немецкого не понимаем, – покачала головой Леточка Нивинская, – мне Виолетта тройку по немецкому еле вывела.
– Эх ты! – пристыдил Ренат, – Вот теперь кудахтай! Как же людям-то помочь?
Вика уже обдумывала это давно. Она мягко подбиралась к капитану Клоссеру, пару раз проследила за ним, когда он утром шел на службу. Работал он в жандармерии, в правом крыле: Вика видела его в окне.
– Вот что, – задумчиво проговорила она, – а если напрямую разговор завести. Так, мол, и так, подружка... Может, знаете... Ну, подкупить там чем-нибудь...
Ренат и Саша Оношенко внимательно посмотрели на нее.
– Чем?
– Да, подкупать нечем. И опасно. Но я попробую поговорить.
– Скажи, что она тебе должна кольцо вернуть, тогда они быстрей согласятся, корыстные уж больно, сволочи.
Ренат не смотрел на нее, водил раскосыми глазами по другим ребятам. Его резкие восточные черты лица нравились Вике.
– Попробуй прикинуться этой... кочергой, – посоветовал Оношенко.
Капитан Клоссер пришел вечером позже своего подчиненного. Тот уже поужинал, мать бегала в их комнату с чугунками, немцам полюбилось ее жаркое. В доме вкусно пахло жаренным луком и салом, тушенным мясом. Вика грызла яблоко, притаившись за маленьким облезлым сараем. Никаких синих коров уже не было на его стене, только размывы от облаков и синие подтеки, пеекрасившие даже траву под досками.
Когда Клоссер показался над калиткой совсем стемнело. Пищали последние осенние цикады в ночных кронах. Белый воротничок немца фосфорицировал над дорожкой.
– Дядечку начальник, дядечку начальник, – шопотом позвала Вика и перестроилась на немецкий, – Помогите мне, пожалуйста.
Она была довольна своим немецким, волшебной возможностью говорить на чужом языке так, чтобы было понятно. Но она ненавидела сам этот язык. Он казался ей источником жестокости и вероломства.
Когда Клоссер осторожно приблизился к сараю, она поняла, что влипла. Клоссер был пьян. Он шатаясь наклонился к ней и проговорил:
– А это ты, маленькая чертовка. Что тебе нужно?
Он потянулся к ней обеими руками, ухватил за плечи и стал притягивать к себе.
Отступать было некуда. Она увернулась и отскочила на безопасное расстояние.
– Ах, ты хочешь играть?
– Дядечко Клоссер, – пропела Вика заунывно, – У меня в школе одна девочка отобрала книгу, не отдала. А девочку ту куда-то забрали. Вы забрали. Неужели ничего нельзя сделать?
– Какую книгу? – насупил брови капитан, и повернулся, желая немедленно найти и наказать провинившуюся.
Вика судорожно подбирала названия, но все было не то. И вдруг она вспомнила о Вернере.
– "Фауст"! "Фауст" Гете, – почти прокричала она.