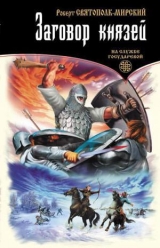
Текст книги "Заговор князей"
Автор книги: Роберт Святополк-Мирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
… Спустя два дня из ворот замка Горваль ровно в полдень под хриплое механическое кукарекание железных петушков на флюгерах высоких башенных шпилей, под звон бубенчиков на ярко разукрашенных санях, под веселое завывание дудок и грохот бубнов уже давно гостящих в замке бродячих музыкантов, из ворот замка Горваль вытекла пестрая разноцветная река, состоящая из санных, конных и пеших его обитателей.
Пешие в основном были провожающие хозяев слуги, воины охраны, да горвальские боброловы, пришедшие поглазеть на красочное зрелище, а санные и конные отъезжающие, миновав подъемный мост над рвом, разделились на три неравные группы и стали медленно разъезжаться в разные стороны.
Князь Иван Ольшанский с воинами, оруженосцем – все верхом – и простуженный старик Иона в теплой санной кибитке, весь укутанный шкурами, двинулись на север, направляясь в сторону своих Ольшан.
Самая большая группа, в которую входили пять саней и кибиток в сопровождении вооруженной охраны – князь Федор Бельский, княгиня Ульяна и княжна Анна Кобринские – свернули на запад, взяв направление к польской границе недалеко от которой и лежало кобринское княжество.
И, наконец, самая малочисленная, но самая шумная и веселая группа бродячих музыкантов‑лицедеев, радуясь удаче и восхваляя щедрость князя Федора, в сопровождении местных жителей двинулась прямо в деревню Горваль, где намеревалась задержаться еще на пару дней, чтобы позабавить горвальских боброловов своим озорным искусством и весело потратить княжеские золотые в единственном кабачке этого бобрового царства.
В то время, когда веселая и шумная толпа заполнила неширокую центральную площадь, с противоположной стороны в деревню въехал одинокий всадник. Он был одет в теплый костюм из самого лучшего и дорогого сорта бобрового меха, а голову его полностью покрывал такой же меховой капюшон.
Добравшись до центральной площади всадник въехал в толпу веселых артистов и стал пробираться сквозь нее, время от времени стегая коня нагайкой. Лицедеи‑музыканты по своей обычной привычке стали весело приставать к проезжему, громко дудеть в дудки, бить в бубны и корчить ему веселые рожи, но чем больше они пытались развеселить всадника, тем больше он раздражался, пока, наконец, выведенный из терпения, яростно размахнулся нагайкой и веселый мальчишка в шутовском колпаке вскрикнул от боли, и покатился по снегу, хватаясь руками за рассеченное до крови лицо.
От резкого удара нагайкой капюшон откинулся с головы всадника, и тогда все увидели, что это молодая девушка.
Местные жители мгновенно узнали ее, расступились, срывая с головы шапки и кланяясь.
Они растолкали удивленных артистов, освобождая проезд, и Марья, ни на кого не глядя, пустилась в галоп, быстро исчезнув за поворотом.
Она миновала еще несколько уличек, выехала на окраину и направилась к родному дому, одиноко стоявшему вдали у самого леса.
Прорубленная когда‑то в этом лесу широкая просека до самого горизонта уже начала зарастать молодыми елочками.
А на широкой лавке у ворот, в шубе из такого же, как у дочери, дорогого бобрового меха сидел и, пожевывая свою вечную травинку, глядел куда‑то в самый конец просеки, королевский бобровник Никифор Любич.
… – Как я рад тебя видеть, доченька, – Никифор ласково обнял дочь, когда они вошли в горницу. – Ты прекрасно выглядишь, моя красавица!
– Неправда, батюшка, я выгляжу ужасно и чувствую себя отвратительно, я изменилась, я стала другой – какой‑то чужой сама себе – только что на площади я изо всех сил ударила какого‑то мальчишку – бродячего лицедея, который хотел рассмешить меня, не зная, что мне не до смеха!
– Доченька, – успокоительно обнимая, гладил ее по спине Никифор, – Послушай меня… Все пройдет, все минует, все перетерпится и забудется… Вот увидишь!
– Отец, скажи мне честно, – утирая выступившие слезы, спросила Марья, – ты умышленно отправил меня за сто верст к этой волошанке, чтобы я уехала подальше от Федора и отвлеклась?
– Нет, ты же знаешь, – моя цель была совсем иной: тебе необходимо научится языку твоей матери, хотя бы в начальной степени, но я знаю – ты способная – ты учишься быстро. Это я совершенно бездарен в языках – я сражался в Валахии, познакомился там с Маричкой, потом прожил с ней семь счастливых лет, но так и не научился волошскому языку, кроме четырех слов: «Здравствуй, прощай, защищайся, выпьем!»
– Да, папочка, старуха мучила меня все эти полтора месяца целыми днями и ночами, заставляя разговаривать с ней только по‑волошски…
– Я просил ее об этом. Каков результат?
– Если мне когда‑нибудь случится попасть в Валахию, думаю, не пропаду!
– Это очень хорошо! – сказал Никифор и широко улыбнулся.
– А что тут у нас нового? Надеюсь, эта внезапно разбогатевшая нищенка уже уехала из замка?
Никифор тяжело вздохнул и крепко сжал Марьины плечи.
– Послушай, моя девочка. Я предупреждал тебя в самом начале, когда ты принесла присягу нашему Братству, что путь будет труден и потребует многих, порой самых болезненных жертв. Я предостерегал тебя также от излишнего увлечения князем Федором, с которым тебя по‑настоящему связывало лишь служение Братству и выполнение порученных тебе дел. Так было?
– Да, это правда, – прошептала Марья.
– Твоя работа с князем Федором полностью завершена. В настоящее время он не интересует Братство. Поэтому он не должен больше интересовать тебя. Так удачно складывается, что и ты больше не интересуешь князя! Было бы намного хуже, если б тебе надо было приниматься за выполнение следующего тайного поручения Братства, а влюбленный князь Федор стал бы тебя преследовать, домогаться и еще, чего доброго, начал бы следить за тобой! Ты представляешь, как это усложнило бы твою жизнь, а его – вовсе поставило бы на край гибели, если бы он в чем‑то помешал Братству?
– Где он? – тихо спросила Марья. – Я хочу увидеться с ним в последний раз.
– Князь уехал и вернется не скоро. Однако, он просил передать тебе, что навечно остается твоим должником, и всегда будет тебе благодарен, как за спасение жизни, так и за теплую дружбу, в знак чего просил передать тебе это.
Никифор указал на инкрустированную шкатулку с княжеским гербом.
Марья медленно открыла шкатулку, прочла дарственную грамоту, взяла пригоршню золотых монет и разжав ладонь поглядела, как они посыпались обратно проскользнув между ее тонкими, длинными пальцами.
Потом она глубоко вздохнула, отерла слезы, нежно поцеловала отца и сказала:
– Извини, я пойду к себе наверх, мне надо переодеться.
Никифор смотрел ей вслед.
Комната Марьи находилась на верхнем этаже, и когда она поставила ногу на ступеньку, Никифор сказал.
– Подожди минутку. За время твоего отсутствия в Братстве произошли некоторые события. Ввиду возникшей опасности, принято решение немедленно отказаться от нательных символов нашей веры – крестиков и перстней. Как видишь, на мне уже нет перстня, а крестик на шее – обычный, православный, как у всех. Сними, пожалуйста, свой перстень и дай мне – завтра приедет Трофим – ему поручено собрать все символы у членов Братства в нашей округе.
Марья взялась за перстень, чуть помедлила и не сняла его.
– Хорошо, батюшка я переоденусь, вернусь и передам тебе перстень.
Она медленно поднималась по ступенькам, и Никифор пристально наблюдал за ней.
На верхней площадке лестницы она остановилась и глянула вниз.
– Не задерживайся долго, доченька, – мягко по‑отечески попросил Никифор. – Помни: тебя жду я, тебя ждет Братство, тебя ждет очень интересная жизнь впереди.
Марья кивнула, вошла в свою горницу и заперла за собой дверь.
Она подошла к окну и посмотрела вдаль.
Там, над лесом виднелись острые шпили башенок замка Горваль.
Марья резко сняла перстень с пальца и даже уловила в зимней тишине горницы, как едва слышно щелкнула внутри золотого украшения маленькая пружинка, обнажая ядовитый шип.
Теперь стоит только снова надеть кольцо на палец и все сразу кончится.
А внизу в светлице брат Десятой Заповеди Никифор Любич, с бледным бескровным лицом и застывшей неподвижно в углу рта травинкой горячо просил Единого и Вездесущего Бога, чтобы он дал силы его несчастной дочери. И хотя он прекрасно знал, что согласно верованиям Братства, Бог не слушает людских молитв, а поступает так, как считает нужным, он все же надеялся на его особую милость.
Марья уже поднесла перстень к кончику пальца, чтобы таким же резким движением сразу надеть его, последний прощальный взгляд уже скользнул по лесу, остановившись на давно вырубленной просеке, и вдруг ей привиделась мама Маричка, которую она помнила очень смутно, даже не ее, а нежные теплые руки, которые всегда так заботливо укутывали и так ласково обнимали… Перед Марьей вдруг пронеслась вся короткая, но яркая жизнь ее матери, рассказанная недавно отцом, а потом и жизнь его самого, богатая таким огромным количеством событий, приключений, подвигов и тайн, что хватило бы на десять человеческих жизней, а потом она по естественной инерции мысли вспомнила свою…
И вдруг в одну долю секунды Марья сразу и навсегда неизвестно почему поняла, что жизнь это бесценный неповторимый дар, который надо во что бы то ни стало использовать до самого конца, до самого края, до самого донышка, настолько, насколько позволит Господь, который сам создает и сам вершит людские жизни, и только он один знает и имеет право решать, когда и как они должны прекратиться…
Марья вдруг ощутила необыкновенную, никогда доселе еще не испытываемую жажду существования в этом мире с любой предназначенной ей судьбой – пусть тяжкой пусть сложной, пусть страдальческой, но, необыкновенной, насыщенной сверкающей чередой людей, стран и событий…
Она осторожно положила перстень на столик, быстро переоделась и, снова взяв перстень, вышла из горницы на лестницу.
Но это была уже не та убитая горем неразделенной любви, сломленная и подавленная несчастная девушка, которая несколько минут назад поднималась по ступеням.
Это была совершенно другая женщина.
– Хорошо, что ты быстро вернулась, – сказал Никифор, и краска стала возвращаться на его щеки. – Тем более, что я еще не успел сказать тебе самой главной хорошей новости.
– Какой же батюшка? – спросила Марья, и глаза ее вспыхнули таким неподдельным интересом, что Никифор мысленно поблагодарил Господа, и вдруг с облегчением понял, что больше ему никогда не придется опасаться за дочь в том смысле, в котором он еще совсем недавно за нее опасался.
Марья протянула перстень, и Никифор спрятал его в потайном ящике своего стола.
– Я хочу, дорогая моя доченька, поздравить тебя и сообщить, что Высшая Рада высоко оценивая твое искусство проникновения в тайну заговора князей, которая была известна всего нескольким лицам и относилась к высшей категории государственных тайн, приняла решение о присвоении тебе следующего ранга – сестры Второй Заповеди!
Марья залилась румянцем и низко поклонилась отцу, который снова обнял ее:
– Маричка достигла этого ранга спустя три года служения Братству, а тебе понадобилось меньше одного! Возможно, прав был Трофим, когда сказал во время твоего посвящения в таинство, что ты совершишь много славных и замечательных дел во имя Господа нашего Единого и Вездесущего!
– Приказывай, батюшка, я готова! – прошептала Марья.
Никифор снял с шеи маленький ключик, и вставил его в маленькую замочную, скважину, которая находилась на виду, но обнаружить ее мог только тот, кто точно знал, где она находится – ни дать, ни взять – обыкновенная червоточина, дырочка, проеденная короедом в бревенчатой стене дома.
Он повернул ключик два раза и совсем в другом месте на противоположной стене, где висели всевозможные охотничьи трофеи, голова оленя вдруг выдвинулась вперед и повернулась, открыв глубокий шкаф с двумя полками.
На одной полке лежали свернутые в трубки и расправленные документы с печатями и без них, написанные чернилами и красками разных цветов, ветхие и совсем новенькие и было их много, очень много. Но еще больше было на другой, нижней полке слитков золота, драгоценных камней и денег, отчеканенных едва ли не во всех странах христианской Европы и мусульманского Востока.
Никифор вынул несколько старых, свернутых в трубку документов с верхней полки и тяжелый мешок с монетами с нижней, положил все это на стол, с трудом переставляя непослушные ноги, зашагал к противоположной стене, снова повернул ключик и повесил себе на шею, а голова оленя возвратилась в прежнее положение.
– Сядь со мной рядом, сестра Второй Заповеди, – сказал он подвигая табурет, – Сейчас ты получишь новое задание. Но сначала взгляни на это. Ты видишь здесь буквы, а напротив них – разные значки. Это – тайнопись. До сих пор ты постоянно находилась рядом со мной, и тебе не надо было ничего писать. Но вскоре это тебе понадобится. В нашем братстве существует две системы тайнописи. Они обозначаются латинскими буквами «X» и «Y» Тайнопись X известна всем членам Братства и применяется для передачи тайных донесений и приказов. Тайнопись Y известна только Преемнику, членам Высшей Рады, а также сестрам и братьям Десятой Заповеди – то есть руководству Братства.
Будучи многолетним членом Братства и входя в его элиту, Никифор знал что существует еще и третья тайнопись отмечаемая, буквой Z, но, какова она, кто ею пользуется и в каких случаях, он не знал – просто несколько раз в жизни через его руки проходили документы, помеченные в уголочке этой буквой.
– Я даю тебе этот листок с тайнописью X до завтрашнего утра, чтобы ты запомнила все обозначения всех букв и могла писать этой тайнописью. – Никифор протянул дочери пожелтевший лист.
Марья взяла тайнопись и внимательно всмотрелась в нее.
– У тебя всегда была очень хорошая память, ты должна до утра все запомнить.
Марья вернула лист и невозмутимо сказала:
– Продолжай, батюшка, я уже все запомнила.
– Ты уверена? – пристально взглянул на нее Никифор.
– Да.
– Отлично. Тогда послушай, как ею пользоваться. Если тебе необходимо отправить секретное послание, а секретными являются все послания, касающиеся дел Братства, ты берешь обычный лист хорошей бумаги и обыкновенными чернилами, простым гусиным пером пишешь, например, так:
Никифору Любичу, королевскому бобровнику в Горвале
С радостью сообщаю, что партия ваших бобровых шкурок очень хорошо пошла на здешнем рынке. Сообщите, есть ли возможность получить от вас еще одну партию таких же.
Купец Иван Сироткин.
– Старайся писать это письмо так, чтобы между строчками были широкие промежутки. Закончив письмо, поставь этими же чернилами маленький крестик в верхнем правом углу письма. Это будет знаком, по которому получатель поймет, что настоящее письмо написано тайнописью Х. Теперь возьми молоко и тонкой беличьей кисточкой – вот тебе три таких – обыкновенным молоком напиши между строк того письма настоящее, тайное. Дай ему хорошенько высохнуть и отправляй.
– Кому, откуда и о чем я должна отправлять тайные письма?
– Сейчас дойдем и до этого.
Никифор взял другой, свернутый в трубку документ и развернул.
– Посмотри. Сможешь прочесть?
– Да это же по‑волошски… Погоди‑погоди… Господи… мамочка моя…
– Да, это документ подтверждает, что Маричка была дочерью князя Михая Чоаре, который погиб на моих глазах во время турецкого набега, в том же бою был тяжело ранен и я, а Маричка выходила меня, укрыв от турок в горной пещере.
– Зачем ты даешь его мне, батюшка?
– Затем, что завтра на рассвете ты отправишься в Валахию.
– В Валахию??
– Да, на родину твоей матери. Я получил письмо от Симона Черного, брата Десятой Заповеди и члена Высшей Рады, который находится сейчас при дворе волошского господаря или по‑нашему короля Стефана. Симон просит срочно отправить тебя к нему для того, чтобы ты стала придворной и ближайшей подругой юной принцессы Елены, дочери Стефана. Симон возлагает на принцессу большие надежды и хочет окружить ее верными и надежными друзьями, братьями и сестрами по вере. Туда уже прибыл еще один наш молодой брат, который служит при Симоне толмачом.
– Значит, для этого ты отправил меня учится языку к старой волошанке?
– Нет, Марьюшка, тогда я еще ничего не знал. Но я всегда думал, что ты должна знать язык своей матери, и случай для учебы, как мне показалось, выдался подходящий.
– Спасибо тебе, батюшка, – Марья поцеловала руку отца. – Я готова ехать, но как же ты останешься здесь один?
– Что ж делать, – дети вырастают и должны жить своей жизнью. Со мной остаются и слуги, и мои верные боброловы и, наконец, Трофим с Черного озера, который будет теперь навещать меня чаще. А ты иди и собирайся в дорогу. Поедешь на санях, а с тобой поедут Бориска и его братья – все не только хорошие боброловы но и опытные воины. Они проводят тебя до самой Валахии, а там тебя встретят люди Симона.
– Тот самый Бориска, который служил когда‑то князю Семену, а потом…
– Да‑да, тот самый…
– Ну что ж, пойду собираться…
Никифор смотрел вслед дочери, пока она не скрылась в своей горнице, потом сунул в рот свежую травинку и, набросив на плечи шубу, заковылял к выходу.
У двери он взял ковш и наклонился над бадьей, чтобы зачерпнуть воды.
Глядя на свое отражение в качающемся водяном круге, Никифор увидел, что с левой стороны у виска появилась новая седая прядь.
… На рассвете следующего утра кибитка в сопровождении четырех всадников покинула деревню Горваль и направилась к выезду на большую дорогу.
Проезжая невдалеке от замка, возвышающегося на берегу Березины, Марья окинула прощальным взглядом это мрачноватое строение, с которым у нее было связано столько воспоминаний, и в ту минуту она не знала и знать не могла, что больше никогда уже не увидит Горвальского замка, но не потому, что никогда сюда не вернется, – она вернется – но к этому времени замок будет снесен с лица земли и не останется от него ни одного камешка…
Но не дано человеку знать, что будет впереди, и кибитка мчалась и мчалась, увозя от мрачных воспоминаний к яркому будущему дочь королевского бобровника, сестру Второй Заповеди Марью, внучку давно погибшего волошского князя, едущую на родину предков служить волошской принцессе, той самой, которой, через несколько лет чуть было не удастся изменить всю историю Великого Московского княжества и которая навсегда останется в памяти потомков под простым, скромным прозвищем – Елена Волошанка…
Глава вторая
ТИСОВЫЙ ЛУК
– Я приехал к тебе, Богадур, как слуга короля Казимира, а стало быть, твой друг и союзник, – сказал на вполне сносном татарском языке Леваш Копыто.
– А зачем за твоей спиной столько вооруженных воинов? – спросил Богадур.
– За твоей спиной – тоже сотня!
– Уже нет. Вчера я потерял девять человек.
– Я знаю. И я здесь как раз для того, чтобы поговорить с тобой об этом.
… Богадур велел поднять всех по тревоге, когда ему доложили, что со стороны Синего Лога движется не меньше сотни вооруженных людей во главе с Левашом Копыто.
Спустя несколько минут прискакал посланец, передал от имени своего хозяина поклоны, приветствия, и предупреждение, что Леваш едет «с миром и уважением, чтобы выпить по чарке да обменяться добрым словом со своим другом и союзником, великим воином Богадуром».
Следом подкатили сани с дорогими подарками – сотня лучших горвальских бобровых шкур.
Но все же недоверчивый Богадур не мог позволить, чтобы его застали врасплох, и вот теперь все его вооруженные до зубов воины в полной боевой готовности находились за его спиной на фоне зимних шатров татарского лагеря, раскинувшегося на опушке леса, на поле под Барановкой, а напротив в каких‑то тридцати шагах молча и угрюмо стояла сотня людей Леваша, тоже вооруженная, как следует, готовая к сражению в любую минуту.
Это очень не понравилось Богадуру, который быстро прикинул, что на стороне Леваша более сотни конников, в то время как на его стороне – лишь восемьдесят шесть, и очень понравилось Левашу, который так же быстро оценил соотношение войск.
Леваш, понимал, что если он сейчас вступит в открытую схватку, он, конечно же, победит, вырезав всех людей Богадура до единого, а уж его самого он тем более не пощадит.
Это понимал и Богадур, – он уже навел справки и хорошо знал о славном, лихом и кровавом прошлом Леваша, который несмотря на свою добродушную внешность прослыл крайне жестоким воином, не берущим пленных и не жалеющим ни стариков, ни детей, ни женщин.
Однако, Леваш понимал также, что для него это будет означать прямую и открытую измену королю и Великому Литовскому княжеству со всеми вытекающими отсюда последствиями, в виде скорого ареста и, вероятно, смертной казни на плахе.
Богадур тоже это понимал и поэтому с одной стороны надеялся на то, что Леваш не пойдет на самоубийственную схватку, с другой – не хотел излишне раздражать его, провоцируя буйную и горячую натуру к резким и необратимым действиям.
– Ну что ж, поговорим, – согласился он.
– Это правильно, сынок! – улыбнулся Леваш. – Ох, прости, великий хан – вырвалось! – притворно смутился он и низко поклонился Богадуру, а когда выпрямился, очень серьезно произнес – У меня нет своих сыновей, потому каждого молодого воина, мне хочется так назвать! – Вдруг он неожиданно подмигнул и широко улыбнулся, поглаживая свои длинные, как у запорожских казаков усы, – Однако, я надеюсь, мы не будем разговаривать на холоде, сидя на конях?
– Конечно, – снисходительно улыбнулся Богадур, – Прошу в мой шатер!
Леваш спешился с легкостью неожиданной для большого, грузного человека и весело крикнул:
– Фома! Тащи все сюда!
Через несколько минут ковер на полу шатра Богадура был уставлен восточными яствами, из походных запасов ханского сына, и вполне западными разносолами из погребов Синего Лога. Хозяин и гость устроились на ковре и Леваш, поднимая огромный кубок крепкого домашнего меда, проникновенно сказал:
– Я хочу выпить за твое здоровье, сынок, ты ведь позволишь называть тебя так старому вояке, в то время когда твой настоящий отец – великий хан Ахмат находится далеко?
– Я пью только кумыс, – холодно ответил Богадур.
– Вот и отлично, сынок, просто замечательно! Ты выпей кумыс, а я – доброго меду!
Задрав голову, Леваш опрокинул кубок в рот и, проглотив его содержимое одним мощным глотком, крякнул, громко отрыгнул, а затем, откусив большой ломоть бараньей лопатки, не переставая жевать, обратился к Богадуру:
– Так расскажи мне, сынок, что там случилось на этом проклятом броде?
Богадур высокомерно посмотрел на жующего, громко чавкающего Леваша и холодно ответил:
– Убийство.
Леваш застыл, перестав жевать. Потом как бы удивился:
– Ах, вот оно что! Убийство… Так‑так‑так… Понимаю… Кто же кого убил? И как вообще до этого дошло?
– Мои люди под командованием Саида, вышли на лед Угры в районе брода возле этой как ее Ба… Ба… Тьфу, шайтан, с вашими названиями!
– Бартеневки – подсказал Леваш.
– Да. А навстречу с московской стороны ехала женщина в санях и какие‑то люди верхом. Эти‑то верховые все и начали. Они без малейшего повода, без всякого предупреждения выхватили сабли и бросились на моих людей. Те, естественно, вынуждены были защищаться. И тогда с московской стороны посыпался град стрел. Мои люди не успели даже выхватить луки, как были беспощадно расстреляны. Девять человек погибли на месте, остальные отступили перед многочисленным отрядом московитов, которые немедля пустились в погоню, и тогда моим людям в качестве защиты, пришлось взять в заложницы женщину, что была в санях – потом выяснилось, что это и есть хозяйка этой самой Ба… Ба… Бартеневки, шайтан!
– Ай‑ай‑ай, какой прискорбный случай, – стал сокрушаться Леваш. – И что же, – весь этот огромный отряд московитов был на реке, когда по ней двинулись твои люди?
– Нет, насколько я понял из рассказа Саида, сначала на льду было несколько человек. Отряд появился позже.
– Так‑так‑так… Очень интересно… Однако, я не пойму – что же получается? Всадники, о которых ты говоришь, не стреляли, потому что напали на твоих людей, кто же тогда засыпал их градом стрел?
– Саид сказал, что среди московитов был один опытный лучник. Он и стрелял. После того как от его стрел пали девять человек, из засады выехал Саид с пятеркой оставшихся, и тогда на берегу показалась целая толпа московитов.
– Ага! Ты произнес – «Из засады»! А скажи‑ка мне, сынок, а то я не понял, – почему он был в засаде этот твой Саид? На кого? Зачем?
– Он охранял отряд, который выехал на лед для проверки брода. И он все видел!
– Вот как? Так‑так‑так… Очень интересно… Гм, видишь ли, я не знаю твоего Саида и не хочу сказать, что он лжец. Просто, я думаю, что он не все видел. А теперь послушай, что говорят другие свидетели, которые тоже там были и все видели. Хозяйка Бартеневки Анастасия Картымазова возвращалась к себе домой в санях, сопровождаемая двумя людьми из Медведевки. Они доехали до середины реки и тогда вдруг твои люди с гиканьем и дикими криками совершенно неожиданно бросились на них с противоположного берега, обнажив сабли…
– Это неправда! – перебил Богадур. – Мои люди получили приказ не обнажать оружия первыми! Мои люди никогда не нарушают моих приказов!
Леваш глубоко вздохнул, посмотрел куда‑то в сторону, потом покивал головой и ласково, по‑отцовски сказал Богадуру:
– Послушай‑ка меня, сынок. Я провел на войне большей дней, чем ты прожил на этом свете, и вот что я тебе скажу. Сколько бы ни было свидетелей, мы с тобой никогда не узнаем, кто первым обнажил оружие на том броде. Очевидцы с твоей стороны и очевидцы с их стороны всегда буду видеть один и тот же бой по‑разному. И самое интересное, это то, что каждый из них будет прав. А знаешь почему? Потому что на войне не бывает виновных. Те, кто идут в бой, знают лишь одно – перед ними враг, и если врага не убить, он убьет тебя. А откуда они это знают? Потому что им это когда‑то сказали. А кто же им это сказал? Их вожди, короли, ханы да великие князья. Они говорят тебе: вот твой враг, иди и убей его. Ты идешь и убиваешь. Или он тебя убивает. Разве ты виноват? Или он виноват? Ты понимаешь, о чем я говорю, сынок? В том, что произошло на броде через Угру, нет ничьей вины!
– Чего ты хочешь? – холодно спросил Богадур.
– Твои люди правильно сделали, что взяли Настю, когда отступали перед превосходящими силами противника. Я их понимаю – я сам часто брал заложников в таких случаях! Но теперь все позади. Они живы, и им уже ничего не грозит. Анастасия Бартенева – жена моего молодого приятеля, с отцом которого мы воевали спина к спине на многих войнах в Европе и Азии. Отпусти ее и ты поступишь, как благородный воин!
– Я не могу этого сделать, – отрицательно покачал головой Богадур, однако, после короткого колебания добавил – Точнее, могу, но на определенных условиях.
– Каких же?
– За жизни девяти моих людей я мог бы потребовать девять жизней московитов, и это было бы справедливо. Но я великодушен. И я почти согласен с тобой насчет того, что на войне не бывает виновных. Поэтому я готов поступить так: жизнь за жизнь. Я верну Настасью Бартеневу взамен на того лучника, который убил моих людей.
Леваш пристально посмотрел на Богадура:
– И что же ты с ним сделаешь, с этим лучником? – спросил он.
Богадур впервые улыбнулся.
– Наверно, ты полагаешь, что я велю казнить его какой‑нибудь страшной восточной казнью… Но ты ошибаешься. Я отношусь с уважением к противнику, особенно сильному. Если один лучник в течение минуты убивает девятерых воинов – он мастер. Однако, тебе, вероятно, неизвестно, что я сам считаюсь одним из лучших стрелков Сарай‑Берке. Я предложу этому московиту поединок на луках. И пусть Аллах рассудит, кто из нас лучше владеет этим оружием.
Леваш Копыто опрокинул очередной кубок меда в свою глотку, вытер рукавом рот и расхохотался. Леваш хохотал долго и до упаду, а Богадур с презрением смотрел на него. Когда спазмы хохота стали утихать, он брезгливо спросил.
– Что так рассмешило тебя в моих словах?
Леваш Копыто мгновенно стал серьезным. Он склонился поближе и шепотом, как бы опасаясь, что их услышат, спросил:
– Ты можешь себе представить, что станут говорить во всей Золотой Орде, и особенно в славной ее столице Сарай‑Берке, когда узнают, что сын великого хана и лучший лучник города вызвал на поединок восемнадцатилетнюю девчонку?
Лицо Богадура стало белым как снег за стеной шатра.
– Что ты сказал? – прошептал он.
– Да‑да, – так же шепотом подтвердил Леваш. – Это правда. Всех твоих людей убила Анница Медведева, жена другого моего молодого приятеля, сестра Филиппа Бартенева, а стало быть, дочь того самого друга, с которым мы вместе воевали, когда тебя еще и в помине на этом свете не было! Я знаю ее с детства, она стреляет с пяти лет, и в этом искусстве во всей здешней округе ей нет равных!
– Я не верю! – сквозь зубы сказал Богадур. – Я не могу поверить в то, что какая‑то московитка, тем более, столь юная, как ты говоришь, могла… Нет‑нет я не верю!
– Тем не менее, это так, – развел руками Леваш.
И вдруг какая‑то мысль осенила Богадура.
– Очень хорошо! – Воскликнул он. – Замечательно! Тогда я предлагаю другое решение. Разумеется, я никогда не унижусь до того, чтобы вступать в прямой поединок с женщиной, но я могу сразиться с ней иначе! Вот здесь на опушке леса мы устроим состязание в стрельбе из лука: с пятидесяти шагов – на дальность, скорость и меткость! Если она меня победит – я тут же отпускаю Настасью Бартеневу и на следующий день покидаю эти места. Но если выиграю я… Ты внимательно меня слушаешь? Так вот – если Аллах дарует победу мне – обе женщины перейдут в мой гарем!
– Это несправедливо, черт возьми! – возмутился Леваш и опрокинул очередной кубок. – В случае нашей победы мы получаем одну женщину, а ты в случае своей – сразу двух!
– Это мое окончательное слово, – отрезал Богадур. – состязание состоится в присутствии всех твоих и моих воинов, а чтобы ни у кого не было сомнений в его честности, Саид и ты сам будете судьями. Согласен на эти условия?
Леваш покрутил длинные усы.
– Я‑то согласен, но ты же не со мной хочешь состязаться! А потому, сынок, мне кажется, мы должны выяснить, что об этом думает сама Анница.
– Жду до вечера, – сказал Богадур и встал.
– Хорошо, – ответил Леваш и тоже встал.
Вдруг он резко схватил Богадура за шею и, притащив к себе вплотную, прошептал на ухо:
– Только запомни, сынок, с Левашом Копыто шутки плохи, очень плохи! Если за все время, пока Настенька находится у тебя, кто‑нибудь хоть пальцем к ней прикоснется или чем‑нибудь обидит… Никаких состязаний не будет! Нет, сынок, я тебя не убью… Я посажу тебя на кол, причем на достаточно толстый, чтобы ты мучился подольше, а сам сяду напротив и, не торопясь, буду пить мед и петь казацкие песни, глядя как твои окровавленные кишки вылезают из твоего рта, пока кол не проткнет тебя где‑то между лопатками, и ты совсем перестанешь трепыхаться!








