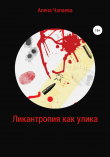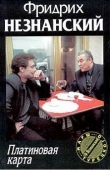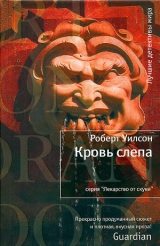
Текст книги "Кровь слепа"
Автор книги: Роберт Чарльз Уилсон
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Я не хотел ссоры. Злости, которую испытывал, узнав от Марисы о ее встрече с Инес, я не чувствовал. Я был очень сонный и буквально спал на ходу. Для меня это были утомительные дни – много работы, а вечерами еще эти мероприятия, встречи с журналистами…
Фалькон открыл новую страничку своей записной книжки.
– Меня вот какие слова твои заинтересовали: «Добрел до спальни, рухнул на кровать и тут же отключился. Он осознал лишь боль. Он бешено задергал ногой». Что это значит?
– Ты цитируешь дословно?
– Да. – Фалькон положил на стол диктофон и нажал кнопку «play».
Кальдерон изумленно слушал. Дым от сигареты, застывшей в его руке, поднимался, окутывая пальцы.
– Это что – я?
Фалькон проиграл еще раз его слова.
– Разве это так уж важно?
– По-моему, Мариса прижгла тебе ногу зажигалкой, – сказал Фалькон.
Кальдерон вскочил так, словно в зад ему вонзилась иголка.
– Нога у меня уже который день болела, – возразил он, внезапно обретя память. – Я натер ее!
– Зачем же понадобилось Марисе жечь тебе ногу зажигалкой?
– Чтобы разбудить. Я дрых как сурок.
– Мне кажется, чтобы разбудить возлюбленного, существуют иные, более приятные способы, – сказал Фалькон. – Похоже, ей остро требовалось тебя разбудить, потому что время вашего расставания было очень важно.
Кальдерон опять опустился в кресло, закурил новую сигарету и уставил взгляд в высокое зарешеченное окно. Потом он моргнул, прогоняя навернувшиеся слезы, и закусил нижнюю губу.
– Ну да, это ты мне помогаешь, Хавьер. Понимаю всю иронию ситуации.
– Тебе другая помощь требуется, не моя, – сказал Фалькон. – Давай-ка вернемся к тому, что я заключил из записи. Еще одно интересное наблюдение относительно той ночи в твоем рассказе Зоррите – две версии того, как вы встретились с Инес.
Кальдерон стал привычно повторять уже сказанные и отрепетированные слова, и Фалькон движением руки остановил его.
– Нет. То, что вы там с адвокатом заготовили для суда, меня мало волнует, – сказал Фалькон. – И пойми, что для меня дело тут не в тебе. Мои попытки могут оказаться тебе полезными, но основная моя задача вовсе не снять тебя с крючка. Я должен найти путь, должен проникнуть.
– Куда?
– В заговор. Кто подложил в подвал мечети бомбочку «Гома-2 ЭКО», которая взорвала шестого июня сто кило гексагена, разрушив жилой многоквартирный дом и детский сад.
– Хавьер Фалькон держит слово, данное им севильцам! – буркнул Кальдерон.
– Слово это никто не забыл, тем более я.
Наклонившись над столом, Кальдерон вперился взглядом в зрачки Фалькона, как будто желая проникнуть через них в его черепную коробку.
– Я различаю в этом подобие уже некой навязчивой идеи! – воскликнул он. – Но одиночные боевые действия, Хавьер, в полицейской работе нежелательны и бесперспективны. В каждом испанском доме престарелых найдется, наверно, вышедший в тираж детектив, который, глазея от нечего делать в окно, все еще прокручивает в голове загадки, так и оставшиеся неразгаданными, – очередная без вести пропавшая девчонка, побои, неизвестно кем нанесенные какому-нибудь бедолаге. Брось ты это дело. Никто и не ожидает, что ты все распутаешь!
– Но мне не устают напоминать об этом в управлении и во Дворце правосудия, – сказал Фалькон. – И что еще важнее, разгадки я жду от себя сам.
– Ну, в таком случае до встречи в психушке, Хавьер. Спротежируй мне там место у окошка, – сказал Кальдерон. Откинувшись на спинку стула, он разглядывал конус тлеющего в пепельнице пепла.
– На психушку я не согласен, – ответил Фалькон.
– Нет, ты определенно хочешь уложить меня на кушетку какого-нибудь психиатра, – сказал Кальдерон, изо всех сил стараясь говорить уверенно. – И знаешь что? Пошел ты на фиг вместе со всеми остальными. Сходите с ума как хотите, а меня не втягивайте, лучше в себе разберитесь. В особенности ты, Хавьер. Ведь еще пяти лет не прошло с последнего твоего «полного психического коллапса». Так, кажется, это формулировалось? А работаешь ты на износ. Ведь один бог знает, сколько ты рылся в материалах по взрыву, пока не принялся шерстить записи Зорриты, надеясь отыскать несообразности в моем деле! Тебе надо отдохнуть, проветриться. Кстати, как у тебя дела с Консуэло? Ты уже ее трахаешь?
– Лучше поговорим о том, что было в четыре часа утра в четверг восьмого июля, когда ты вернулся к себе на улицу Сан-Висенте, – сказал Фалькон и постучал по своей записной книжке. – По одной версии, ты, вернувшись, увидел Инес стоящей возле раковины и «был так рад ее увидеть», по другой же – ты почувствовал «раздражение», после чего – провал, а когда очнулся, ты лежал в коридоре, а встав и зайдя в кухню, увидел Инес на полу мертвой.
Кальдерон, казалось, проглотил комок в горле – так тяжело ему было в который раз воскрешать в темных глубинах памяти подробности той ночи. Он так часто это делал – чаще даже, чем повторяет дубль, оттачивая сцену, неумеренный в своей взыскательности кинорежиссер. Сейчас вновь перед ним мелькали кадры, отрывочные и в обратной последовательности, начиная с момента, когда луч фонарика патрульного выхватил из темноты его фигуру, склонившуюся над телом Инес, которое он пытается сбросить в реку, и вплоть до того блаженного и безгреховного состояния, в котором он вылез из такси и, поддерживаемый водителем, поднялся по лестнице в свою квартиру с единственным намерением как можно быстрее очутиться в постели. Эту деталь он ни за что бы не уступил – он твердо помнил, что в тот момент об убийстве он не помышлял.
– Такого намерения у меня не было, – вслух произнес он.
– Начни с начала, Эстебан.
– Послушай, Хавьер. Сколько раз я ни пытался все вспомнить – с начала, с конца или середины, – сколько бы ни старался, все равно в памяти словно провал какой! – Кальдерон закурил новую сигарету от окурка предыдущей. – Помню, что таксист отпер мне дверь, запертую на два оборота, и ушел. Войдя в квартиру, я заметил в кухне свет. Помнится, что я почувствовал раздражение – подчеркиваю: раздражение, а не злость и не желание убить. Я был раздосадован тем, что предстоит объяснение, когда единственное, чего хочется, – это плюхнуться в постель и забыться сном. Это я помню совершенно отчетливо, а затем – пустота, до того момента, когда я очнулся на полу в коридоре возле кухни.
– А что ты думаешь насчет теории Зорриты о том, что провалы в памяти обычно случаются у тех, кто хочет забыть совершенные ими злодеяния?
– В моей практике я с этим сталкивался, и, несомненно, теория эта имеет под собой почву. Свой случай я анализировал досконально и…
– Так что же может крыться за твоими словами, что ты увидел Инес живой и здоровой и испытал при этом радостное чувство?
– Мой адвокат говорит, что Фрейд называет это «воплощением желаемого», – сказал Кальдерон. – Если ты отчаянно желаешь чего-либо, твое сознание рисует, создает это для тебя. Я не хотел видеть Инес лежащей мертвой на полу. Я хотел, чтобы она оставалась живой, и желание мое было так сильно, что мой мозг совершил подмену, заменив реальность вымыслом, этим моим желанием. В сумбуре первого моего допроса у Зорриты всплыли обе эти версии.
– Ты должен понимать, что это основа всего твоего дела, – сказал Фалькон. – Противоречивые детали, которые я обнаружил, незначительны: Мариса роется в твоих карманах, побеждает в перебранке в Садах Мурильо, прижигает твою ногу зажигалкой. Все это пустяки в сопоставлении с твоим зафиксированным рассказом о том, как, войдя в запертую на два оборота дверь, ты увидел Инес живой, после чего отключился и очнулся, когда она оказалась мертва. Твое внутреннее смятение и вся эта чепуха насчет «воплощения желаемого» ничего не стоят в сравнении с непреложными фактами.
Кальдерон курил теперь еще более сосредоточенно. Потом он поскреб в своей редеющей шевелюре, левый глаз его дернулся.
– А почему ты считаешь Марису ключевой фигурой?
– Самое плохое, что могло случиться в решительный момент нашего расследования дела о взрыве, – это лишиться следственного судьи, отвечающего за связи с общественностью и арестованного по обвинению в убийстве жены. В результате был нарушен весь ход расследования. Если тебя опорочили намеренно, то главной исполнительницей была Мариса.
– Я поговорю с ней, – кивнув, сказал Кальдерон. Лицо его посуровело, челюсти были сжаты.
– Ни в коем случае, – сказал Фалькон. – На ее посещения наложен запрет, Эстебан. Я против того, чтобы ты с ней делился. Единственное, чем тебе всерьез следует заняться, – это постараться раскрыть тайники памяти и вспомнить каждую деталь, которая может оказаться мне полезной. И было бы желательно прибегнуть для этого к помощи профессионала.
– Ах, ну конечно! – вздохнул, догадавшись, Кальдерон. – Куда ж без психоаналитика!
4
Бордель «Пути-Клуб» в Эстепоне, Коста-дель-Соль, пятница, 15 сентября 2006 года, 14.30
Леонид Ревник все еще сидел за столом Василия Лукьянова в клубе, но на этот раз он ждал вестей от Виктора Беленького, своей правой руки. Получив контроль над побережьем вскоре после того, как в 2005-м полиция расчистила для этого почву, он первым долгом привлек Беленького в качестве главы строительного бизнеса, что давало возможность отмывать деньги, получаемые от распространения наркотиков и продажи живого товара. У Беленького был приличный вид благовоспитанного человека – красивый, лощеный, успешный бизнесмен, к тому же свободно говоривший по-испански. Впрочем, вся эта благовоспитанность была лишь внешней оболочкой, дорогой упаковкой, внутри которой притаился зверь, чьи вспышки неукротимой ярости пугали даже самых свирепых психопатов из окружения Ревника и его клевретов. Но Беленький умел быть и обаятельно-дружелюбным и на удивление щедрым, особенно к тем, кто спешил выполнить любое его распоряжение. В результате он завязал тесные связи в полиции, в Гражданской гвардии, и некоторые офицеры-гвардейцы хранили у себя в гаражах толстые пачки купюр, переданных им Беленьким. Леонид Ревник надеялся разузнать через Беленького, где осели деньги и диски, которые Лукьянов выкрал из клубного сейфа. Сейчас он курил свою третью на дню сигару. Сейф был все еще распахнут, и пустая утроба его зияла, выставленная на обозрение. Кондиционер в комнате барахлил, и Леонид обливался потом. Лежавший на столе мобильник зазвонил.
– Виктор, – произнес Ревник.
– Я немножко запоздал со звонком. Добыть информацию оказалось не так просто, потому что дело это, строго говоря, вне юрисдикции моего знакомого, – сказал Беленький. – Отряд, прибывший на место аварии, базируется в Утрере, городке неподалеку от Севильи. Обнаружив деньги, полицейские доложили по начальству в Севилью и, поскольку сразу же стало ясно, что это не рядовая автокатастрофа, а жертва – человек не простой, инструкций, что делать, испросили на самом верху, у комиссара Эльвиры.
– Черт… – прошипел Ревник.
– Ну а он передал полномочия старшему инспектору Хавьеру Фалькону. Помнишь его?
– Его каждый помнит еще с того взрыва в июне, – сказал Ревник. – Так куда же все это пошло?
– В управление полиции в Севилье.
– А найдется там у нас кто-нибудь?
– Как иначе я бы все это узнал?
– Ладно. Каким же образом нам это вернуть?
– С деньгами ты можешь попрощаться, – сказал Беленький. – Едва с ними покончили эксперты, как деньги тут же были отправлены в банк! Не фургон же захватывать!
– Да плевать мне на деньги, ей-богу, но вот… Да, ты прав. Другое дело диски. С чем бы нам подлезть к Фалькону?
– Купить его нельзя. И не мечтай.
– Так что же нам остается?
– Как всегда. Действовать через женщину, – сказал Беленький. – Имеется некая Консуэло Хименес.
– Ну да, – сказал Ревник. – На все найдется баба.
Остановившись на красный свет, Фалькон разглядывал свое лицо в зеркальце заднего вида, пытаясь отыскать в глазах следы навязчивой идеи, о которой говорил Кальдерон. Разглядывать красноречивые темные круги под глазами не было нужды: он и без того знал по легкой одеревенелости левой руки, по онемению, которое он ощущал в правой ноге, – знал, что гнездившаяся в нем и не дававшая ему покоя тревога начала уже выходить наружу.
Работа давила Фалькона своей тяжестью, как переполненный, плохо уложенный рюкзак, сбросить который ни на минуту даже в ночные часы нет возможности. По утрам он просыпался с помятым лицом, потому что проваливался в сон лишь за час до рассвета и спал этот час мертвецким сном. Каждая косточка в нем ныла и скрипела. Результат недельного отпуска, взятого им в конце августа и проведенного в Марокко в обществе друга Якоба Диури и в кругу его семейства, улетучился по возвращении после первого же рабочего дня.
Сзади завыла автоматическая сирена. Он вильнул в сторону, и фары проскочили мимо. Через Пуэрто-Осарио он въехал в старый город и, кое-как припарковавшись возле церкви Сан-Маркос, прошел пешком по улице Бустос-Тавера к пешеходному туннелю, соединявшему улицу с четырехугольником сарайчиков и мастерских, где находилась студия Марисы Морено. Его шаги по булыжному покрытию гулко раздавались в пустоте темного перехода. Вынырнув из туннеля, он, морщась от яркого света, увидел дворы и обрамлявшие его покосившиеся, полуразрушенные строения. Сквозь щели в стенах пробивалась трава, кое-где виднелись опорные балки, кучи металлического хлама и выброшенные холодильники.
По пожарной лестнице он поднялся к двери над каким-то сараем. Изнутри слышалось шарканье и глухое постукивание.
– Кто там?
– Полиция.
– Momentito. [5]5
Минуточку (исп.).
[Закрыть]
Дверь открыла высокая стройная мулатка. У нее была очень длинная шея, а в утянутых назад медно-рыжих волосах Фалькон заметил мелкие щепочки. Опилки прилипли и к щекам. На женщине был ярко-синий халат, надетый на голое, в одних только трусах, тело. Ее лоб и переносицу покрывали капли пота. Пот стекал и на обнаженные ключицы. Она тяжело дышала.
– Мариса Морено? – осведомился Фалькон, показывая полицейское удостоверение. – Я старший инспектор Хавьер Фалькон.
– Я уже раз двести рассказывала старшему инспектору Луису Зоррите все, что знаю, – сказала женщина. – Прибавить к этому мне нечего.
– Я пришел поговорить с вами о вашей сестре.
– Моей сестре? – удивленно протянула женщина. Но лицо ее, как это тут же отметил Фалькон, застыло от страха.
– У вас имеется сестра по имени Маргарита.
– Имя моей сестры мне известно.
Фалькон выдержал паузу, надеясь, что Марисе захочется прервать молчание каким-либо дополнительным кусочком информации. Но она лишь сверлила его взглядом, пока он не отвел глаза.
– Вы заявляли о ее исчезновении в тысяча девятьсот девяносто восьмом году, когда сестре вашей еще не было семнадцати.
– Войдите, – сказала Мариса, – и ничего не трогайте.
Пол студии в тех местах, где отвалилась плитка, был грубо залатан рыжим цементом. В воздухе стоял запах свежеструганого дерева, скипидара и масляных красок. Повсюду валялись щепки и кусочки дерева, а в углу высилась куча опилок. С поперечной балки свисал толстый, способный выдержать целую мясную тушу крюк с электропилой, цепь которой была перекинута через балку.
Под этим замусоленным, в пятнах масла и опилках инструментом стояли три отполированные деревянные фигуры. Фигуры были темные, одна из них – без головы. Чтобы отыскать себе место, Фалькону пришлось обойти скульптуру кругом. Фигура без головы была женской, с высокими, безукоризненно круглыми грудями. Две статуи по бокам изображали мужчин с невыразительными лицами и пустыми глазами. В напряженно вздувшихся мускулах мужчин было что-то дикарское, яростное. Преувеличенные размеры гениталий, несмотря на вялое их состояние, таили в себе угрозу; казалось, что этих мужчин утомило недавнее насилие.
Мариса следила за реакцией Фалькона, ожидая от него очередной пошлости. Ей еще не встречался белый мужчина, который воздержался бы от критических замечаний по поводу ее скульптур, а эти ее воины с их огромными пенисами всегда вызывали восторг, одновременно толкая зрителей отпустить какую-нибудь скабрезность. Но Фалькон, как она убедилась, даже бровью не повел, лишь беглая гримаса отвращения мелькнула на его лице при взгляде на скульптуру.
– Так что же произошло с Маргаритой? – спросил он, переключая внимание со скульптур на Марису. – Двадцать пятого мая тысяча девятьсот девяносто восьмого года вы заявили о её исчезновении, а когда месяц спустя полиция явилась к вам с проверкой, вы объяснили, что она вернулась через неделю после того, как пропала.
– Да наплевать им на все это было! – воскликнула Мариса, потянувшись за не докуренной сигаретой и вновь поднеся к ней огонь. – Записали ее приметы, а потом – ни слуху ни духу. На звонки не отвечали, а когда я сама пошла к ним в полицию, они прогнали меня, сказали, что она наверняка с каким-нибудь парнем сбежала. Считают, что если мулатка и хорошенькая, значит, только и делает, что трахается напропалую! Я уверена, что они даже палец о палец не ударили.
– Но она ведь и вправду сбежала в Мадрид со своим дружком, разве не так?
– То-то им радости было, когда они это узнали!
– Ну а как это все восприняли ваши родители? – спросил Фалькон. – Ведь Маргарита тогда была еще ребенком.
– Родителей не было – умерли. Видите, полиция это, наверно, даже в бумаги не внесла! Отец умер в тысяча девятьсот девяносто пятом на севере, в Хихоне, а мама умерла в Севилье в тысяча девятьсот девяносто восьмом, и Маргарита исчезла спустя два месяца после ее смерти. Она очень переживала. Почему я так и волновалась за нее.
– Отец ваш был кубинцем?
– Сюда мы приехали в тысяча девятьсот девяносто втором. На Кубе это было непростое время. После разрушения Берлинской стены в тысяча девятьсот восемьдесят девятом русская помощь перестала поступать. А в Хихоне было большое кубинское землячество, вот мы и осели там.
– А как познакомились ваши родители?
– У отца был клуб в Хихоне. А мама была танцовщицей из Севильи, исполнительницей фламенко. Она приехала в Хихон, чтобы выступить на ежегодной Черной ярмарке, которая длится неделю. Отец и сам неплохо танцевал сальсу, а кроме того, есть еще и так называемое «кубинское фламенко». Так что знакомство для обоих оказалось полезным – они обучали друг друга, а после мама совершила ошибку, которую совершают многие женщины.
– Судя по всему, она вам не родная мать, правда?
– Правда. Что случилось с родной, нам неизвестно. Она была кубинкой испанского происхождения, белая, причастна к политике. Исчезла вскоре после рождения сестры в тысяча девятьсот восемьдесят первом году.
– Вам было тогда семь лет.
– Рядовой случай исчезновения, – сказала Мариса. – Подобное на Кубе было тогда в порядке вещей. Отец никогда не распространялся на эту тему.
– Так кто же занимался детьми?
– У отца была череда подружек. Некоторые из них занимались нами, другие – нет.
– А чем зарабатывал ваш отец на Кубе?
– Имел какую-то должность в правительстве. Что-то по линии сахара, его экспорта, – сказала Мариса. – Я так поняла, что вы пришли поговорить о сестре, и разговор наш начинает меня удивлять.
– Мне всегда хочется разобраться в семейной истории тех, с кем я беседую, – сказал Фалькон. – Из ваших слов выходит, что жизнь ваша была далека от нормальной.
– До тех пор пока в ней не возникла мачеха. Она была доброй женщиной и любящей. Она всерьез занималась нами, и впервые в жизни мы почувствовали, что нас любят. И за отцом она ухаживала, когда он умирал.
– А от чего он умирал?
– Рак легких. Слишком сигарами злоупотреблял. – Мариса взмахнула рукой с зажатым в ней сигарным окурком. – А женился на ней он лишь тогда, когда узнал диагноз.
Мариса выпустила вверх, в потолочные балки, облачко дыма. Гасить сигару ей не хотелось. Еще немного, и этот новый старший инспектор, быть может, оставит ее в покое.
– Что сталось с вами после смерти отца? – спросил Фалькон.
– Мы переехали сюда. На севере матери стало невмоготу. Все эти бесконечные дожди…
– Ну а ее родные?
– Родители у нее умерли. Оставался брат в Малаге. Но он черных не очень-то жаловал и даже на свадьбу ее не приехал.
– От чего же умерла ваша матушка?
– От сердечного приступа. – Глаза Марисы влажно блеснули воспоминанием.
– Это случилось на ваших глазах?
– Я была тогда в Лос-Анджелесе.
– Сочувствую, – сказал Фалькон. – Думаю, это явилось для вас тяжелым переживанием. Тем более она была не старой.
– Пятьдесят один год.
– А незадолго до смерти вы с ней виделись?
– Вам-то что за дело! – Она отвернулась, ища глазами пепельницу.
Чего он к ней лезет, этот коп!
– Моя мать умерла, когда мне было пять лет, – сказал Фалькон. – Но пять или пятьдесят пять – разницы нет. Такое не забывается и никогда не забудется.
Мариса медленно обернулась к нему: слышать подобное от севильца, да еще и полицейского, было ей в диковинку.
– Итак, вы вернулись из Лос-Анджелеса, чтобы впредь оставаться здесь?
– И оставалась здесь целый год, – сказала Мариса. – Я считала, что мой долг – заботиться о сестре.
– Что же было потом?
– Она опять сбежала. Но на этот раз ей было уже восемнадцать и…
– И с тех пор от нее ни слуху ни духу?
Последовала долгая пауза, во время которой мысли Марисы, казалось, витали где-то далеко, и Фалькон впервые решил, что нащупал верный путь.
– Сеньора Морено? – окликнул он ее.
– Да… больше я о ней ничего не слышала.
– Вы беспокоитесь о ней?
Она пожала плечами, и Фалькон неизвестно почему почувствовал, что от ответа ее ничего не зависит, потому что правды она не скажет.
– Мы с ней были не так уж близки, почему она и в первый раз исчезла, ничего мне не сказав.
– Вот как? – произнес Фалькон, и взгляды их скрестились. – И что же вы сделали, когда ваша сестра сбежала во второй раз?
– Окончила курс в Школе изящных искусств, сдала квартиру, которую мы с сестрой унаследовали после смерти матери.
– Это та самая квартира, где вы и сейчас живете, на улице Иньеста?
– Да. – Она кивнула. – И отправилась в Африку. В Мали, Нигер, Нигерию, Камерун и Конго, пока там не стало слишком уж опасно. Потом был Мозамбик.
– Ну а туареги? Вы ведь некоторое время и среди них жили.
Молчание, пока Мариса переваривала свидетельство, что некоторые вещи инспектор узнал не от нее.
– Если вам и без того все известно, господин старший инспектор, то зачем было тревожить меня?
– Пусть так, но всегда хочется все расставить по полочкам.
– Я согласилась поговорить с вами о моей сестре.
– С которой вы не так уж близки.
– Но в процессе разговора круг ваших интересов, похоже, расширился и вы стали злоупотреблять моим рабочим временем.
– А потом был еще и Нью-Йорк, не так ли?
Она невнятно буркнула что-то утвердительное и пыхнула сигарой, вновь раскуривая ее.
– Это вам Эстебан сообщил, да?
– Почему вы догадались?
– Я соврала ему насчет Нью-Йорка, – сказала она. – Я посмотрела картину о художнике с Ником Нольте и примерила на себя роль его ученицы и подмастерья. Ни в каком Нью-Йорке я не была.
– Вы врали ему и в других случаях?
– Наверно. Я выдумала образ и подстраивалась под него.
– Образ?
– Такой, какими большинство моих мужчин представляют женщин.
– Старшему инспектору Зоррите вы сознались, что Кальдерон – ваш любовник.
– Он и был тогда им… как и сейчас, хотя тюрьма, конечно, сохранению отношений не способствует, – сказала она. – Мне жаль, что он убил свою жену. Он был всегда таким сдержанным, знаете ли, при всей своей севильской страстности умел держать себя в узде. Ведь он юрист и юрист до мозга костей…
– Так вы полагаете, что убийца он?
– Что полагаю я – не важно. Важно то, что полагает старший инспектор Зоррита, – сказала она. Внезапно в мозгу у нее словно что-то щелкнуло: – Да, конечно, теперь до меня дошло! Ведь Эстебан убил вашу бывшую жену! Интересно получается.
– Интересно?
– Непонятно только, что привело вас сюда, ко мне, – сказала она, пыхтя сигарой и меряя его взглядом, словно впервые.
– А во второй раз ваша сестра тоже сбежала с парнем?
– Где Маргарита, там всегда замешаны мужчины.
– Она хорошенькая, да?
– Но и не только это.
– Сексуальна?
– Не совсем то слово, – сказала Мариса и, пройдя к небольшому бюро и выдвинув ящик, похлопала ладонью по лежащей там сверху пачке фотографий, словно собираясь поделиться с ним, вернее, притвориться, что делится и проявляет откровенность. – Взгляните-ка. Эти снимки я сделала за три недели до ее восемнадцатилетия.
Фалькон проглядывал снимки, и в сердце его поселялась грусть. При всей своей дерзкой обнаженности фигура девушки и ее позы не казались сексуальными. Даже лежа с раскинутыми ногами, она производила впечатление невинности, влекущей увидевших ее мужчин эту невинность осквернить. Для этого Мариса и сделала эти снимки, которые никто другой сделать и не мог. Даже в самых вызывающих порнографических позах Маргарита на снимках сохраняла какую-то детскую чистоту, и именно эта чистота пробуждала в мужчинах зверя, звериная природа их поднимала голову и, встряхнувшись и оправив мохнатую шкуру, начинала свой дикарский танец.
– Для севильца вы не слишком-то велеречивы, господин старший инспектор.
– Что тут скажешь? – отвечал он, откладывая в сторону снимки, просмотренные им лишь наполовину. Он разгадал намерение женщины, и оно ему не понравилось. – Соответствующее впечатление они производят.
– Я первому вам их показываю.
– Хотелось бы увидеть фотографию Маргариты в одежде, – сказал он, – с тем, чтобы можно было начать ее поиск.
– Она не пропала, – возразила Мариса. – И искать ее вовсе не надо.
– Однако я уверен, что вам хотелось бы что-то о ней знать. Ведь правда же?
Мариса вновь передернула плечами, словно бы смущенно, и передала ему поясную фотографию Маргариты.
– Вы часто рылись в карманах у Эстебана, – сказал Фалькон, беря у нее из рук фото. – Зачем вы это делали? То есть я понимаю, что вы художник, об этом свидетельствуют ваши работы, а значит, вы любопытны и жадны до деталей, но думаю, что детали эти не из тех, что можно обнаружить в мужских карманах.
– Моя мама тоже имела эту привычку – обыскивала отца, когда он заявлялся домой в семь утра. Ей надо было удостовериться в том, что она и без этого знала.
– Это ничего не объясняет, – сказал Фалькон. – Я понял бы, зачем Инес понадобилось бы его обыскивать, но вы? Что вы искали там, в его карманах? Вы же знали, что он женат и не очень счастлив в браке. Что же еще хотели вы узнать?
– Моя мать происходила из очень консервативной севильской семьи. Что это была за семья, видно по ее брату. А в сорок пять лет у нее завязались отношения с чернокожим, отплатившим ей тем, что трахал всех, на кого только падал глаз. И ее врожденный буржуазный инстинкт…
– Ее, но не ваш же! Она же вам не родная.
– Мы обожали ее.
– И это ваше единственное объяснение?
– Вы удивляете меня, старший инспектор!
– Ключи? – спросил он, прерывая этот ее неуместный всплеск подчеркнутого, с поднятыми бровями удивления.
– Что?
– Вы рыскали в поисках ключей.
– Это как раз то, что меня особенно удивляет, – сказала Мариса и, положив замусоленный сигарный окурок, выплюнула табачные крошки. – Зоррита объявил мне с некоторым даже торжеством, что сумел выстроить совершенно неопровержимое обвинение Эстебана в убийстве его жены, которая, кстати, была и вашей бывшей женой, и тут приходите вы и пытаетесь исподволь совершить подкоп, опровергнуть все им наработанное, а зачем вы это делаете, понять я не могу!
– Вы заимели ключ для того, чтобы самой проникнуть в квартиру, или же хотели сделать дубликат для передачи его кому-то другому?
– Знаете, инспектор, однажды я обнаружила у него презервативы, хотя со мной он ими никогда не пользовался, – сказала Мариса. – А после такой находки всякая женщина будет настороже и захочет проверить, не уменьшилось ли их количество.
– Я переговорил с начальником тюрьмы, и мы приостановили ваши с ним свидания.
– Почему?
– Я посчитал, что так будет лучше.
– Считайте как вам будет угодно.
Фалькон кивнул. Тут взгляд его упал на какой-то предмет под столом. Наклонившись, он подкатил предмет к себе. Это оказалась деревянная голова – окрашенная и отполированная. Он приблизил ее к свету. На него глядело чистое и бесхитростное лицо Маргариты. Глаза ее были закрыты. Фалькон провел пальцем по неровному краю, там, где в шею вгрызалась пила.
– Что оказалось не так? – спросил он.
– Художественное видение изменилось, – отвечала Мариса.
Фалькон направился к двери, поняв, что первая стадия работы завершена. Голову он передал Марисе.
– Слишком хороша? – осведомился он. – Или не в этом дело?
Мариса слушала его шаги на пожарной лестнице и глядела на вырезанное из дерева лицо сестры. Она гладила веки, нос, рот. Державшая голову рука подрагивала под тяжестью дерева. Она положила голову, взяла лежащий на рабочем столе мобильник и позвонила.
Визит копа доставил ей беспокойство и раздосадовал, но, как ни удивительно, сам этот человек антипатии к себе не вызвал и даже понравился. А мало кто из мужчин Марисе нравился, особенно из белых мужчин, а уж из полицейских – тем более.
Леонид Ревник неподвижно сидел за столом. Подручных своих он прогнал – позвать кого-нибудь, чтобы починили кондиционер. Ревник пил водку Лукьянова из оставшейся в холодильнике бутылки. Виктор Беленький так и не позвонил. Леонид твердил себе, что необходимо расслабиться, но бицепсы его и мускулы на груди под рубашкой оставались каменно-сжатыми. На столе зазвонил городской телефон. Леонид с подозрением покосился на аппарат: кто это в наши дни пользуется стационарным телефоном? Подняв трубку, он машинально отозвался на звонок по-русски. Ему ответил женский голос – тоже по-русски. Женщина спросила Василия Лукьянова.
– Кто это? – поинтересовался он, уловив чужеземный акцент.
– Меня зовут Мариса Морено. Я попробовала позвонить Василию по мобильнику, но он не отвечает. А этот номер он дал мне в качестве второго.
Это та кубинка. Сестра Риты.
– Василия здесь нет. Может быть, я могу помочь? Я его босс, – сказал Ревник. – Если хотите что-нибудь передать, то я передам.
– Он велел мне позвонить, если что-то пойдет не так.
– А что случилось?
– В мою мастерскую явился коп из отдела убийств, некий старший инспектор Фалькон, и начал расспрашивать меня о моей сестре Маргарите.
И вновь это имя, этот Фалькон.
– И что ему от нее надо?
– Он сказал, что хочет ее разыскать.
– И что сказали вы?
– Сказала, что искать ее нет необходимости.
– Хорошо, – сказал Ревник. – Еще кому-нибудь об этом сообщали?
– Я оставила сообщение на мобильнике Никиты.
– Соколова? – произнес он, едва сдерживая негодование от необходимости произносить еще одно ненавистное имя предателя.
– Да.
– Вы все сделали как надо, – сказал Ревник. – Все будет под контролем. Не волнуйтесь.