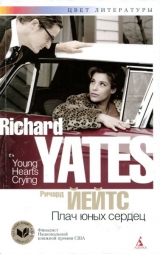
Текст книги "Плач юных сердец"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Глава третья
Таверна «Белая лошадь» на Хадсон-стрит оказалась самым подходящим местом для их собраний. Обычно они приходили туда вчетвером – Билл, Диана и Дэвенпорты, – но не так уж редко выдавались и более веселые вечера, когда Пол Мэйтленд приводил Пегги и вся компания усаживалась вокруг большого коричневого стола, всегда немного влажного, чтобы выпить, поговорить, посмеяться, а иногда и спеть. Майклу нравилось петь; он гордился, что помнит наизусть слова самых малоизвестных песен и, кроме того, знает, когда закончить, хотя в иные вечера Люси все же приходилось бросать на него хмурые взгляды или толкать в бок, чтобы он замолчал.
Все это было незадолго до смерти Дилана Томаса [11]11
Дилан Томас умер в Нью-Йорке 9 ноября 1953 г. Он приехал в город незадолго до этого для участия в поэтических фестивалях и стал на пару недель завсегдатаем «Белой лошади».
[Закрыть], после которой «Белая лошадь» прославилась на весь мир («А мы так ни разу его и там и не застали, – спустя много лет жаловался Майкл. – Черт знает что: сидеть в „Лошади“ почти каждый вечер и так его и не увидеть. Как можно было не заметить такое лицо? Господи, я даже не знал, что он умер в Америке»).
После этой смерти весь Нью-Йорк, похоже, воспылал желанием выпивать каждый вечер в «Белой лошади», и место утратило свою былую привлекательность.
Впрочем, к весне Дэвенпортов не привлекал уже и сам город. Их дочери исполнилось четыре, и мысль о переезде в пригород представлялась в этой ситуации верхом благоразумия – при условии, конечно же, что до города легко можно будет добраться на электричке.
Они остановили свой выбор на Ларчмонте [12]12
Ларчмонт – пригород Нью-Йорка, расположенный в 30 километрах от центра Манхэттена, на берегу пролива Лонг-Айленд.
[Закрыть], потому что он показался Люси более «цивилизованным», чем остальные, куда они съездили, а в доме, который они нашли, было все, что им сейчас нужно. Он был симпатичный: здесь хотелось работать, здесь хотелось отдыхать; сзади к дому примыкал хороший, поросший травой дворик, где могла играть Лаура.
– Предместья! – возвестил Билл Брок с интонацией человека, только что увидевшего на горизонте берег нового континента, и замахал бутылкой бурбона, которую привез в подарок на новоселье.
Рядом с ним, обхватив его руку и от смеха уткнувшись лицом ему в пальто, стояла Диана Мэйтленд и всем своим видом демонстрировала, что именно такого рода эскапады ей больше всего в нем нравятся.
И пока они медленно поднимались, преодолевая безудержное веселье, по короткой дорожке, ведущей от ларчмонтского тротуара к ларчмонтской резиденции Дэвенпортов, Билл демонстрировал явное нежелание отказываться от своей клоунады.
– Боже! – проговорил он. – Вы только посмотрите! Посмотрите на себя! Вылитые новобрачные из фильма про любовь или из журнала «Гуд хаускипинг» [13]13
«Гуд хаускипинг» – ежемесячный женский журнал, выходящий в США с 1859 г. и в Великобритании с 1911 г.
[Закрыть].
Дэвенпортам ничего не оставалось, кроме как продолжать изо всех сил подыгрывать гостям, даже когда они уселись для разговора в гостиной со стаканами в руках, хотя Майкл начал уже надеяться, что насмешки вскоре иссякнут. Но Билл Брок и не думал заканчивать: не выпуская стакана из руки, он простер указательный палец и остановил его сначала на Люси, а потом на Майкле (они сидели на диване) и произнес:
– Блонди и Дагвуд! [14]14
Блонди и Дагвуд – герои популярных комиксов, публиковавшихся в газетах с 1930 г. Позже на основе комиксов стали снимать фильмы и сделали радиопрограмму. Блонди и Дагвуд жили в пригороде города Джоплин, штат Миссури. Дагвуд каждый день ездил в офис, где над ним измывался его начальник Юлий Цезарь Дитерс, и жил под постоянным страхом увольнения, а Блонди проводила свои дни дома, с двумя детьми и собакой.
[Закрыть]
И Диана чуть не упала со стула. Первый раз в жизни она показалась Майклу неприятной. Но что еще хуже, во второй раз это случилось в тот же вечер, когда разговор давно уже перешел к другим предметам и от напряженности не осталось и следа. Брок, отчасти как бы извиняясь за свои выходки, выразил вполне серьезное желание осмотреть город, и они вчетвером совершили долгую прогулку по его тенистым улочкам. Майкл даже было обрадовался, потому что лучшего момента для осмотра Ларчмонта было не придумать: в темноте гнетущее сияние его чистоты смягчалось, и городок казался приветливым. Горящие окна, проглядывавшие сквозь зелень в каждом доме, словно бы говорили об умиротворенности, порядке и заслуженном покое. Было очень тихо, и в воздухе разливался чудесный аромат.
– Нет, я вполне понимаю привлекательность таких мест, – говорил Билл Брок. – Здесь все ровненько, никакой халтуры, все работает. Наверное, к этому и стремишься, когда у тебя жена, семья и все такое. На самом деле миллионы людей пожертвовали бы всем чем угодно, только бы им дали возможность пожить в таких условиях, – например, многие из тех, с кем я работаю в профсоюзе, сюда подались. Но есть люди, которые просто по складу характера здесь не приживутся. – И тут он слегка подтолкнул свою девушку. – Можешь представить, чтобы Пол жил в таком месте?
– Боже! – тихо проговорила Диана и вздрогнула так явно, что эта дрожь еще долго отдавалась у Майкла в спине. – Да он бы тут сдох. Точно бы сдох, без вариантов.
– Она что, черт возьми, не понимала, какую бестактность сказала? – обрушился Майкл на жену, когда гости уже ушли. – За кого она нас принимает? И зачем было устраивать такой балаган из-за одной дурацкой шуточки про Блонди и Дагвуда?
– Я знаю, – уверила его Люси. – Знаю. Какой-то дурацкий вечер вышел.
Но он был рад, что сорвался первым. Если бы он сдержался, Люси могла бы не выдержать, и, если бы не выдержала она, ее реакцией был бы не гнев, а скорее слезы.
В углу на чердаке ларчмонтского дома он устроил себе рабочий закуток – небольшой, но укромный – и весь день только и ждал того часа, когда сможет там уединиться. У него возникло ощущение, что книга вновь обрела форму, что она будет готова, если только ему удастся закончить последнее стихотворение – длинную, масштабную вещь, которая должна была оправдать и подтянуть к себе все остальные стихотворения. Он уже подобрал для нее рабочее название, «Если начистоту», но некоторые строчки никак не хотели оживать, упорно противясь всем его усилиям: целые периоды готовы были испариться или рухнуть у него под рукой. Чаще всего он работал на чердаке до полного изнеможения, но бывали дни, когда ему не удавалось собраться с мыслями и он сидел оцепенелый, в каком-то безразличном параличе, курил и изводил себя презрением до тех пор, когда уже надо было идти спать. Но даже в этом случае ему не хватало ночного сна, чтобы почувствовать себя готовым к напору и толчее ларчмонтского утра.
Едва за ним захлопывалась входная дверь, его подхватывал и уносил за собой плотный поток шагающих к станции людей. Это были мужчины его возраста, мужчины на десять и двадцать лет его старше, некоторым было даже за шестьдесят, и казалось, что они испытывают гордость от самого своего единообразия: темные с иголочки деловые костюмы с консервативными галстуками, начищенные до блеска ботинки, ступающие по тротуару едва ли не строевым шагом. Редко кто шел один; почти у всех был как минимум один собеседник, но чаще они передвигались стайками. Майкл предпочитал вообще не смотреть по сторонам, чтобы случайно не привлечь к себе товарищеской улыбки, – на кой черт ему все эти люди! – однако особой радости от одиночества тоже не испытывал, потому что слишком уж это все было похоже на армию: то же ощущение, что приходится тихо помалкивать в сторонке, когда вокруг тебя вовсю смеются и разговаривают люди, давно приспособившиеся к службе. Всего острее этот дискомфорт ощущался на станции, куда все заходили гуськом, чтобы тут же рассредоточиться по группам: там было совершенно нечего делать. Приходилось стоять в сторонке и ждать.
В один из таких моментов он заметил еще одного незнакомца: тот стоял у стены в полном одиночестве, уставившись сквозь очки в металлической оправе на зажженную сигарету, как будто курение требовало от него полной сосредоточенности. Он был ниже Майкла, выглядел моложе, да и одет был совершенно неправильно: вместо пальто на нем была армейская куртка танкиста – прочная ветровка на молнии, бывшая в свое время предметом всеобщего вожделения в сухопутных войсках, потому что выдавали ее только тем, кто ездил на танках и бронированных десантных машинах.
Майкл пододвинулся к нему, чтобы тот мог расслышать вопрос:
– Из танковой дивизии?
– Как?
– Просто хотел поинтересоваться: во время войны вы, наверное, служили в танковой дивизии?
Вопрос привел молодого человека в полное недоумение: глаза за стеклами очков несколько раз моргнули.
– А, куртка, – наконец проговорил он. – Не, просто купил ее у одного парня, и все.
– Понятно.
Майкл уже знал, что, если он скажет: «Что же, удачная покупка; хорошо иметь такую вещь», он почувствует себя еще большим идиотом, поэтому промолчал и решил тихонько отойти.
Но незнакомцу явно не хотелось оставаться в одиночестве.
– Не, на войне я не был, – сказал он с той же поспешностью и непроизвольным чувством вины, с какими эту фразу всегда выдавал Билл Брок. – Я попал в армию только в сорок пятом, и в Европу меня так и не отправили. Закончил войну на базе Бланчард-Филд в Техасе.
– Ах вот как!
Открывались новые возможности для разговора.
– Я тоже просидел некоторое время в Бланчарде в сорок третьем, – сказал Майкл. – Вот уж где мне совсем не хотелось оставаться. И что вы там у них делали?
По лицу молодого человека прошла легкая, не лишенная язвительности судорога отвращения.
– Я был в оркестре, – сказал он. – В долбаном военном оркестре. Я, видишь ли, имел неосторожность сказать одному кадровику, что играл когда-то на барабанах, и сразу после базовой подготовки они повесили на меня этот чертов барабан. Строевой. Трам-пам-пам! Трам-пам-пам! Построения в парадной форме, построения по поводу выхода в отставку, построения для церемоний награждения и дальше по списку. Бог мой, я думал, что никогда оттуда не выберусь.
– Так ты, значит, музыкант? На гражданке?
– Не совсем, в профсоюз пока не вступил, но постучать люблю. А ты что делал в Бланчарде? Базовую подготовку?
– Стрельбу.
– Ого! – Теперь молодой человек смотрел на него как мальчишка – широко открытыми от восторга глазами. – Так ты бортстрелок?
Разговор приобретал тот же приятный оборот, что и в Гарварде или в редакции «Мира торговых сетей»: Майкл должен был лишь отвечать на вопросы – чем короче, тем лучше, – и, пока отвечал, чувствовал, как приобретает все больший вес в глазах собеседника. Ну да, летал на боевые задания – Восьмая воздушная армия, летали из Англии; нет, его ни разу не сбили и даже не ранили, хотя пару раз чуть не обделался от страха; конечно, это правда, что девушки в Англии замечательные; да – нет; да – нет.
И теперь, как и раньше, ему тоже удалось сменить тему раньше, чем собеседник мог продемонстрировать какие-либо признаки угасающего интереса. Он спросил молодого человека, как долго тот живет в Ларчмонте (год всего-навсего) и женат ли он.
– Конечно, как и все. Кто здесь не женат? Для этого Ларчмонт и существует, старина.
У него было четверо детей, все мальчики, все погодки.
– У меня жена католичка, – объяснил он. – Упрямая на этот счет до жути. Дико долго упрямилась. Думаю, теперь я ее уже переубедил, хотя… в общем, надеюсь, что переубедил. Я в принципе-то не против: они хорошие, милые, но четверо – это очень много.
Потом он спросил Майкла, где тот живет:
– Ого, да у вас целый дом! Здорово! У нас только верхняя квартира. Но все равно здесь лучше, чем в Йонкерсе [15]15
Йонкерс – один из ближайших к Нью-Йорку городов-спутников; расположен к северу от Манхэттена.
[Закрыть]. Мы три года прожили в Йонкерсе; не хотел бы я снова через это пройти.
Когда грохот возвестил о прибытии поезда, они успели обменяться рукопожатиями и познакомиться (молодого человека звали Том Нельсон), и уже на платформе Майкл заметил, что тот несет с собой нечто похожее на неплотно свернутые в трубочку бумажные полотенца, прихваченные посредине резинкой. Только это были не полотенца: бумага не такая мягкая и не совсем чистая. Судя по пятнам и общей потрепанности, это были старательно оформленные таблицы с техническими спецификациями для запчастей или оборудования, которые потребовались начальнику Тома Нельсона (владельцу гаража? начальнику где-нибудь на стройке?) и которые Том Нельсон разыскивал потом целыми днями на складах в каком-нибудь унылом месте типа Лонг-Айленда.
Так что из поездки в город в компании Тома Нельсона можно будет извлечь по крайней мере пару-тройку грустных или смешных историй и вечером рассказать Люси об этом неудачнике, в такой ранней молодости награжденном по милости Церкви четырьмя детьми, об этом жалком кривляке с тарарарамским строевым барабаном на шее, месившем пыль на базе Бланчард-Филд и не заслужившем даже своей танковой куртки, не говоря уж о профсоюзном билете.
Первые несколько минут в вагоне прошли в молчании; они сидели бок о бок, и каждый, похоже, пытался придумать новую тему для разговора. Наконец Майкл спросил:
– Когда ты был в Бланчарде, там все еще проводили турниры по боксу?
– Ага, был у них такой пунктик. Так сказать, безотказное средство для поднятия боевого духа. Любишь смотреть?
– По правде сказать, – признался Майкл, – я в них участвовал. В среднем весе. Дошел до финала, но там один сержант-снабженец разнес меня своими левыми джебами; никогда не встречал человека с таким джебом, впрочем, с правыми у него тоже проблем не было. Технический нокаут в восьмом раунде.
– Черт! – сказал Нельсон. – У меня с моим зрением, конечно, никогда бы ничего такого не вышло, но, даже если бы не зрение, я все равно, наверное, не стал бы. Дойти до финала! Ничего себе! Чем же ты теперь занимаешься?
– Я писатель – ну или как минимум пытаюсь. Стихи и пьесы. Поэтический сборник почти готов; пару моих пьес несколько раз играли в окрестностях Бостона. Но пока суд да дело, я нашел себе дурацкую подработку в городе. Пишу рекламу. Просто чтобы заработать на жизнь.
– Ого! – Том Нельсон взглянул на него с подчеркнутым добродушием, явно намереваясь подшутить. – Бог мой! Пулеметчик, боксер, поэт, драматург. Такое впечатление, что я тут разговариваю с титаном Возрождения.
При всем своем дружелюбии шутка была не из приятных. Вот ведь гаденыш! Сам-то он кто? Но что противнее всего, Майкл должен был признать, что сам нарывался. Сдержанность и чувство собственного достоинства он всегда ставил выше прочих человеческих качеств – тогда зачем же он сам вечно начинал разглагольствовать?
И даже если такой человек, как Пол Мэйтленд, и не загнулся в этом Ларчмонте, он уж точно не стал бы давать повод для насмешек какому-то придурку в ларчмонтской электричке.
Но Том Нельсон, похоже, не замечал, что причинил боль. Он продолжал:
– Что ж, поэзия всегда была для меня чем-то очень важным. Сам, слава богу, не пишу, но читать всегда очень любил. Любишь Хопкинса [16]16
Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) – английский поэт, иезуитский священник, стихотворное наследие которого стало известно читателям лишь после Первой мировой войны. Новаторский «скачущий стих», которым написано большинство его духовных сонетов, сразу же сделал Хопкинса одним из важнейших англоязычных поэтов.
[Закрыть]?
– Очень.
– Ага, пробирает до костей, правда же? Примерно как Китс, как поздний Йейтс – он местами тоже пробирает. И мне дико нравится Уилфред Оуэн [17]17
Уилфред Эдвард Солтер Оуэн (1893–1918) – английский поэт, участник Первой мировой войны, чьи военные стихи оказали сильнейшее влияние на поэзию 30-х гг. Оуэн погиб на фронте за неделю до перемирия; сборник его поэзии, составленный упомянутым далее другом-поэтом Зигфридом Сассуном (1886–1967), вышел в 1920 г.
[Закрыть]. И даже кое-что у Сассуна. Французов я тоже люблю: Валери и других, только я не думаю, что их можно по-настоящему понять, если не знаешь язык. Мне раньше нравилось иллюстрировать стихи – пару лет только и делал, что иллюстрировал; может, когда-нибудь я к этому вернусь, но сейчас делаю просто картины.
– Так ты, значит, художник.
– Ну да. Я разве не сказал?
– Нет. И работаешь в Нью-Йорке?
– Нет, работаю дома. Время от времени отвожу готовые вещи в город, и все. Пару раз в месяц.
– И тебе удается… – Майкл хотел уже было сказать «зарабатывать этим на жизнь?», но вовремя остановился; вопрос о том, чем художник зарабатывает себе на жизнь, мог оказаться излишне щекотливым. Вместо этого он сказал: – И ты только этим и занимаешься?
– Ну да. В Йонкерсе, правда, приходилось еще преподавать – я работал в школе, но потом дела понемногу пошли на лад.
И Майкл пустился в детальные расспросы по поводу техники: пишет ли Нельсон маслом?
– Не, с маслом у меня толком ничего не получается, сколько я ни пробовал. Я делаю акварели: тушь, перо, акварельная заливка. Больше ничего. Я в этом смысле крайне ограничен.
Может, тогда его искусство ограничивается художественными отделами рекламных агентств или – раз уж он делает акварели, при одном упоминании которых воображение рисует приятные сценки с дремлющими в гавани лодочками и парящими птичьими стаями, – все сводится к удушающей атмосфере сувенирных лавочек, торгующих, наряду с такими картинками, дорогими пепельницами, розовыми статуэтками пастухов и пастушек и тарелками с портретом президента Эйзенхауэра с супругой.
Вопроса-другого было бы достаточно, чтобы все это подтвердить или опровергнуть, но Майклу не хотелось торопить судьбу. Он не произнес ни слова, пока поезд не втащил их в гулкую толчею Центрального вокзала.
– Тебе куда? – спросил Нельсон, когда они очутились на улице, щурясь от городского солнца. – Направо или налево?
– Мне на Пятьдесят девятую.
– Хорошо. Пройдусь с тобой до Пятьдесят третьей. Надо отметиться там в Современном.
Пока они шли, до него постепенно доходил смысл этой фразы, и, когда они стояли на Пятой авеню, Майкл уже не сомневался, что необходимость «отметиться в Современном» означала деловую встречу в Музее современного искусства [18]18
Музей современного искусства в Нью-Йорке, основанный в 1929 г. по инициативе семейства Рокфеллер, располагает лучшей в мире коллекцией модернистского и современного искусства. Попасть в коллекции МоМА – и по сей день предел профессиональных устремлений любого актуального художника.
[Закрыть]. Ему тут же захотелось под каким-нибудь предлогом пойти туда вместе с Нельсоном, чтобы на месте выяснить, что же такое там происходит, но, когда они дошли до угла Пятьдесят третьей улицы, Нельсон сам предложил присоединиться к нему:
– Это не долго, буквально пару минут. А потом пойдем дальше на Пятьдесят девятую.
В лице облаченного в форму швейцара, открывшего перед ними толстые стеклянные двери, а потом и в манере лифтера Майклу почудилась какая-то особая почтительность, хотя ручаться в том, что это не он ее придумал, он не стал бы. Зато удивительно приятная девушка, рабочий стол которой находился наверху, в дальнем конце большого тихого зала, не оставила его воображению никакого простора: она даже сняла очки в роговой оправе, чтобы они не скрывали радушия и восхищения, сиявших в ее чудесных глазах.
– Томас Нельсон! – проговорила она. – Теперь я знаю, что сегодня все сложится замечательно.
Обычная девушка осталась бы, наверное, на своем месте, подняла бы трубку, нажала бы пару кнопок, но в этой девушке не было ничего обычного. Она поднялась и быстро обогнула свой стол, чтобы взять Нельсона за руку и дать Майклу возможность увидеть, какая она стройная и как хорошо одета. Когда его представили, она прищурилась и пробормотала что-то невнятное, как будто только что заметила его присутствие; через секунду она снова обратилась к Нельсону, и Майкл ничего не понял из этой краткой оживленной беседы, то и дело прерывавшейся смехом.
– Что вы! Я точно знаю, что он вас ждет, – проговорила она наконец. – Проходите прямо к нему.
И действительно, лысый смуглый человек средних лет, в одиночестве стоявший у себя в офисе, упершись костяшками пальцев в пустой стол, казалось, только и ждал этого момента.
– Томас! – воскликнул он.
К гостю Нельсона он проявил чуть большую вежливость, чем девушка: он предложил Майклу стул, от которого тот отказался, а затем вернулся к столу и произнес:
– Что же, Томас, давайте посмотрим, что хорошего вы нам на этот раз принесли.
Он снял резинку, развернул покрытый пятнами бумажный рулон, а затем нежно свернул в противоположную сторону, чтобы листы выпрямились, и шесть ярких акварелей предстали на рассмотрение музея – чуть ли не на суд мира искусства вообще – так, по крайней мере, казалось.
– Ничего себе! – сказала Люси вечером, когда Майкл дошел в своем повествовании до этого момента. – И что у него за картины? Можешь описать?
Его немного рассердило это ее «можешь описать?», но он решил не обращать внимания.
– Что тут скажешь? Уж точно не абстракции, – ответил он. – Я имею в виду, что они изобразительные: там есть люди, звери, вещи, но они при этом не реалистические. Что-то типа… в общем, даже не знаю.
И тут он ощутил благодарность за то единственное, что рассказал ему Нельсон в поезде о своей технике.
– Это такие грубоватые, немного размытые рисунки пером и тушью с акварельной заливкой.
И в награду ему она медленно, с умным видом кивнула, как если бы хвалила ребенка за удивительно зрелую догадку.
– Ну так вот, – продолжал он. – Музейщик стал медленно, очень медленно ходить вокруг стола, а потом говорит: «Что же, Томас, могу сразу же сказать, что, если я упущу вот эту, я себе этого никогда не прощу». Потом походил еще немного и говорит: «Эта тоже с каждой минутой нравится мне все больше. Можешь отдать нам обе?» А Нельсон отвечает: «Конечно, Эрик. Бери». И просто стоит там, спокойный как черт, в своей дурацкой танковой куртке, не расстегнувшись, как будто ему абсолютно все равно.
– То есть они берут все это на какую-то временную выставку? Или как? – спросила Люси.
– Это первое, что я спросил, когда мы вышли, и он сказал: «Не, это они берут в постоянную коллекцию». Ты можешь себе представить? В постоянную коллекцию!
И Майкл пошел к кухонной стойке добавить себе льда и бурбона.
– Да, вот еще что, – обернулся он к жене. – Знаешь, на чем он все это рисует? На подстилочной бумаге.
– На какой бумаге?
– На подстилочной. Знаешь, которой застилают полки, чтобы ставить на них консервы и всякие такие вещи. Сказал, что выбрал ее много лет назад, потому что она дешевая, а потом понял, что ему «нравится, как она держит краску». И рисует он все это на засранном кухонном полу. Говорит, у него там есть большой плоский кусок оцинкованного железа, чтобы была поверхность, где работать; кладет на нее мокрый лист оберточной бумаги, встает на колени и начинает работать.
Люси старательно занималась обедом, с тех пор как Майкл пришел домой, но ее то и дело что-нибудь отвлекало. Свиные отбивные пересушились, яблочный мусс она забыла остудить, стручковая фасоль переварилась, картошка не пропеклась. Но Майкл ничего этого не заметил – или ему было все равно. Он ел, водрузив локоть на стол и обхватив лоб рукой, а рядом с тарелкой стоял наготове стакан виски – уже третий или четвертый.
– И я его спросил… – говорил он, разжевывая мясо, – спросил, сколько времени он работает над одной картиной. Он сказал: «Ну, минут двадцать, если повезет, а так обычно часа два, иногда даже целый день. А потом раза два в месяц я их все просматриваю, многое выбрасываю – треть примерно или четвертую часть, а то, что остается, везу в город. В Современном всегда хотят, чтобы им дали право выбрать первым, иногда Уитни [19]19
Уитни – музей американского искусства, организованный в 1931 г. художницей и меценаткой Гертрудой Вандербильт Уитни на основе ее собственной коллекции. Одно из крупнейших собраний американского искусства XX в.
[Закрыть]просит принести посмотреть, а все, что останется, я отношу своему агенту, то есть в галерею, с которой я работаю».
– И что это за галерея? – спросила Люси, и, когда он повторил название, она снова сказала: «Ничего себе!» – потому что это место не сходило со страниц художественного раздела «Нью-Йорк таймс».
– И еще он мне сказал, и он при этом не хвастался, – с ума сойти, о чем бы этот сукин сын ни рассказывал, он никогда не хвастается, – так вот, он мне сказал, что ему устраивают как минимум одну персональную выставку в год. В прошлом году было даже две.
– Как-то во все это с трудом верится, да? – сказала Люси.
Майкл оттолкнул от себя тарелку – к печеной картошке он даже не прикоснулся – и принялся за виски, как будто это было его основное блюдо.
– Просто невероятно, – сказал он. – Ему двадцать семь лет. И подумать только, господи, стоит только подумать – господи, солнышко. – И он покачал головой в изумлении. – Вот и говори после этого, что трудные вещи должны оказаться простыми. – Потом после некоторой паузы он добавил: – Да, и он сказал, что хотел бы пригласить нас пообедать как-нибудь на днях. Сказал, что посоветуется с женой и позвонит.
– Правда? – Вид у Люси был счастливый, как у ребенка в день рождения. – Неужели правда?
– Да, но ты же знаешь, как это бывает. Вдруг забудет. Ну то есть особо на это рассчитывать не надо.
– А мы разве не можем им позвонить? – спросила она.
И он про себя разозлился. Для девочки, выросшей в верхних пределах высшего слоя, она порой проявляла удивительную тупость, когда дело заходило о хороших манерах. Хотя, может, как раз миллионерам хорошие манеры и не были никогда присущи; что могут знать об этом обычные люди?
– Нет, девочка, – сказал он. – Не думаю, что это хорошая мысль. Хотя, может, я снова столкнусь с ним на вокзале; что-нибудь придумается. – А потом он сказал: – Слушай, я тебе еще не рассказал постскриптум ко всей этой истории. Когда я наконец дошел до конторы, у меня голова шла кругом. Было понятно, что работать я не смогу, так что я зашел к Броку, чтобы убить с ним время, и рассказал ему про Тома Нельсона. Он все это выслушал и говорит: «Вот как! Интересно. Хотелось бы знать, кто у него отец».
– Вот он весь в этом, правда же? – сказала Люси. – Билл Брок только и знает, что рассказывать, как он ненавидит цинизм в любом его проявлении, а на деле большего циника, чем он, я никогда не видела.
– Подожди, это еще не все – дальше будет хуже. Я говорю: «Во-первых, Билл, его отец – аптекарь из Цинциннати, а во-вторых, не понимаю, какое это может иметь значение?» А он мне отвечает: «Да? Ну тогда ладно. Тогда интересно, у кого он отсасывает».
От отвращения Люси так сильно передернуло, что она поднялась из-за стола. С ее искривленных губ слетел лишь один слог «фу!»; она стояла, обхватив себя обеими руками, как будто ее до костей пробирал холод.
– Господи, до чего же мерзко! – сказала она. – Не слышала ничего мерзее.
– Ну ты же знаешь Брока. К тому же у него уже которую неделю паршивое настроение. Думаю, у них с Дианой что-то не ладится.
– Ничего удивительного, – сказала она, собирая со стола тарелки. – Не знаю, почему Диана давным-давно его не бросила. Никогда не понимала, как она вообще могла с ним связаться.
Как-то в субботу с утра позвонил Билл Брок и с необычной для него робостью спросил, нельзя ли ему приехать к ним в Ларчмонт после обеда.
– Он так и сказал: приеду один? – допытывалась Люси.
– Он что-то там пробубнил или вообще как-то это обошел, но я абсолютно уверен, что смысл был именно такой. Он точно ни разу ни сказал «мы».
– Ну, значит, между ними все кончено, – сказала она. – Хорошо. Только нам придется теперь во всем этом разбираться: ему наверняка захочется, чтобы мы сидели тут часами и слушали, пока он будет изливать свою душу.
Но вышло совсем по-другому, по крайней мере вначале, когда Брок только приехал.
– То есть с кратковременными отношениями у меня все в порядке, – объяснял он им с дивана, подавшись немного вперед и демонстрируя полную готовность к серьезному обсуждению собственной персоны. – Это я точно знаю, потому что раньше у меня никогда проблем не было. Но похоже, я не способен поддерживать интерес на… как бы это сказать… долгих перегонах. Я устаю от женщины, и все тут. Мне становится скучно, я начинаю нервничать – тут все просто. Честно говоря, я никогда не принимал саму идею брака. Ну то есть если у вас, ребята, это получается – хорошо, но это ваше личное дело, верно?
На протяжении последних нескольких месяцев, сообщил он им, Диана все подкатывала к нему с разговорами о женитьбе.
– Поначалу ничего серьезного – намек здесь, намек там, их легко было игнорировать, но дальше – больше. В конце концов мне пришлось с ней объясниться. Я ей сказал: «Слушай, дорогая: давай мы будем считаться с некоторыми фактами, ладно?» В итоге она согласилась съехать, сняла с подружкой квартиру, и мы стали встречаться по-новому, от силы пару раз в неделю. Так дела обстояли, когда мы были у вас здесь в прошлый раз. Она записалась на актерские курсы – вы же знаете, теперь по всему городу устраивают эти семинары по актерскому «методу» [20]20
«Методическая» игра – подход к актерскому ремеслу, в 1930-е гг. пропагандируемый в Нью-Йорке Групповым театром, а начиная с 1940-х – Ли Страсбергом и его Актерской студией. Актерское мастерство этого типа восходит к системе Станиславского и предполагает серьезный анализ чувств и мотиваций персонажей для достижения психологической реалистичности игры. Одним из пропагандистов «метода» в США был Михаил Чехов (1891–1955), начинавший свою актерскую карьеру у Станиславского во МХАТе.
[Закрыть], ведут их в основном актеры-неудачники, пытаются хоть немного подзаработать на своей профессии. Мне показалось, что идея вполне себе здравая: я думал, ей это поможет. Но черт возьми, не проходит и двух недель, как она начинает гулять с парнем, с которым познакомилась на этих курсах, – какой-то актер, полный прощелыга, засранец несчастный! У него богатый папаша в Канзас-Сити, дает ему деньги, лишь бы домой не возвращался. Потом три дня назад – клянусь, это был худший вечер в моей жизни – я приглашаю ее пообедать, и она мне сообщает – с этой своей сдержанностью, очень отстраненно, – сообщает мне, что она переехала к этому парню. Что она его «любит», и все эти сопли. Домой я пришел убитый, будто меня переехал грузовик. Бросился на кровать… – в этом месте он откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза рукой, чтобы показать, как захватило его горе, – бросился на кровать и расплакался как ребенок. Не мог остановиться. Плакал и плакал. И твердил себе: «Я ее потерял. Я ее потерял».
– Билл, – сказала Люси, – из того, что ты говоришь, как-то непохоже, что ты ее потерял, – скорее, ты ее бросил.
– Ну конечно же, – проговорил Билл, все еще прикрывая глаза рукой. – Конечно. Но разве это не самая страшная потеря? Когда не можешь осознать ценность чего-то до тех пор, пока не выбросишь своими руками?
Билл Брок остался у них ночевать («Я так и знала, – сказала потом Люси. – Знала, что этим все и кончится») и на следующий день уехал только после обеда.
– Ты никогда не замечал, – спросила Люси, когда они остались вдвоем, – что сочувствие к человеку – к любому человеку – испаряется, как только он начинает рассказывать, как долго и горько он плакал?
– Ага, – сказал Майкл.
– Хорошо, хоть уехал, – проговорила она. – Но он вернется, причем довольно скоро. И станет частым гостем, можешь не сомневаться. Только знаешь, что хуже всего? Хуже всего, что мы, наверное, уже никогда не увидим Диану.
У Майкла сжалось сердце. Он даже не подумал об этом, но, стоило Люси об этом заговорить, сразу понял, что так и будет.
– Когда люди расстаются, от тебя всегда ждут, что ты примешь чью-то сторону, – продолжала она. – Забавно, что это происходит, по сути, случайно. То есть если бы нам позвонила Диана – а такое вполне могло случиться, – тогда она осталась бы нашей подругой, а Билл Брок незаметно исчез бы из нашей жизни.
– Я бы на твоем месте не стал так переживать, – сказал Майкл. – Может, она и так нам позвонит. В любой момент может позвонить.
– Нет. Думаю, я достаточно хорошо ее знаю, чтобы не рассчитывать на это.
– Да гори оно все – давай мы сами ей позвоним?
– Как? Мы же даже не знаем, где она. Правда, это можно узнать, только она вряд ли обрадуется нашему звонку. Ничего уже не изменишь.
Через некоторое время, закончив с посудой, она стояла в дверях, с грустью вытирая руки.
– А я так надеялась, что мы с ней подружимся, – проговорила она. – И с Полом Мэйтлендом тоже. А ты? Я всегда считала, что это такое хорошее… знакомство.
– Майк Дэвенпорт? – буквально через несколько минут спросил по телефону застенчивый бархатный голос. – Это Том Нельсон. Слушай, мы с женой посоветовались и решили позвать вас в гости в пятницу вечером. Вы сможете прийти к ужину?
И Дэвенпортам показалось, что, быть может, их тяга к хорошим знакомствам не останется в итоге без ответа.








