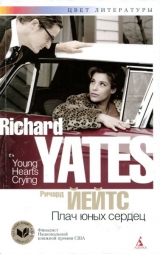
Текст книги "Плач юных сердец"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Глава шестая
Адрес, который он ей дал, как и следовало ожидать, оказался тем самым баром на Шестой авеню, где в прошлый раз они просидели почти целый день. Он ждал ее за тем же столиком, и, войдя, она увидела в пыльных лучах полуденного света, как он поднимается ей навстречу.
– Ну что, Люси, – сказал он, – надеюсь, ты против этого заведения не возражаешь. Подумал, что здесь мы сможем начать примерно с того места, где остановились.
Он не казался уже таким худым, хотя вряд ли он действительно поправился, скорее, в нем прибавилось уверенности в себе, и он был гораздо лучше одет. Руки у него тоже не тряслись, даже и без всякого алкоголя, и она в первый раз заметила, какие они красивые.
Шесть месяцев он провел в Голливуде, начал рассказывать он, работал над сценарием по современному роману, который всегда ему нравился, но проект распался уже на стадии кастинга, потому что «им не удалось взять на главную роль Натали Вуд» [57]57
Здесь Йейтс отдает Карлу Трейнору детали собственной биографии: в 1962 г., после выхода «Дороги перемен», романист сам провел полгода в Голливуде, работая над сценарием по роману Уильяма Стайрона «Ложимся во мрак». Предполагалось, что главные роли в будущем фильме сыграют Генри Фонда и Натали Вуд, однако заполучить этих актеров не удалось, и фильм так и не был запущен в производство.
[Закрыть]. Теперь он дома, опять почти без денег, примерно там же, где и начал, не считая, конечно, того, что первая книга теперь давно позади.
– Книга прекрасная, Карл, – сказала она. – Продавалась-то хоть хорошо?
– Не, не особенно, хотя дешевое переиздание пошло неплохо. И мне до сих пор приходят письма, так что я знаю, что люди эту мою дурь все же читают; в сущности, только на это я по-настоящему и надеялся. Но теперь меня беспокоит другое: следующий роман написан уже на треть, а ощущение такое, что я так и не сдвинулся с мертвой точки. Начинаю понимать, что писатели имеют в виду, когда говорят о панике перед вторым романом.
– Я бы не сказала, что ты в какой-то особенной панике, – ответила Люси. – Скорее, у тебя вид человека, который точно знает, что делает.
Он знал, что делал, – это правда. Не прошло и двадцати минут, а они уже успели уйти из бара, пройти пару кварталов и оказаться в уединении его полутемной квартиры.
– Боже, девочка, – бормотал он, помогая ей раздеваться. – Прекрасная моя. Прекрасная моя девочка.
Поначалу ее смущало только одно: какая-то крохотная часть ее сознания оставалась холодной и трезвой, и эта часть, ускользнув из-под ее контроля, отмечала по ходу дела, каким, однако, внушительным и важным может быть мужчина в такие моменты, сколько все-таки серьезности в этой волосатой наготе и как она предсказуема! Стоит только дать ему груди – и вот он уже припал жаждущими губами сначала к одной, а потом к другой, вытягивает из сосков все, что может; стоит раздвинуть ноги – и рука тут же принимается за работу, роется и роется там без устали. Потом туда же устремляются губы, и вот он уже весь там – гордый, как мальчишка, что впервые туда проник; он бьется, он толкает, он готов любить тебя вечно – лишь бы только доказать, что он может.
Но ей понравилось – боже, до чего ж ей понравилось! – и эта предательская частичка сознания начисто заглохла задолго до конца. Потом, как только восстановилось дыхание и вернулся обычный голос, она сообщила Карлу Трейнору, что с ним было «изумительно».
– Ты всегда знаешь, как правильно выразиться. Жаль, я так не умею, – сказал он.
– Умеешь. Конечно умеешь!
– Разве что иногда, но в основном – нет. Могу назвать тебе пару девушек, которые могли бы поспорить с тобой по этому поводу, Люси.
Квартира его не отличалась особой чистотой – у Люси был порыв схватить щетку, ведро горячей воды с нашатырем и наброситься на работу, – а в ванной, похоже, было грязнее всего. Но, выйдя из-под душа, она обнаружила на крючке два свежих полотенца, как будто специально поджидавшие ее прихода. Это было приятно, а еще было приятно, что он принес ей длинный фланелевый халат, льнувший к ногам, от чего по всей коже разливалось удовольствие.
Она убрала постель, хотя он сказал ей не утруждать себя, а потом босиком по голому полу прошлась по всей квартире. Та оказалась куда больше, чем ей сначала показалось; комнаты были правильных пропорций, с высокими потолками, и по утрам, вероятно, очень светлыми, хотя сейчас окна озаряли печальные краски заката, но почти пустыми: мебели едва хватало и украшения отсутствовали напрочь. Даже книг было не очень много, а те немногие, что имелись, были так небрежно распиханы по полкам и стояли в таком беспорядке, как будто раздражение вызывала сама идея владения какими-то книгами.
Письменный стол поначалу тоже производил впечатление крайней небрежности и сумбура, а быть может, даже и хаоса, но потом на нем обнаруживался небольшой опрятный участок – сбоку стояла портативная машинка, рядом наготове лежали отточенные карандаши и несколько страниц новой рукописи, на верхней из которых зачеркнутых слов было ничуть не меньше, чем оставленных нетронутыми. Пожалуй, у Чипа Хартли были несколько другие представления о письменном столе, – впрочем, соответствующие этому столу представления вообще не входили в круг понятий Чипа Хартли.
– Детка, – спросил Карл откуда-то сзади, из темноты, – ты же еще не уходишь? Я имею в виду, ты сможешь остаться у меня на ночь или тебе надо куда-то там возвращаться?
И она ответила почти без раздумий.
– Ну, если ты дашь мне позвонить, – сказала она, – думаю, я смогу остаться.
Вскоре она уже ночевала у него по три-четыре раза в неделю и проводила с ним каждый свободный вечер; так они прожили почти год.
Ей случалось видеть, как он, потерянный, нервно ходит из угла в угол, курит одну сигарету за другой, тараторит и в рассеянности одергивает в промежности брюки, как маленький ребенок, – в такие моменты ей не верилось, что он написал книгу, вызвавшую у нее столь безоговорочное восхищение. Но бывали и другие моменты, причем все чаще и чаще, когда он был спокоен, мудр, остроумен и знал, чем ей угодить.
– А ты ведь очень застенчивый на самом деле, правда? – спросила она как-то вечером, когда они возвращались с дурацкой вечеринки, которая ни ему, ни ей не понравилась.
– Ну да, конечно. Ты что, отсидела весь мой курс в Новой школе и не догадалась?
– Было, конечно, заметно, что тебе там не слишком комфортно, но за словом в карман ты никогда не лез.
– Ага, не лез за словом в карман, – повторил он. – Бог мой, ну почему люди так часто думают, что застенчивость обязательно значит косноязычие, робость и неспособность поцеловать девушку? Все это вообще тут ни при чем, как ты не понимаешь? Бывает такая застенчивость, от которой болтаешь все время без умолку и целуешь девиц, даже когда тебе этого не хочется, потому что думаешь, что они ждут от тебя именно этого. Жуткая вещь такая застенчивость. Ни к чему хорошему она не приводит – и от нее именно я всю жизнь и страдаю.
Люси на ходу еще плотнее обвила его руку и прижалась к ней. Она чувствовала, что узнает его все лучше и лучше.
Как-то Карл сказал, что до смерти хочет успеть опубликовать пятнадцать книг и чтобы как минимум за три из них – «в лучшем случае четыре» – ему не пришлось бы извиняться. Ей нравилась сквозящая в этом желании отвага, и она сказала, что ему, несомненно, это удастся; потом, чуть позже, она начала подыскивать для себя значимое место в его карьере.
Раньше желание посвятить себя мужчине возникало у нее лишь однажды, когда они только познакомились с Майклом; из этого ничего не вышло, но разве это повод, чтобы отбросить саму возможность и не попытаться еще раз?
Пусть Карл и «увяз» сейчас в своем втором романе, как он уверяет, но присутствие Люси может помочь ему справиться с трудностями. Потом будет еще одна книга, потом другая, третья и так далее, и Люси, неизменно преданная ему, всегда будет рядом. К тому же она знала, что Карла ее деньгами не устрашить, – этого можно было даже не опасаться. Он не раз уже говорил ей – хоть и в шутку, но говорил, – что был бы не прочь пустить ее состояние на оплату своего жизненного пути.
Столь разное отношение к деньгам, догадывалась она, объяснялось тем, что Майкл Дэвенпорт никогда не знал бедности, – отсюда проистекала его неумолимая тяга к независимости. Карл Трейнор с молодых лет знал, что это такое, и поэтому понимал, что никакая это не добродетель, – и понимал, соответственно, что обладание нетрудовыми доходами еще не влечет за собой морального разложения.
Нередко казалось, что в мире нет ничего, чего Карл не понял бы или не смог бы понять после некоторого размышления; наверное, этому качеству он отчасти и был обязан убедительностью своей прозы; в любом случае именно поэтому у него без всяких усилий получалось быть добрым.
Люси обнаружила, что может рассказать ему о себе то, что никому никогда не рассказывала – даже Майклу, даже доктору Файну, – и одного этого было достаточно, чтобы она ощутила, насколько основательным было в данном случае ее капиталовложение.
К тому же ей никогда не придется бросать живопись. Быть может, постепенно она станет писать все лучше и лучше, работ с годами прибавится – и в конце концов она станет таким же, как он, профессионалом, но противоречий это не породит, потому что у них не будет ни малейшего основания для соперничества или даже сравнения. Творить они будут в совершенно разных мирах, которые, быть может, послужат друг для друга приятным дополнением.
Она сможет с легкостью посещать презентации его книг или даже сопровождать его в рекламных турах, если он ее об этом попросит, и он сможет спокойно стоять рядом с ней в галереях – высокий, гордый, с вежливой улыбкой на лице – на открытиях ее выставок, где будет собираться живая культурная публика и где присутствие таких людей, как Том Нельсон и Пол Мэйтленд с супругами, можно считать заранее гарантированным.
Годам к пятидесяти, а быть может, и раньше, они наверняка будут вызывать у всех своих знакомых зависть и восхищение – и вполне возможно, что огромное количество людей будут готовы отдать все что угодно, чтобы с ними познакомиться.
Но почти с самого начала у них случались мелкие, но довольно неприятные проблемы – ссоры, причем настолько резкие, что могли все испортить.
Еще в первые недели совместной жизни, когда они сидели в закусочной, в которой подавали стейки с картошкой и которую Карл называл своим любимым местом в Гринвич-Виллидж, она спросила, с кем это он был «не один» сразу после выхода своей книги.
– Знаешь, – сказал он, – эта история особо меня не красит. Ничего, если мы отложим разбирательство на некоторое время, а?
И он набил себе рот хлебом, как будто это могло положить конец дальнейшим расспросам.
Она была вполне готова повременить с разбирательствами, раз уж ему так хотелось, но чуть ли не следующей ночью он, наоборот, сам начал рассказывать эту проклятую историю, едва отдышавшись от занятий любовью, и это показалось ей поразительно неуместным. А рассказывал он долго.
Девушка была совсем юная, сказал он, только что из колледжа, полная смутных идей касательно «искусств», – по-другому она не выражалась. Ну и к тому же она была очень хорошенькая: Карл Трейнор считал ее совершенно замечательной, и, когда она только к нему переехала, он, помнится, думал: если я помогу ей слегка повзрослеть, это будет само совершенство. Но довольно скоро выяснилось, что она была единственной из знакомых ему девушек, которая пила больше, чем он сам.
– Она могла упасть прямо в баре, – говорил он, – или грохнуться со стула на вечеринке. Каждый вечер напивалась до потери сознания, и, значит, вся ответственность каждый раз ложилась на меня: каждое утро я должен был вытаскивать ее из кровати, напяливать на нее одежду, выводить на улицу и сажать в такси – обязательно в такси, потому что она говорила, что метро ее «пугает», – так она добиралась на какую-то свою работу, у нее была мелкая редакторская должность где-то на окраине… Ну и когда мне предложили заняться сценарием, я решил ее типа бросить – сказал, что в Калифорнию хочу ехать один, – и в ту же ночь она хватает бритву и пытается вскрыть себе артерии на запястьях. Бог мой, как же я перепугался. Перевязал все это как мог и дотащил ее на руках до самого Сент-Винсента [58]58
Католический госпиталь Святого Винсента (основан в 1849 г. и закрыт в 2010-м) был в середине XX в. основной больницей, обслуживавшей окрестности Гринвич-Виллидж. Находился на Седьмой авеню, на границе Гринвич-Виллидж и Челси.
[Закрыть]. Можешь себе представить? На руках! В ту ночь в неотложке дежурил какой-то испанец, довольно молодой, и он сказал, что артерию она не задела – всего лишь задела пару вен – и что он сможет остановить кровотечение тугими повязками. Но только она знала больше, чем я, – она знала, что за каждую попытку суицида в Нью-Йорке тебе автоматически дают шесть недель в Бельвю, – так что, как только перевязка закончилась, она спрыгнула с этого стола быстрее кошки. Выбралась через проулок на Седьмую авеню и понеслась так, что ее и полицейские бы не догнали. И когда я наконец поймал ее в подъезде старого доходного дома, в котором она жила, пока не переехала ко мне, она мне сказала ровно два предложения: «Уйди. Уйди отсюда». – Он тяжело вздохнул. – Вот и вся история. Думаю, на самом деле я ее любил – и, может, в каком-то смысле всегда буду любить, – но я даже не знаю, где она сейчас, и не сильно жажду узнать.
Они помолчали некоторое время, и потом Люси сказала:
– Ничего хорошего в этой истории нет, Карл.
– Бог мой, понятно, что ничего хорошего в ней нет. Что ты имеешь в виду?
– Как-то слишком много любования собой со стороны рассказчика, – сказала она. – Сплошное самовозвеличивание. Сексуальное фанфаронство. Такие истории меня никогда не интересовали. Зачем, например, тебе нужно было подчеркивать, что ты нес ее в госпиталь на руках?
– Ну как «зачем»? Затем что Седьмая авеню односторонняя, движение только в сторону центра. На такси мы бы слишком долго ехали, а я думал, что она умирает от потери крови.
– Ах, ну да. Умирает от потери крови, потому что так сильно тебя любит. Слушай, Карл, даже не пытайся написать об этом рассказ, ладно? По крайней мере, не пиши так, как ты его рассказал. Потому что, если ты это сделаешь, это только нанесет ущерб твоей репутации.
– Охренеть! – сказал он. – Мы тут лежим у меня в кровати в час ночи, и ты меня предупреждаешь, что моей «репутации» может быть нанесен «ущерб». Какое, однако, хладнокровие! Люси, я восхищен. А кроме того, я же сказал, что эта история…
– Тебя не красит. Я помню. Это же одно из твоих любимых выражений, правда? Ты его используешь, чтобы возбудить в людях интерес, так ведь? Добиться отсрочки, заставить их ждать, а потом вывалить все это на них, когда они меньше всего ожидают.
– Мы что, сейчас ссоримся? – спросил он. – Об этом идет речь? Я, что ли, должен перейти в контратаку, чтобы мы в конце концов вылезли из постели и проорали друг на друга всю ночь? Потому что если ты этого хочешь, любимая, то тебе не повезло. Лично я просто хочу спать.
И он отвернулся, но это был еще не конец. Минуту спустя он сказал с подчеркнутой сдержанностью:
– Думаю, дорогая, было бы целесообразно, если бы ты впредь воздержалась от рекомендаций по поводу того, чего мне не стоит писать, как мне не стоит писать и от прочей такой поебени. Ладно?
– Ладно.
И она обняла его в знак того, что сожалеет о своих словах.
Наутро она пожалела о них еще больше, потому что теперь она видела, что злость ее объяснялась не в последнюю очередь ревностью к этой юной алкоголичке, и поэтому она принесла сдержанные, изящно сформулированные извинения, которых он даже не дослушал, потому что его разобрал смех и он кинулся обниматься, умоляя ее навсегда об этом забыть.
И все эти стычки действительно легко забывались, поскольку в их отношениях неделями царила едва ли не идеальная гармония; правда, предвидеть, когда случится следующая, было совершенно невозможно.
– А ты поддерживаешь связь с мистером Келли?
– С мистером кем?
– Ну, с Джорджем Келли, с нашего курса.
– Ах, с этим, который по лифтам… Нет. Что ты имеешь в виду, поддерживаю ли я связь?
– Ну, я просто надеялась, что вы, быть может, общаетесь. Он мне очень помог и вообще показался удивительно умным человеком.
– А, ну ясно, «удивительно умным». Слушай, девочка, мир кишит этими необработанными алмазами, этой солью земли, и они все удивительно умные. Бог мой, в армии я встречал полуграмотных парней, но таких умных, что можно было в штаны от страха наложить. Когда дело касается курса, приятно иметь у себя в группе парочку таких умников – можно почти всю работу свалить на них, как я и поступал с Келли, но, как только курс позади, все кончено. И они прекрасно это понимают. Чего еще можно ждать? Они же не сумасшедшие.
– Вот как! – сказала она.
– Господи ты боже мой, Люси, ну какого черта тебе это надо? Тебе очень хочется поехать в Квинс, просидев в метро целый час, чтобы провести приятный вечер в компании Джорджа Келли? Там еще будет миссис Келли, с кофе и пирожными, и она будет что-то там тараторить, и по такому случаю на ней будет семь разных брошечек и побрякушечек, а в это время маленькие Келли, в количестве четырех или пяти, будут стоять по периметру, таращиться на тебя и жевать в унисон свои жвачки. Ты этого хочешь?
– Забавно, – сказала Люси. – Для человека, который даже не окончил колледж, у тебя поразительно развитое чувство классового превосходства.
– Ну да, ну да, я знал, что ты это скажешь. Знаешь что, Люси? Получается, я заранее знаю все, что ты хочешь сказать, еще до того, как ты это произнесешь. Если я когда-нибудь буду писать про тебя рассказ, диалоги пойдут на ура. Вообще не вопрос. Я просто откинусь на спинку стула, и машинка все сама напечатает.
И на этот раз она от него ушла, сделав на прощание пару заявлений о том, как все это «отвратительно».
Но часа через три она пришла назад и принесла с собой четыре тщательно отобранные репродукции импрессионистских картин; он был так рад ее видеть, что, казалось, едва не плакал, когда стоял покачиваясь, но не выпуская ее из объятий.
– Бог мой! – сказал он чуть позже, когда она со всем тщанием расклеила картинки по стенам. – Поразительно, как они всё изменили. Не понимаю, как я умудрился прожить здесь все это время в окружении голых стен.
– Ну, эти тут будут только временно, – объяснила она. – Потому что у меня есть план. Ты разве не знаешь, что в отношении тебя у меня вообще полно планов? А план состоит в том, что как только у меня наберется достаточно работ, которые мне самой нравятся и которые мистер Сантос тоже одобрил, я привезу их сюда и развешу по стенам; это будет мой тебе подарок.
И Карл Трейнор сказал, что ничего лучше просто не придумать. Он сказал, что эта честь заведомо превосходит все, что он когда-либо надеялся заслужить.
Они уже сидели на кровати и робко, как дети, держали друг друга за руки; он сказал, что вовсе не хотел быть таким занудой в отношении Джорджа Келли. Сказал, что абсолютно не против позвонить ему сегодня вечером, или на этих выходных, или когда ей захочется.
– Дико мило с твоей стороны, Карл, – сказала она. – Но мы же с легкостью можем отложить это все. Может, потом ты по-другому к этому отнесешься. Так же лучше, правда?
– Ну да. Хорошо. И еще одна вещь, Люси…
– Какая?
– Пожалуйста, не уходи так больше. Ну то есть, ясное дело, остановить я тебя не могу, даже если ты решишь уйти навсегда, но в следующий раз попытайся как-то предупредить меня, ладно? Чтобы у меня была возможность переубедить тебя.
– Ну что ты, – сказала она. – Думаю, теперь нам о таких вещах не придется тревожиться, правда ведь?
И остаток этого неожиданно пьянящего вечера можно было посвятить только одному – раздеться, забраться под одеяло и с преувеличенным рвением заняться любовью.
Сам он заходил на кухню лишь для того, чтобы сделать себе растворимый кофе или достать из холодильника молока или пива, но Люси довольно быстро обзавелась полным набором кастрюль и сковородок с медными днищами – они висели рядком на стене, – избыточным количеством тарелок и столового серебра и даже полкой для специй. («Полка для специй?» – спросил он, и она ответила: «Ну конечно полка для специй. Почему бы нам не завести полку для специй?»)
В ту зиму она часто готовила, и каждый раз он проявлял трогательную благодарность, хотя в конце концов она поняла, что он предпочитал рестораны, потому что, проработав целый день дома, вечером он «должен был» куда-нибудь выйти.
Похоже, что с приближением весны его тревога за книгу только нарастала. Из-за этого он периодически напивался, после чего вообще не мог работать, впрочем, у Люси были как минимум начальные представления о проблемах такого рода. Она помогла ему установить ежедневную норму алкоголя: пиво по требованию всю вторую половину дня, потом не больше трех бурбонов перед обедом, а после обеда – ничего; однако помочь ему с книгой она не могла. Он не давал ей даже прочитать рукопись, потому что «в основном это ерунда какая-то, и все равно ты никогда не разберешь мой почерк, не говоря уж обо всех этих проклятых вставках на полях, которые я и сам-то прочитать не могу».
Однажды он перепечатал для нее двадцатистраничный отрывок и укрылся на кухне, пока она читала. Когда она позвала его и сообщила, что отрывок «прекрасен», на его осунувшемся лице проступило некоторое спокойствие. Он задал ей несколько вопросов, чтобы убедиться, что больше всего ей понравились именно те места, которые, как он надеялся, и должны были ей понравиться, но уже через минуту-другую вид у него снова был встревоженный. То, что он думает, почти безошибочно читалось у него на лице: «Ну хорошо, ей хочется сделать мне приятное, но что она в этом понимает?»
На тот момент она понимала, что роман будет о женщине и что повествование тоже будет вестись от лица женщины, – что само по себе, по его словам, было огромной проблемой, потому что раньше он никогда не пытался писать от женского лица и не знал, получится ли у него убедительно провести женскую точку зрения через весь роман.
– В этом отрывке все очень убедительно, – сказала она.
– Ну да, наверное; только двадцать страниц – это тебе не триста.
Кроме того, по намекам, которое он время от времени себе позволял, да и по содержанию прочитанного отрывка, было понятно, что главная героиня, которую звали Мириам, будет во многом списана с его бывшей жены. Ничего неприятного она в этом не находила: писателем он был хорошим, и ни злоба, ни ностальгия не должны были затемнить его повествование; кроме того, всем известно, что писатель имеет право черпать свой материал из каких угодно источников.
– Но даже если я справлюсь с повествованием от лица женщины, – говорил он, – остается куча других проблем. Боюсь, с этой дамой мало что происходит. Для романа сюжета явно маловато.
– Есть масса отличных романов вообще без всякого сюжета, – ответила Люси. – И тебе они знакомы ничуть не хуже, чем мне.
И он снова сказал ей, что она всегда знает, как правильно выразиться.
Как-то вечером они вернулись домой очень поздно, давно уже нарушив правило трех бурбонов. Они много выпили – вполне достаточно, чтобы опьянеть, почувствовать неуверенность в движениях и завалиться спать, – но приятное отличие этого вечера состояло в том, что оба они прекрасно «держались»: настроение было приподнятое, им хотелось разговаривать – как будто сегодня вечером разговор мог получиться интереснее и ярче, чем в любой другой. Они даже налили еще по стаканчику и по-товарищески уселись в кресла друг напротив друга.
С этим повествованием от женского лица была одна проблема, сказал Карл, с которой Люси может помочь. И он попросил ее рассказать, как она ощущает себя во время беременности.
– Ну, со мной это было всего один раз, и к тому же давно, но мне этот период запомнился главным образом умиротворенностью. Ты физически замедляешься, боишься показаться громоздкой – я, по крайней мере, боялась, – но никакой нервозности в этом нет, все время сохраняется приятное ощущение общего здоровья: хороший аппетит, хороший сон.
– Отлично, – сказал он. – Это все очень хорошо.
Потом по слегка изменившемуся выражению его лица стало понятно, что следующий вопрос не будет иметь к роману ни малейшего отношения.
– А у тебя никогда не было мнимой беременности?
– Чего?
– Ну, знаешь, попадаются девушки, которым так хочется выйти замуж, что они начинают имитировать беременность. Они не просто заявляют, что беременны, – они весьма убедительно демонстрируют все без исключения симптомы. Мне попалась одна такая года три-четыре назад – довольно симпатичная, умненькая девица из Виргинии. Каждый месяц ее раздувало, груди так набухали, что сомнений не оставалось, а потом – бах! – месячные, и все исчезает.
– Карл, мне кажется, ты опять начинаешь, – сказала Люси.
– Что начинаю?
– Хвастаться. Еще одна история про то, что ты не любовник, а сущий дьявол.
– Нет, подожди, – сказал он. – Так нечестно. Какой еще дьявол? Если бы ты знала, как мне было страшно каждый месяц, ничего «дьявольского» ты в этом не нашла бы. Я только заламывал руки, как смиренная безропотная тварь. Потом в конце концов, на седьмой или восьмой раз, я отвел ее к самому крутому акушеру на Парк-авеню. Разорился на сто баксов. Ну и что ты думаешь? Выходит этот мудак из кабинета, улыбка до ушей, и говорит: «Отличные новости, мистер Трейнор, поздравляю. Ваша жена беременна, ранний срок, никаких осложнений». Можешь себе представить, какой это был удар? А через два или три дня у нее снова месячные. Опять ложная тревога.
– И что ты после этого сделал?
– Я сделал то, что на моем месте сделал бы любой здравомыслящий человек. Собрал ей чемодан и отправил ее туда, откуда приехала, то есть в Виргинию.
– Ну хорошо, – сказала Люси. – Только скажи мне такую вещь, Карл. Неужели в отношениях с девушками ты никогда не был потерпевшей стороной? Неужели тебя ни разу не бросали, не рвали с тобой отношений, не говорили, чтобы ты убирался к чертовой матери?
– Не говори ерунды, девочка. Конечно бросали. Господи, да некоторые через меня буквально перешагивали. Некоторые вообще считали меня дерьмом на палочке. Бог мой, послушала бы ты, что́ моя жена обо мне говорит.
В июне или июле Карл вручил ей сто пятьдесят машинописных страниц – по его словам, чуть меньше половины книги – и попросил взять их с собой в Тонапак на пару дней.
– Ничего похожего на первую книгу ты там не найдешь, – сказал он. – Грома и молний там нет; никаких оглушительных конфликтов, никаких сюрпризов, ничего в этом роде. Но все же первая книга не обязательно была смелее, чем эта, – просто там смелость была более очевидна, это был большой, мощный, «жесткий» роман. А на этот раз я пытаюсь сделать совсем другую книгу. Мне хочется написать спокойную, скромную на вид вещь. Меня больше заботила ясность и уравновешенность прозы. Ну то есть чисто эстетические ценности занимали меня больше, чем драматические эффекты.
Они стояли у него в прихожей; Люси держала в руках рукопись в плотном желтоватом конверте и уже начинала думать, что лучше бы он замолчал. Лучше бы уж просто отдал ей рукопись, чтобы она прочитала ее, как прочитал бы любой другой, но он, похоже, не мог отпустить ее без всех этих напутствий и пояснений.
– Думаю, лучше всего, – продолжал он, – если ты сначала прочитаешь все целиком в твоем обычном ритме, а потом еще раз пройдешься по тексту чуть медленнее, отмечая те места, которые, как тебе кажется, можно улучшить – расширить или сократить или каким-то образом изменить. Хорошо?
– Хорошо, – сказала она.
– И вот еще что: ты же знаешь старое сравнение с айсбергом? Про то, что семь восьмых находятся под водой, а над поверхностью торчит только самая верхушка? Вот что-то похожее я пытаюсь здесь сделать. Мне хочется, чтобы читатель почувствовал, что все эти обыденные частности подразумевают где-то в глубине что-то непомерное и даже трагическое. Понимаешь теперь, как это все устроено?
И она сказала, что будет иметь это в виду.
Вечером в Тонапаке, пообедав вместе с Лаурой и потратив довольно много времени на подробный с ней разговор, сама продолжительность которого должна была подтвердить, что к своим материнским обязанностям она относится с прежней добросовестностью, Люси легла пораньше и принялась за чтение.
Прочитав рукопись, она боялась признаться себе, насколько разочарована; потом, поспав немного урывками и слегка позавтракав без всякого аппетита, она снова уселась за чтение.
Похоже, эстетические ценности она вполне оценила, и ей уж точно было понятно, что он имел в виду под «скромной» – или скромной «на вид» – работой.
Это был слабый, банальный, скучный текст. Продираясь сквозь технически безупречные предложения, она все ждала, когда же там мелькнет хоть что-нибудь живое, и никак не могла поверить, что эту вещь написал человек, чья предыдущая книга некогда захватила ее остротой, мощью и быстрым разгоном, – в самом сравнении ей мерещилось предательство.
Еще раз она ощутила, что ее предали, когда дошла до тех двадцати страниц, о которых раньше отозвалась как о «прекрасных», – теперь, на фоне окружавшей их скуки, они лишились всей своей силы.
К тому же ей больше не верилось, что Карл списал Мириам со своей бывшей жены, потому что любая женщина из плоти и крови была на порядок интереснее этой. Проблема состояла в том, что он пытался сделать ее излишне добродетельной, что в любой ситуации она оказывалась права. Карл попросту соглашался с любым ее суждением и такого же согласия ждал от своих читателей; ко всему прочему, едва ли не все ее реплики звучали крайне неестественно, потому что она всегда говорила ровно то, что имела в виду.
Мириам имела склонность к философическим рассуждениям – небольшим изящным эссе, прерывавшим повествование на несколько страниц кряду, и само их изящество выдавало стремление автора удовлетворить всем требованиям чуждой ему формы. После каждого такого эссе Люси поневоле спрашивала себя: неужели Карл занялся всей этой канителью только потому, что думал, что именно так пишут люди, окончившие в свое время колледж?
Сюжета в этом отрывке было, пожалуй, достаточно – как раз об этом беспокоиться не следовало, – но такого рода сюжет при наличии некоторых навыков не составил бы никаких затруднений и для весьма посредственного литератора. В первых главах Мириам была заброшенным ребенком, затем превращалась в одинокую девушку, которая влюбляется ненадолго в разных молодых людей, не склонных тратить на нее время, и наконец в ее жизни появляется человек, в котором сразу же угадывается будущий муж – бедный, неустроенный сочинитель рекламных статей с непомерными амбициями; на этом первая часть заканчивалась.
Но было очевидно: едва ли не любой читатель уже догадается к этому моменту, что произойдет во второй части: можно было заранее сказать, что этот брак будет неудачным; было заранее понятно, что они начнут ссориться и Мириам всегда будет выступать на стороне разума; и было совершенно очевидно, что после развода она ощутит себя отважной, самодостаточной женщиной и что ее аккуратно-философская манера мысли сохранится до самой последней страницы.








