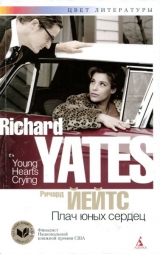
Текст книги "Плач юных сердец"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Очень мило с твоей стороны, Гарольд.
– Что за проклятье, – продолжал он, – годами жить по соседству с человеком, дружить и все такое, но так и не знать, что это за человек! Нет, слушай, я так и знал, что буду говорить какую-то ерунду; на самом деле мне просто хочется, чтобы ты почувствовала, как мы восхищены, Люси. И как мы тебе благодарны. За те прекрасные впечатления, что ты нам доставила.
Она сказала, что уже давно не слышала ни от кого таких приятных слов, а потом робко спросила, на каком представлении они были.
– Мы ходили два раза – на первое, а потом на предпоследнее. Не буду даже их сравнивать, потому что оба были потрясающие, оба гениальные.
– Ну, на самом деле, – сказала она, – мне сказали, что на первом спектакле я слегка переигрывала. Сказали, что я будто бы поставила всех в неудобное положение, потому что пыталась казаться звездой… что-то в этом роде.
– Ерунда какая, – сказал он с нетерпением. – Полная ерунда. Тот, кто тебе это сказал, вообще ничего не понимает. Потому что слушай. Потому что ты царила на этой сцене. Схватила всех за горло и держала весь спектакль. Ты и была звездой. И вот что я еще хотел сказать: я по части всхлипов не силен, но под занавес даже я рыдал, как маленький засранец. И Нэнси тоже. Да и вообще, Люси, для того весь этот театр и существует, разве нет?
Ее хватило на то, чтобы приготовить нормальный ужин, но, когда они сели за стол, ей оставалось только надеяться, что Лаура не заметит, что Люси почти ничего не ест.
Был уже девятый час, когда Джек наконец позвонил.
– Дорогая, сегодня не могу позвать тебя в общежитие, потому что должен разгрести все счета, – сказал он. – Хорошо, если до утра справлюсь. Видишь, мне надо закрыть все финансовые вопросы, а я все лето этим не занимался. С этой стороной шоу-бизнеса я всегда был не в ладах.
Может, он был хороший актер, может быть даже, актер Божьей милостью, но сейчас и ребенок догадался бы по его голосу, что он врет.
Почти весь следующий день она ходила по дому, нервно прижав к губам костяшки пальцев, – повторяя единственный жест Бланш Дюбуа, ясно прописанный в авторских ремарках пьесы, которую она знала наизусть.
– Все еще по уши в бумагах, – сообщил Джек по телефону ближе к вечеру, и она хотела сказать: «Слушай, давай уже оставим друг друга в покое. Забудь все это, возвращайся туда, откуда пришел, и оставь меня в покое». Но он добавил: – Ничего, если я зайду к тебе выпить завтра вечером? Скажем, часа в четыре?
– Заходи, конечно, – сказала она. – Мне будет приятно. У меня кое-что для тебя есть.
– У тебя что-то есть для меня? Что?
– Не стану говорить. Пусть это будет сюрприз.
После обеда Лаура, хихикая и перешептываясь, ушла куда-то на весь вечер с сестрами Смит, и Люси была ей за это благодарна; и все же, когда она робко вошла в гостиную с чемоданами и поднесла их к креслу, в котором сидел Джек, Люси пожалела, что Лаура не видит его изумления: он сидел с круглыми от восторга глазами, как маленький ребенок в рождественское утро.
– Ни хрена себе! – прошептал он. – Ни хрена себе, Люси! Ничего прекраснее я в жизни не видел.
Она знала, что Лауре это понравилось бы.
– Я просто подумала, что они тебе пригодятся, – сказала она. – Ты же много ездишь.
– «Пригодятся», – повторил он. – Знаешь что? Всю жизнь, сколько себя помню, я хотел такие чемоданы.
Он поставил стакан на стол, нагнулся и расстегнул застежки на одном из чемоданов, чтобы открыть его и тщательно осмотреть внутренности.
– Встроенные вешалки для пиджаков, все на месте, – объявил он. – Бог мой, ты только посмотри на все эти отделения! Люси, я даже не знаю… даже не знаю, как тебя благодарить.
Одно из неудобств, связанных с тем, что ты богат, – и Люси всю жизнь это знала – состоит в том, что, когда ты даришь дорогие подарки, люди нередко демонстрируют преувеличенную радость. Виной тому смущение, потому что взамен они не могут предложить ничего подобного; в таких ситуациях она всегда чувствовала себя неловко, что, впрочем, не мешало ей вновь и вновь совершать ту же самую ошибку.
Когда она принесла новую порцию виски и снова села в стоявшее напротив него кресло, выяснилось, что говорить им друг с другом особенно не о чем. Похоже, их не хватало даже на то, чтобы смотреть друг другу в глаза, – во всяком случае, отваживались они на это нечасто, как будто боялись обнаружить на лице собеседника соответствующую обстоятельствам приятную улыбку.
– Так когда ты уезжаешь? – спросила она через некоторое время.
– Завтра днем, наверное.
– Думаешь, доедет твоя машина до города?
– Ну разумеется. Раз сюда доехала, то и обратно доедет. Нет, теперь самое страшное – поиски квартиры. Это ежегодное развлечение, если хочешь жить в Нью-Йорке. Впрочем, каждый раз что-то находится, и к зиме у меня всегда есть какая-нибудь норка.
– А в этом году она будет особенно прекрасной, – сказала она, – потому что с тобой в этой норке будет жить Джули Пирс.
Выражение лица выдало его с головой. И он, очевидно, сразу же понял, что скрываться дальше смысла уже не имеет.
– Ну и что в этом такого? – спросил он. – Почему я не должен этого делать?
– Если мне не изменяет память, – начала Люси, – она какая-то слишком тощая и груди у нее вообще нет. Может, она и талантливая до жути, но крыша у нее слегка не на месте.
– Люси, это безвкусно, – сказал он, когда она договорила. – Я ожидал, что у женщин из твоего класса больше вкуса. Я думал, у вас это от рождения.
– Ага, а вам что дается от рождения? Безграничная тяга к похоти и предательству, наверное, а также изощренное умение причинять другим бессмысленную боль. Так ведь?
– Нет. Нам дается инстинкт выживания, и большинство из нас очень быстро понимают, что все остальное в этом мире значения не имеет. – Потом он добавил: – О господи, Люси, это маразм. Что мы как актеры какие-то! Слушай, разве есть какая-то особая причина, по которой мы с тобой не можем расстаться друзьями?
– Мне часто приходило в голову, – сказала она, – что «друзья» – это, вероятно, самое предательское слово в языке. Думаю, Джек, лучше тебе убраться отсюда прямо сейчас, хорошо?
Но самым неприятным, причем, похоже, для обоих, было то, что уходить ему пришлось с новыми чемоданами – по одному в каждой руке.
На следующее утро, когда она наводила порядок на кухне, безуспешно пытаясь забыть о нем, он появился у нее на пороге точно так же, как в первый раз: поразительно красивый молодой человек с большими пальцами в карманах джинсов.
Когда она впустила его в кухню, он сказал:
– Казимир Миклашевич.
– Что?
– Казимир Миклашевич. Это мое настоящее имя. Написать тебе?
– Нет, – сказала она. – В этом нет необходимости. Для меня ты навсегда останешься Стэнли Ковальским.
Он посмотрел на нее с изумлением.
– Неплохо, Люси, – сказал он. – Прекрасная реплика под занавес. Мне и крыть то нечем. Ладно, все равно: всего тебе доброго! – И он исчез так же внезапно, как возник.
Чуть позже, из окна в гостиной, она увидела, как нос его машины появился из-за деревьев у дальнего конца общежития. Ветровое стекло было залито солнцем, и она быстро отвернулась, присела на корточки и обеими руками закрыла глаза: ей не хотелось видеть сидящую рядом с ним Джули Пирс.
Еще позже, когда она упала на кровать, отдавшись наконец рыданиям, которые Теннесси Уильямс называл «сладкими», она пожалела, что не дала ему записать его настоящее имя. Казимир – как? Казимир – кто? Теперь-то она знала, что ее тонкая финальная реплика про Стэнли Ковальского была не просто дешевой и злобной – хуже, гораздо хуже. Это была ложь, потому что навсегда, навсегда он останется для нее Джеком Хэллораном.
Глава четвертая
Когда Люси решила наконец, куда ей ехать, ехать оказалось совсем недалеко. Она нашла удобный добротный дом в северной части Тонапака, почти на границе с Кингсли, и сразу же договорилась о покупке. Столько лет подряд, вслух и про себя, она говорила только об аренде, что уже сам поход в банк, где она оформляла покупку, казался отважным начинанием.
В новом доме ее устраивало абсолютно все. Он был высокий, он был широкий, но при этом не слишком большой; он был обустроенный. Высокие кусты и деревья закрывали его со всех сторон от соседей, и это ей тоже нравилось. Но больше всего ей нравилось, что от Нельсонов ее теперь отделял лишь короткий отрезок плавно изгибающейся асфальтированной дороги. Теперь она могла зайти к ним, когда ей захочется, – или Нельсоны могли зайти к ней. Летними вечерами по этой пятнистой от теней дороги могли прогуливаться целые толпы нельсоновских друзей – со смехом, с выпивкой в руках, с криками: «А где же Люси? Давайте позовем Люси!» – а следовательно, возможности для новых романов были почти неисчерпаемы.
Мэйтленды с переездом несколько отдалялись, но к тому времени она перестала считать их близкими и в переносном смысле. Если им так нравилось упорствовать в своей бедности – если Пол был и впредь намерен решительно избегать Нельсонов и все блестящие возможности, которые могли открыться посредством нельсоновских вечеринок, – то, быть может, разумнее было просто позабыть о них.
Она знала, что Лаура будет скучать по сестрам Смит, а может, и по диким просторам старого поместья, но она пообещала привозить ее туда, когда ей того захочется. С практической же стороны, как объясняла Люси по телефону своей матери и прочим недоумевавшим, огромный плюс покупки дома в пределах Тонапака состоял в том, что Лауре не придется переходить в другую школу.
Всего за несколько дней она обставила дом отличной новой мебелью, приобрела несколько старинных вещей – из тех, что обычно называют «бесценными», – и купила новую машину. В конце концов, ничто не мешало ей окружать себя исключительно вещами высшего качества.
О Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке она знала только то, что там обучают взрослых. Некоторое время назад ходили слухи, что школа стала прибежищем для закоренелых коммунистов [52]52
Новая школа социальных исследований была основана в Нью-Йорке в 1919 г. группой профессоров Колумбийского университета в знак протеста против ограничения академических свобод в связи с участием США в Первой мировой войне. В 1933 г. Новая школа приняла к себе неомарксистов Франкфуртской школы, вынужденных бежать из нацистской Германии; чуть позже число профессоров в изгнании пополнилось за счет эмигрантов из Франции (в их числе были философ Жак Маритен и антрополог Клод Леви-Строс). Известные левые интеллектуалы преподавали в школе и в послевоенные годы. В 1959–1961 гг. один из курсов писательского мастерства в школе вел Ричард Йейтс.
[Закрыть], но это ее не смущало: она нередко думала, что и сама стала бы закоренелой коммунисткой, родись она лет на десять раньше. Кое-кто из товарищей мог бы, пожалуй, презирать ее за богатство, но скромный образ жизни избавил бы ее от лишних упреков, а другие товарищи еще больше ценили бы ее за это. Даже и сейчас ее ничуть не раздражали коммунистические речи, если, конечно, они не исходили от людей типа Билла Брока, да и Билла она презирала только потому, что всегда подозревала: первым, кто сломается под любого рода политическим давлением, будет именно он.
Но теперь на новом кофейном столике в новой гостиной ее нового дома лежал неожиданно толстый каталог курсов Новой школы на весенний семестр, и, планируя свою новую жизнь, она занялась подробным его изучением.
Кафедра, носившая название «Писательское мастерство», предлагала пять или шесть курсов, к каждому было составлено описание на один или два абзаца, и она быстро поняла, что каждый преподаватель сочинял свой текст, отчаянно пытаясь превзойти коллег.
Среди преподавателей ей попался один или два писателя, о которых она что-то слышала, но никогда не читала; остальных она просто не знала. В конце концов она остановила свой выбор на одном из незнакомых имен – Карл Трейнор, – взяла карандаш и отметила его курс жирной чертой на полях. Никаких особенных достижений в его биографии не значилось (рассказы в ряде журналов и в нескольких антологиях), но она обнаружила, что то и дело возвращается к описанию его курса, и в итоге должна была признать, что оно нравится ей больше других:
Курс посвящен написанию рассказов. Задания будут включать в себя чтение рассказов известных авторов, однако основная часть еженедельных занятий будет посвящена разбору собственных сочинений слушателей. По окончании курса слушатели овладеют навыками написания короткой прозы, но основная его цель – помочь каждому начинающему автору найти собственный литературный голос.
В ожидании начала весеннего семестра Люси почти что свыклась с представлением о себе как о писательнице. Она сосредоточенно изучала два рассказа, которые ей удалось написать за последний год, и вносила мелкие правки, пока ей не стало казаться, что дальнейшая редактура все только испортит. Рассказы были написаны, причем вполне нормальные, и они были ее собственные.
Когда пишешь, совершенно безразлично, насколько истеричное у тебя лицо или интонации (если, конечно, дело не идет об истеричности твоего «литературного голоса»), потому что прозу пишут в укромной тиши и в одиночестве. С рук может сойти даже частичное сумасшествие, ведь бороться за самообладание здесь можно еще упорнее, чем боролась Бланш Дюбуа, и если повезет, то на читателя с твоих страниц повеет ощущением порядка и здравомыслия. Читают ведь, в конце концов, тоже в тишине и одиночестве.
Для февраля утро выдалось неожиданно ясное и теплое – идти по Пятой авеню в самом ее начале было удивительно приятно. Майкл Дэвенпорт всегда говорил, что хотел бы когда-нибудь жить именно в этом спокойном, парадном районе – «как только пьесы начнут наконец окупаться»; как-то, много лет назад, она опрометчиво напомнила ему, что они могут переехать сюда когда захотят – хоть сейчас, если есть такое желание, и в ответ он, как и следовало ожидать, свирепо нахмурился и промолчал всю дорогу до самой Перри-стрит, давая понять, что она опять нарушила их старый уговор.
По ее воспоминаниям, Новая школа располагалась в каком-то темном, советского вида здании, и, хотя здание это никуда не делось, теперь тон задавала прилегающая к нему новая постройка; она была больше, выше, вся из стекла и стали – яркая и алчная, как Соединенные Штаты Америки.
Бесшумный лифт привез ее на указанный этаж, и она робко прошла в свою аудиторию: длинный узкий стол, вокруг которого были расставлены стулья. Некоторые уже расселись, не зная, следует ли друг другу улыбаться, другие только подходили. Преобладали женщины – и это было досадно, потому что Люси смутно надеялась на обилие привлекательных мужчин, – и, за исключением парочки молоденьких девушек, все они были среднего возраста. Люси сразу же подумала (возможно, без всяких на то оснований), что все они были домохозяйками, дети у которых выросли и разъехались, предоставив им наконец свободу для реализации собственных амбиций. Из немногих присутствовавших в классе мужчин самым заметным был парень с грубоватым лицом, похожий на водителя грузовика; на нем была зеленая рабочая рубашка с логотипом какой-то компании на левом нагрудном кармане – такой писатель наверняка будет стараться как можно больше материться в своих топорных рассказах, – и он уже завязал какой-то необязательный разговор с сидевшим рядом мужчиной пониже; тот казался таким бледным и кротким в своем деловом костюме и в розовых очках без ободка, что Люси решила, что он, должно быть, бухгалтер или зубной врач. Еще дальше сидел совсем пожилой мужчина – седые волосы клоками свисали с его лысой головы и торчали пучками из ноздрей; он, вероятно, был пенсионером, который решил попробовать себя и в этом деле, и его насмешливый рот уже пришел в едва заметное движение, как будто он примеривал на себя роль классного шута.
Последним, кто вошел в класс и с некоторой неловкостью занял свое место во главе стола, был преподаватель. С первого взгляда этого высокого стройного человека можно было принять за мальчика, но Люси решила, что сутулость, легкая дрожь в руках и темные круги под глазами выдавали в нем человека глубоко за тридцать. Первым словом, которое пришло ей в голову при виде учителя, было слово «меланхолия», и она решила, что для человека, который учит других писать, это качество совсем не бесполезное – в сочетании, конечно, с качествами более живыми.
– Доброе утро, – сказал он. – Меня зовут Карл Трейнор, и некоторое время мне хотелось бы потратить на то, чтобы познакомиться с вами. Наверное, лучше всего, если я буду называть вас по списку, который мне дали, а потом, если есть такая возможность, – не хочу никого принуждать, так что если у вас нет желания что-либо говорить, то и не нужно, – но если есть такая возможность, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас коротко рассказал о себе и о том, чем вы занимаетесь.
У него был приятный глубокий и ровный голос, и Люси почувствовала, что начинает ему доверять.
Услышав свое имя, она сказала:
– Я, здесь. Мне тридцать четыре года, я разведена. – И она сразу удивилась, зачем решила это сказать. – Я живу с дочерью в округе Патнем. Литературного опыта у меня почти нет – я писала только в колледже, много лет назад.
Как минимум половина студентов не стали рассказывать о себе, и Люси знала, что, если бы ее имя шло дальше по алфавиту, она бы тоже так поступила, и теперь она была собой недовольна. В пространстве, где на глазах у всех будут обнажаться самые тайные эмоции, сдержанность имела особенную важность. Теперь можно было только гадать, не обернется ли это странное и опрометчивое сообщение о разводе ощущением неловкости на всех оставшихся занятиях.
Закончив перекличку, Карл Трейнор перешел к предварительным замечаниям.
– Что ж, – начал он, – пожалуй, я смог бы за полчаса рассказать все, что знаю о том, как писать художественную прозу, и я бы даже с радостью попытался это сделать, потому что больше всего в жизни люблю выпендриваться.
Он ждал, что слушатели в этом месте засмеются, но смеха так и не последовало, и было видно, что руки у него задрожали еще сильнее.
– Но курс у нас не лекционный. Научиться этому ремеслу можно, только впитав в себя его образцы, старые и новые, и вложив лучшее из того, что мы в них обнаружим, в нашу собственную работу.
Потом он довольно долго объяснял, в чем, по его мнению, ценность «творческой мастерской»: каждая рукопись получает здесь своего рода публикацию, потому что оценить ее смогут как минимум пятнадцать человек. Дальше он перешел к тому, какую критику ожидает от участников мастерской. Желательно выступать с конструктивной критикой, сказал он, однако перестраховываться и миндальничать тоже ни к чему; при этом слову «честность» он доверять перестал, потому что слишком уж часто используют его для оправдания излишней жестокости. Он надеялся, что они смогут быть беспристрастными, но не беспардонными.
– Сейчас мы не знакомы, – сказал он, – но за предстоящие шестнадцать недель узнаем друг друга довольно близко. Взрывоопасность заключена в самой природе писательской мастерской; разговоров на повышенных тонах здесь не избежать, кто-то наверняка будет обижен. Поэтому давайте возьмем себе за правило: работа важнее человека. Постараемся быть друзьями, но в воркующих голубков превращаться не стоит.
Но и в этом месте никто не засмеялся. Рук его давно уже не было видно, потому что одна лежала под столом у него на коленке, а другую он спрятал в кармане пиджака. Люси решила, что никогда еще не видела такого нервного преподавателя. Зачем он так долго говорит, если ему от этого так плохо?
А он все говорил и говорил, и она перестала бы уже слушать, если бы речь не зашла о «процедурных вопросах», как он выразился.
– И вот еще что, – сказал он. – К сожалению, школа не дает возможности писательским мастерским пользоваться своей множительной техникой, поэтому я не смогу раздавать вам рассказы. Так, конечно, было бы лучше, но придется считаться с условиями, в которые мы поставлены. Единственное, что нам остается, – читать рассказы вслух прямо в классе. Делать это будет либо автор, либо я сам, а затем мы будем обсуждать услышанное.
Вот это было неприятно. Люси думала, что ее рукописи будут читать как настоящие рассказы и что каждый представит ей письменный комментарий. Не достаточно просто их прослушать – к началу следующего предложения человек может забыть половину предыдущего, что само по себе плохо, – но, кроме того, это будет практически то же самое, что выступать на сцене.
– Кое-кто из вас прислал свои рассказы заранее, – продолжал Карл Трейнор. – И я выбрал один для сегодняшнего занятия. Миссис Гарфилд, – и он неуверенно посмотрел куда-то вдаль, – вы сами прочитаете свой рассказ или?..
– Нет, прочитайте лучше вы, – отозвалась одна из дам. – Мне нравится ваш голос.
И Карл Трейнор не смог скрыть своего удовольствия; вероятно, ему уже очень давно не говорили комплиментов.
– Ну хорошо, – сказал он. – Рассказ на пятнадцать страниц, и называется он «Возрождение».
И он начал читать голосом звучным и подчеркнуто размеренным, как будто старался показать, что миссис Гарфилд не зря его похвалила.
Весна в тот год наступила поздно. На проталинах, окруженных длинными грядами медленно тающего снега, едва начали пробиваться крокусы; все деревья стояли голыми.
На рассвете пробежала по главной улице городка бездомная собака, вынюхивая за скромными фасадами признаки жизни, да взвыл где-то далеко за полями, одиноко и жалобно, свисток паровоза.
Страницы через две автор перешла к расположенному в бедном квартале пансиону, описала во всех подробностях дом и квартал, в котором он находился, а затем провела читателей внутрь, чтобы познакомить их с молодым человеком по имени Арнольд: было ему двадцать три года и он медленно, с огромным трудом просыпался. Про Арнольда говорилось, что прошлой ночью он сильно напился и что это была ночь «утрат». Но читателю или слушателю предстояло пройти вместе с ним через все этапы его утренней деятельности – сначала он неумело варил кофе на старой плитке, потом пил его маленькими глотками, принимал душ в рыжей от ржавчины ванне и надевал на себя вещи, свидетельствующие о его принадлежности к самым низам среднего класса, – чтобы в конце концов узнать, что же он потерял. Месяц назад от него ушла молодая жена – не выдержав его «разгула», она уехала к родителям в другой город. Тут Арнольд садился в свой «разбитый» пикап и ехал прямиком в этот город, где обнаруживал, что родители очень удачно уехали куда-то на весь день.
«Может, поговорим, Синди?» – спрашивал он жену, после чего следовал разговор – разговор недолгий, но «удачный», потому что каждый сказал то, что другой хотел услышать; на этом и заканчивался, к искренней радости слушателей, рассказ миссис Гарфилд.
– Итак, – устало сказал Карл Трейнор, – какие будут комментарии?
– Замечательный рассказ, мне кажется, – отозвалась одна из женщин. – Тема возрождения заявлена в названии, далее она развивается через описания природы – земля возрождается с приходом весны – и затем находит разрешение в возрождении брака этих молодых людей. Я была глубоко тронута.
– Да, я согласна, – сказала другая женщина. – Хочется поздравить автора. У меня только один вопрос: если миссис Гарфилд умеет так писать, зачем ей еще чему-то учиться?
Потом настала очередь человека, похожего на водителя грузовика, – его звали мистер Келли.
– Меня сильно смущает вступление, – сказал он. – Слишком уж оно затянутое, мне кажется. Тут тебе и погода, и городок, и бездомная собака, и свисток паровоза, и еще черт знает что – а мы даже еще и до пансиона не добрались. Да и от пансиона до этого парня сколько приходится ждать. Не понимаю, почему сразу не дать парня и уже потом все остальное… И все-таки больше всего, – продолжал он, – меня смущает разговор в конце. Не думаю, что хоть кому-то в этой жизни удавалось так ясно выразить, что он думает, а эти ребята прямо снимают реплики друг у друга с языка. В кино такой разговор еще прошел бы, потому что там подпустили бы фоном какую-нибудь слащавую музыку, чтобы было понятно, что это уже конец. Ну тут-то у нас не кино. У нас, кроме пера и бумаги, ничего нет, так что писателю надо еще побиться, чтобы разговор вышел убедительно. Но даже и тогда – даже и тогда я не уверен, что одного разговора будет тут достаточно. Не уверен, что жизнь может развернуться вот так, на сто восемьдесят градусов, от одного разговора. Наверное, тут нужна еще какая-то вещь. Крокус вряд ли сгодится – будет слишком уж символично, и вряд ли нам понравится, если девушка скажет ему, что беременна, потому что тогда это будет совсем уже другая история, – но что-то тут должно быть. Случайность какая-нибудь, событие; что-то неожиданное, но правдоподобное. Ладно, я, похоже, заговорился.
– Вовсе нет, – сказал седовласый господин. – Вы верно говорите. – И он обернулся к преподавателю. – По этому рассказу я полностью согласен с мистером Келли. Он сказал ровно то, что я сам хотел сказать.
Когда были высказаны все мнения – несколько человек от комментариев отказались, – настало время подводить итог. Карл Трейнор рассуждал минут двадцать, то и дело поглядывая на часы, и в его голосе слышались попеременно вкрадчивость и сомнение. Сначала казалось, что он разделяет точку зрения мистера Келли, – он еще раз прошелся по всем отмеченным им недостаткам и порекомендовал миссис Гарфилд обратить на них внимание, однако потом стал делать уступки глубоко тронутым женщинам. Он сказал, что тоже не вполне понимает, зачем миссис Гарфилд решила еще чему-то учиться, однако он был этому рад, потому что иначе вся группа лишилась бы удовольствия и пользы от ее присутствия.
– Что ж, – сказал он, закончив, вернее обнаружив на часах, что на сегодня он выполнил свои обязательства перед школой, – на этом мы и закончим.
Негусто. Ради этого вряд ли стоило ехать из Тонапака. Но Люси хотелось верить, что дальше будет интереснее; да и, кроме того, заняться ей больше было нечем.
На втором или третьем занятии очередь дошла до молодежи – пока мистер Трейнор читал рассказ тоненькой симпатичной девушки, она хмурилась и краснела, стиснув руки и не отрывая от них взгляда.
День стоял имбирно-лимонадный. Гуляя между старыми университетскими корпусами, которые она за три года успела уже полюбить, – скоро будет четыре, напомнила она себе, – Дженнифер не могла избавиться от ощущения, что именно в такие дни случаются чудеса.
И чудо не заставило себя ждать. В университетской столовой она познакомилась с отличным парнем, которого раньше никогда не видела: он только что перевелся на четвертый курс из другого колледжа. Они «взяли кофе», а потом весь день гуляли и разговаривали, причем ладили друг с другом отлично. У парня была синяя «МГ» [53]53
«MG» – британская спортивная машина, производившаяся с 1924 по 1980 г. Название расшифровывается как «Morris Garages»: первые индивидуальные образцы этих машин делались в мастерской Дилера «Morris Motor Company» в Оксфорде.
[Закрыть], которой он «восхитительно» управлял, и он повез ее в отличный ресторан в соседнем городе. Там при свечах они выбрали блюда, названия которых давались в правильной французской орфографии (хотя мистер Трейнор все равно не знал, как их читать), и Дженнифер неожиданно подумала, что «так и начинаются настоящие отношения». Вернувшись к университету, они ушли далеко в лес, начинавшийся сразу за жилыми корпусами, и долго расслаблялись там на траве.
Люси помнила, что в войну «расслабляться» означало трахаться; пока она не услышала этого рассказа, ей и в голову не приходило, что следующее поколение девочек ничего такого в виду не имеет: они просто обнимались и целовались, – быть может, она расстегнула для него лифчик, может, даже разрешила ему забраться рукой в трусики, но не больше.
Дженнифер пригласила парня к себе в комнату «на чай», и там-то и начался весь ужас. Он был груб. Ему надо было сразу же с ней переспать, без предварительных нежностей, а когда она отказалась, он «стал сам на себя не похож – это был маньяк, а не человек». Он орал на нее. Обзывал ее так, что ей страшно даже вспомнить, и, когда он совсем разошелся, она съежилась от страха, но, к счастью, заметила у себя перед зеркалом тяжелые ножницы; она схватила их обеими руками и направила острыми концами ему в лицо. Когда он наконец ушел, хлопнув дверью, она забилась под одеяло и заплакала. Теперь она понимала, что этот парень ненормальный, психически неуравновешенный, ему нужно лечиться, – может, поэтому ему и пришлось переводиться на последнем курсе в другой колледж. Уже под утро она вспомнила отца, который часто повторял с мудростью и смирением в голосе: «Никогда нельзя забывать о тех, кому повезло меньше, чем нам». И уже в полусне она подумала, что настоящие отношения у нее еще когда-нибудь будут.
Одна из женщин осторожно похвалила сжатость и лаконизм прозы, и другая сказала, что ей понравилась сцена в ресторане, но тут же добавила, что не может объяснить почему.
Затем спросили мнения мистера Келли, но он только сложил руки на груди, прикрыв логотип на рубашке, и сказал, что на этот раз предпочел бы не высказываться.
Вся работа досталась в итоге мистеру Каплану – человеку, похожему на зубного врача или бухгалтера.
– Этот рассказ мне показался крайне незрелым, – сказал он. – Я бы никогда не подумал, что в тексте, написанном взрослым человеком, может вылезти столько глупости – у автора, я имею в виду, а не у героини. А при таком раскладе никакие технические ухищрения уже не помогут.
– Я с этим соглашусь, – сказал старик. – И вот что еще скажу: неплохо было бы услышать, как парень воспринял всю эту историю. Интересно было бы узнать, что он чувствовал, когда она полезла с ножницами к нему в лицо.
– Но она же была в ужасе, – сказала одна из женщин. – Он себя не контролировал. Она думала, что он хочет ее изнасиловать.
– Да какое, в жопу, изнасиловать! – сказал старик. – Прошу прощения, дамы, но в этом рассказе она его продинамила, вот и все. Да, и еще: понятия не имею, что такое имбирно-лимонадный день. И боюсь, никто этого не знает.
Люси боялась взглянуть на девушку, написавшую этот рассказ, но все же рискнула. Девушка больше не краснела – теперь ее лицо выражало спокойное презрение; ее хватило даже на то, чтобы изобразить улыбку сочувствия и понимания, адресованную собравшимся в этой комнате идиотам – если не всем идиотам вообще.
С девушкой было все в порядке, она переживет – и мистер Трейнор, похоже, прекрасно это понимал. Он даже не стал упрекать старика в излишней грубости, как будто начисто позабыв, как осуждал на первом занятии «беспардонную» критику; он просто ухмыльнулся и сказал, что одни тексты всегда вызывают больше полемических выпадов, чем другие. Потом он сообщил девушке, что ее рассказ действительно нуждается в переработке:
– Если бы вы придумали, как смягчить пафос собственной правоты или сделать его не столь явным, у вас получилось бы куда более убедительное… куда более убедительное изложение.
На следующей неделе слушали первый, более легковесный рассказ Люси «Мисс Годдард и мир искусства». Пока Трейнор читал его вслух, она сидела, сжавшись от страха, хотя должна была признать, что читал он довольно хорошо; проблема была в том, что множество мелких ошибок, которых она не замечала раньше, в его речи зазвучали теперь со всей ясностью. Когда чтение закончилось, она ощутила слабость; ей хотелось спрятаться; оставалось только надеяться, что сегодня мистер Келли молчать не станет.








