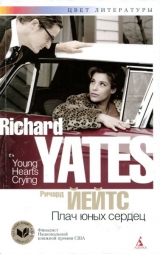
Текст книги "Плач юных сердец"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Кофе Люси на самом деле не хотелось, а с печеньем проблема состояла в том, что на вид оно было не меньше шести дюймов, и как его вообще можно съесть, Люси попросту не знала. Говорить с Пегги Мэйтленд было практически не о чем – было всего две-три общих темы, и Люси старалась задержаться на каждой из них как можно дольше, только чтобы не сидеть потом в полном молчании.
Да, у мамы и отчима было «все нормально». Да, у Дианы и Ральфа Морина тоже все было «нормально», хотя они все еще жили в Филадельфии; у них было уже двое маленьких сыновей и скоро должен был родиться третий ребенок.
– И кстати говоря, – сказала Пегги, – я тоже беременна. Мы совсем недавно об этом узнали.
Люси сказала, что это замечательно; сказала, что очень рада; сказала, что она уверена, что рождение ребенка принесет им обоим огромную радость, и даже выразила надежду, что этот ребенок будет первым из многих других, потому что Пол и Пегги всегда казались ей идеальной парой для большой многодетной семьи.
Но пока она прислушивалась к собственному голосу, произносящему все эти слова, не решаясь отвести ото рта это гигантское печенье, она прекрасно понимала, что, как только она замолчит, в комнате воцарится молчание.
Так оно и оказалось. У нее получилось еще откусить печенье и сказать, жуя, «очень вкусно», но после этого тишину не нарушало уже ничего. Пегги не задала Люси ни одного вопроса – не спросила даже ни про Лауру, ни про Лигу студентов-художников, – а раз вопросов больше не было, то и разговор продолжаться не мог. Предавшись молчанию, они обе сосредоточились на одном: ждали, когда придет Пол.
«Ты никогда мне не нравилась, Пегги, – сказала про себя Люси. – Ты очень симпатичная, и я знаю, что все считают тебя сокровищем, только вот мне ты всегда казалась испорченной, самовлюбленной и грубой. Почему ты не повзрослела и не научилась быть доброй, как большинство других людей? Хотя бы внимательной к другим? Хотя бы вежливой?»
Но вот наконец за дверью послышался топот, и в дом вошел Пол.
– Привет, – сказал он, опуская на пол ящик с инструментами. – Рад тебя видеть, Люси.
Выглядел он устало – заниматься физической работой ради служения искусству было ему уже слегка не по возрасту, – и направился он прямиком к бару. Люси решила, что ей повезло, потому что, как только Мэйтленды повернулись к ней спиной, она смогла открыть сумочку и запихать туда это проклятое печенье.
Пол почти уже допил второй стакан, когда вспомнил, зачем приехала Люси.
– Ну так и что с этими картинами? – спросил он.
– Они у меня в машине.
– Помочь тебе принести?
– Нет, Пол, сиди, – сказала она. – Я сама принесу. Там их всего четыре.
Когда она внесла их в дом и стала расставлять в гостиной вдоль стены, она уже настроилась на разочарование. И в первую очередь она готова была пожалеть, что вообще приехала в этот дом.
– Ну что, славные работы, Люси, – сказал Пол через некоторое время. – Очень славные.
Мистер Сантос умел сказать это слово так, что оно наполняло тебя гордостью и надеждой, но Пол употреблял его совсем иначе. И, оторвавшись от картины, он ни разу даже не посмотрел на Люси.
– Я никогда не мог толком ничего оценить, я тебе говорил, – сказал он, – но в данном случае я, конечно же, вижу, сколько дала тебе Лига. Ты многому научилась.
Собраться и сложить картины получилось быстрее, чем расставить их для показа, и, направляясь к двери, она с легкостью подхватила их под мышку.
Пол поднялся, чтобы с ней попрощаться, и только в этот момент в первый раз посмотрел ей в глаза: его печальный взгляд по-дружески просил у нее прощения за то, что он не смог сказать большего.
– Не забывай нас, Люси, приезжай почаще, – сказал он, а Пегги не сказала ни слова.
Люси заехала домой, только чтобы принять душ и переодеться, потому что обещала быть в студии у Тома Нельсона задолго до того, как начнут собираться гости. Пока она причесывалась, ее охватила какая-то тихая радость, и она только потом поняла, в чем было дело: Чарли Рич будет все время о ней думать.
Том сидел и барабанил под запись Лестера Янга и был, казалось, полностью погружен в музыку, однако стоило ему увидеть Люси, как он моментально остановился, поднялся и выключил проигрыватель.
– Слушай, Том, – начала она, – хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал. Если картины тебе не понравятся, ты так мне и скажи. Если сможешь объяснить, почему они тебе не нравятся, мне это будет полезно, – может быть, это чему-нибудь меня научит; но главное, чтобы ты сказал мне все это прямо. Давай без дураков, ладно?
– Ну, это уж само собой, – сказал Том. – Буду безжалостен. Буду зверски жесток. Только давай я для начала скажу, что выглядишь ты сегодня потрясающе.
И когда она благодарила его за комплимент, изобразить особую стеснительность у нее не получилось – она знала, что действительно хорошо выглядит. На ней было новое платье, причем такое, про которые говорят: «Ах, ты в нем совершенно преобразилась!» – прическа была точно какая надо, а желание услышать оценку собственных работ, вполне возможно, придавало выражению ее лица и глаз определенное сияние.
Она расставила все четыре картины вдоль стены рядом с барабанной установкой, и Том по очереди присел перед каждой из них, чтобы внимательно рассмотреть. Делал он это очень неспешно, и она начала уже подозревать: он просто тянет время, пытаясь сообразить, что можно сказать.
– Ну да, – проговорил он наконец и провел своей выразительной рукой вдоль изогнутой линии на картине, которую она считала своей лучшей. – Ну да, вот это очень симпатично сделано. Да и вообще вся эта часть симпатичная; и вот эта тоже. И еще вот здесь, на этой картине, очень удачная композиция. И цвета тоже удачные.
Потом он встал, и она знала, что, если у нее не будет вопросов, разговор на этом закончится.
– Ну да, Том, – сказала она, – я понимаю, что эти картины вряд ли тебя покорили, но можешь ты мне сказать, как ты в общем их оцениваешь? Не кажутся они тебе каким-то капустником в Дикси?
– Не кажутся ли они мне чем?
– Ну, это просто такое выражение. Я хотела спросить, не кажутся ли они тебе совсем уж любительскими?
Он отступил от нее и с видом одновременно раздраженным и сочувственным засунул обе руки в боковые карманы своей десантной куртки.
– Ну, Люси, – проговорил он, – что я могу сказать. Конечно, они любительские, дорогая, но это потому, что ты и сама любительница. Нельзя же требовать от человека профессиональной работы после нескольких месяцев в Лиге; в общем, никто от тебя этого и не ждет.
– Какие несколько месяцев, Том? – сказала она. – Я хожу туда уже почти три года.
– Можно мне глянуть? – крикнула с кухни Пэт Нельсон и тут же вошла в студию, вытирая руки о посудное полотенце.
Она глянула на картины, потом добросовестно, не торопясь рассмотрела каждую и в конечном счете сообщила Люси, что они впечатляют.
Но скоро уже должны были подъехать первые гости, так что Люси вынесла картины во двор, где стояла ее машина. Она положила все четыре поверх восьми остальных, а потом с силой захлопнула багажник и закрыла его на ключ – настолько решительно, что было понятно: в Лигу студентов-художников она больше не вернется.
Она долго стояла одна в тени громко шелестящих высоких деревьев, на манер Бланш Дюбуа прижимая к губам костяшки пальцев; только она не плакала. Впрочем, Бланш тоже никогда не плакала; это Стелла могла позволить себе «сладко» разрыдаться. У Бланш не было в этом нужды, потому что отчаяние было знакомо ей не понаслышке, и Люси чувствовала, что скоро тоже познакомится с ним вплотную.
Однако отчаянию придется подождать еще как минимум несколько часов, потому что у Нельсонов сегодня была вечеринка. Чип Хартли тоже, вероятно, приедет, но она давно уже научилась этого не бояться: они не раз встречались на этих вечеринках уже после того, как расстались, и с удовольствием друг с другом беседовали. Один или два раза – три на самом деле – она даже отправлялась в Риджфилд, чтобы переспать с ним. Они были «друзья».
И уже на подходе к дому, у самой кухонной двери, она передумала насчет Лиги. Она туда вернется – хотя бы для того, чтобы увидеть Чарли Рича. Вдруг он окажется гораздо старше, чем выглядит; и потом, каким бы предательским ни казалось слово «друзья», она знала, что скоро ей понадобятся все друзья, какие только найдутся.
В яркой от влаги кухне она стояла, как модель, положив одну руку на бедро, и спокойно приглаживала волосы другой. Ей было тридцать девять лет, и ни о чем в этом мире она ничего толком не знала и, наверное, никогда уже не узнает, но ей не нужен был ни Том Нельсон, ни кто-либо другой, чтобы знать: никогда еще она не выглядела так хорошо.
– Пэт, – сказала она, – раз уж все и так в курсе, что я практически алкоголичка, думаешь, нормально будет, если я налью себе стаканчик?
Часть третья
Глава первая
В ретроспективе жизнь после развода всегда распадалась для Майкла Дэвенпорта на два исторических периода: до Бельвю и после Бельвю. И хотя первый длился всего год с небольшим, в памяти он занимал гораздо больше времени – хотя бы потому, что в этот период с ним столько всего произошло.
Это был год меланхолии и сожалений, и, чтобы вспомнить об этом, Майклу достаточно было взглянуть на бесконечную печаль, которую не могли изгнать с лица дочери ни улыбка, ни даже смех. И все же вскоре он обнаружил, что одиночество может быть источником неожиданной силы, – он нередко оживлялся и приходил в состояние юношеской отваги и готовности; и втайне он всегда гордился тем, что уже через три недели после отъезда из Тонапака ему удалось покорить молодую и потрясающе красивую девушку.
– Место-то, конечно, ничего, – сказал Билл Брок, осматривая дешевую квартиру, которую Майкл нашел себе на Лерой-стрит в Уэст-Виллидж. – Но нельзя же все время отсиживаться в этой дыре, Майк, ты же тут с ума сойдешь. Смотри: в пятницу вечером на севере будет мажорская вечеринка – какой-то рекламист ее устраивает, я сам его толком не знаю. Косит под какого-то суперудачливого гангстера – ну да и хрен с ним: на такой вечеринке кто угодно может оказаться.
И Брок присел на корточки перед письменным столом, чтобы написать на бумажке адрес и фамилию.
Дверь там открыл радушный мужчина, тут же объявивший, что друзья Билла Брока – его друзья, и Майкл нерешительно вошел в комнату, забитую галдящими и выпивающими незнакомцами, производившими впечатление прохожих, которых собрали наугад на ближайшей улице: их сходство ограничивалось дорогой одеждой.
– Толпа собралась немаленькая, – сказал Билл Брок, когда Майклу удалось наконец его найти. – Только никого особенно интересного, боюсь, нет – в смысле никого свободного. Разве что в той комнате имеется необыкновенная молодая британка, но к ней не подойти. Окружена со всех сторон.
Она и вправду была окружена: за ее внимание одновременно боролись пятеро или шестеро мужчин. Но она была вся настолько необыкновенная – глаза, губы, скулы, аристократический английский прононс – все как у первой красавицы из какого-нибудь английского фильма, что любая попытка протиснуться к ней поближе не казалась лишенной смысла.
– …Мне нравятся ваши глаза, – сказала она ему. – У вас очень печальные глаза.
Уже через пять минут она согласилась встретиться с ним у выхода, «как только получится отсюда смотаться»; на это ушло еще пять минут; и следующие полчаса они провели за выпивкой в ближайшем баре, где она сообщила, что ее зовут Джейн Прингл, что ей двадцать лет, что она приехала в Америку пять лет назад, когда ее отца «назначили руководителем американского отделения какой-то гигантской международной корпорации», что теперь ее родители развелись и что она «уже какое-то время совсем неприкаянная». Правда, она тут же заверила его, что ни от кого не зависит: на жизнь она зарабатывала в каком-то театральном агентстве, где была секретаршей, и работа ее устраивала («Люди мне там нравятся, и они меня любят»).
Но Майкл уехал с ней из этого бара на такси еще до того, как она закончила все это рассказывать, и едва ли не в следующее мгновение она уже лежала голая у него в кровати, сладостно обвивая его ногами, извиваясь и задыхаясь от нахлынувшего на нее, как она чуть позже заверила его сквозь слезы, первого в жизни оргазма.
Джейн Прингл была так прекрасна, что в ее присутствие почти невозможно было поверить, но больше всего ему нравилось то, что она была не против остаться с ним навсегда – или, как она сама говорила, «пока ты сам от меня не устанешь». И хотя первые дни и недели, которые они прожили вместе, вряд ли можно было назвать самыми счастливыми в жизни Майкла – слишком много в них было деланых улыбок и вздохов, – именно тогда он убедился, что все его чувства снова ожили и приобрели поразительную яркость и свежесть, а этого пока что было вполне достаточно.
Дважды в месяц она охотно уничтожала все следы своего присутствия в квартире, когда Лаура приезжала на выходные, однако, посадив дочь на поезд в воскресенье, он возвращался на метро с уверенностью, что в его окнах на Лерой-стрит будет гореть свет: Джейн была уже там и ждала его возвращения.
Вообще-то, считалось, что она живет у своей тетки, «старой зануды», недалеко от Грамерси-парка, – там она держала свои вещи. А разве тетя не выражает недоумений по поводу ее нового жизненного уклада?
– Нет-нет, – заверила его Джейн. – Она никогда не задает вопросов. У нее духу не хватает. Она сама страшно богемная. Майкл, ну когда ты уже разденешься?
Она находила столько поводов, чтобы сказать ему, какой он замечательный, что он бы и сам в это уверовал, если бы его самооценка не страдала ежедневно в процессе работы. С тех пор как он переехал в Нью-Йорк, у него не получилось ни одного стихотворения. Сначала он думал, что присутствие Джейн в его жизни поможет переломить ситуацию, но месяц проходил за месяцем, а он все так же воевал со словами.
На недостаток уединения жаловаться не приходилось, потому что Джейн работала всю неделю, и это само по себе было частью проблемы: когда ее не было, он по ней скучал.
А работу свою она, похоже, действительно любила. Она называла ее «развлекухой», сколько бы он ни говорил ей, что такого существительного не существует, никогда не позволяла себе опаздывать и утром всегда уезжала в офис идеально одетой и ухоженной, и по вечерам он всегда удивлялся, сколько свежести и живости она способна была сохранить после целого дня за столом секретарши. Она возвращалась в его жизнь с резким запахом осени, с песенкой из новой музыкальной комедии, а иногда и с целой сумкой дорогих продуктов («Ты не устал от ресторанов, Майкл? И вообще мне нравится для тебя готовить; люблю смотреть, как ты съедаешь то, что я сделала»).
И даже когда работа переставала быть развлечением, в ней всегда находилось место для мелодрамы.
– Я сегодня плакала на работе, – сообщила она однажды, опустив глаза. – Ничего не могла с собой поделать. Но Джейк обнял меня и не отпускал, пока я не успокоилась, очень мило с его стороны, я считаю.
– Кто такой Джейк? – Майкл был поражен, как быстро она заставила его ревновать.
– Он из компании; один из владельцев. Другого зовут Мейер, он тоже хороший, но иногда бывает грубым. Сегодня он на меня наорал – раньше он такого никогда себе не позволял; поэтому я и расплакалась. Правда, потом было видно, что ему самому паршиво, и он очень извинялся, перед тем как уйти.
– И сколько у вас там народу? Только эти двое или еще есть?
– Нас четверо. Есть еще Эдди. Ему двадцать шесть лет, мы с ним большие друзья. Почти каждый день вместе обедаем, а однажды даже прошли в танго всю Сорок вторую улицу – просто для прикола. Эдди хочет стать певцом, то есть он и есть певец, причем, по-моему, абсолютно замечательный.
Он решил не спрашивать больше про офис. Выслушивать все это ему не хотелось; тем более что пока она приходила домой с явным желанием еженощно ублажать его в постели, все это не имело ни малейшего значения.
Когда он смотрел, как Джейн ходит по квартире, когда гулял с ней по вечерним улицам или сидел в старой доброй «Белой лошади», на ум ему то и дело приходило слово «необыкновенная», брошенное Биллом Броком. Она и вправду была необыкновенная. Он стал ощущать, что никак не может насытиться ее телом, а то, что он скучал по ней, пока она была на работе, свидетельствовало и о более глубокой привязанности. Он даже почти уже не замечал ее деланых улыбок и вздохов – они были частью ее стиля – и часто сожалел, что история ее жизни слишком уж изобилует всякими историями.
В семнадцать лет она вышла замуж за молодого преподавателя престижной частной школы в Нью-Гэмпшире, где она сама училась, но семейная жизнь оказалась такой «отвратительной», что родители устроили развод, не дождавшись первой годовщины свадьбы.
– И это был последний раз, когда мне пришлось в чем-либо полагаться на родителей, – сказала она. – Больше и не подумаю ни о чем их просить. Они теперь так поглощены ненавистью друг к другу и оба так носятся со своей новой любовью, что я стала их немножко презирать. И хуже всего то, что они оба испытывают передо мной страшное чувство вины: меня это бесит. С мамой все не так страшно, она в Калифорнии, а папа-то здесь, в Нью-Йорке, и это кошмар. И потом еще эта прекрасная Бренда – его жена, то есть моя мачеха. Забавно, что сначала она мне даже понравилась: стала для меня чем-то вроде старшей сестры, мы некоторое время были очень близки, пока я не увидела, как хорошо она манипулирует людьми. Дай ей волю, она всю мою жизнь к рукам приберет.
Но все эти семейные обиды забывались в мгновение ока. Иногда Джейн звонила отцу прямо от Майкла и восторженно, с каким-то даже кокетством болтала с ним по часу, то и дело называла его «папочкой», до упаду хохотала над его шутками, потом просила позвать Бренду, после чего следовало еще полчаса приглушенной таинственной болтовни, посредством которой девицы в большинстве своем общаются только со своими лучшими подругами.
И возможно, потому, что у Майкла была собственная дочь, гармония этих разговоров чаще всего доставляла ему удовольствие: он даже улыбался про себя, слушая, как на другом конце комнаты журчит без конца ее милая английская речь, и ему не раз приходило в голову, что он был бы не прочь как-нибудь познакомиться с ее отцом. («Я так рад… – наверняка сказал бы отец, – так рад, что Джейн вроде бы наконец определилась».)
Отец не всегда был управленцем, объяснила Джейн после одного из телефонных разговоров; его первой любовью была журналистика, и в войну он был одним из ведущих корреспондентов крупнейшей лондонской газеты. Раньше она, правда, говорила, что ее отец всю войну выполнял для британского правительства опаснейшие шпионские задания, однако он не стал обращать на это внимания, потому что, насколько ему было известно, журналист вполне мог быть по совместительству шпионом.
Однако в том, что она ему рассказывала, случались и другие несоответствия.
Невинности ее лишил «отвратительный» бывший муж, причем так неосторожно, что от одной мысли об этом она до сих пор вздрагивает; но как-то раз, вспоминая о чем-то более приятном, она рассказала, что, когда ей было шестнадцать лет, она отдала «все – да, все-все» мальчику, с которым познакомилась на приморском курорте в штате Мэн.
Позапрошлым летом в Нью-Джерси она перенесла ужасно болезненный аборт; ей пришлось самой искать врача и платить за операцию из собственной зарплаты, причем вследствие неумелой работы врача она несколько месяцев пролежала потом больная без всяких сил, но при этом тем же позапрошлым летом она объехала автостопом всю Западную Европу с молодым человеком по имени Питер, и все у них шло замечательно, пока отец Питера не настоял на том, чтобы тот уехал домой, а осенью вернулся на учебу в Принстон.
Майкл попытался прояснить пару неясностей в некоторых ее историях, но историй этих было так много, что чаще всего он просто умолкал в изумлении. А потом ему стало казаться, что она умышленно испытывает его доверие, как делают иногда трудные подростки.
На прелестном ее лице с одной стороны можно было разглядеть небольшой рубец – как будто от ожога или удаленной когда-то кисты, и Майкл сказал ей как-то вечером, в постели, что этот шрам ее только красит.
– А, шрам, – сказала она. – Ненавижу этот шрам и все, что с ним связано. – И потом, выдержав серьезную паузу, добавила: – Гестапо особой кротостью нравов не отличалось.
Майкл глубоко вдохнул:
– Детка, откуда взялось гестапо? Не рассказывай мне больше про гестапо, сладкая моя, потому что я неплохо представляю, сколько тебе было лет, когда война кончилась. Шесть. Так что давай поговорим лучше о чем-нибудь другом, ладно?
– Но это правда, – настаивала она. – Один из их приемов – пытать детей, чтобы родители заговорили. Когда это произошло, мне даже и шести еще не было; мне было пять. Мы с мамой жили в оккупированной Франции, потому что домой в Англию нам вернуться не удалось. Нелегко, наверное, было все время скрываться, но я зато до сих пор прекрасно помню нормандскую деревню и милое фермерское семейство, с которым мы познакомились. И вот однажды в дом вломились эти жуткие люди и стали выяснять, где отец. Мама на самом деле вела себя очень храбро: вообще ничего им не говорила, пока не увидела, как они тычут ножом мне в лицо, – это ее сломило, и она рассказала все, что им было нужно. Если бы она этого не сделала, меня могли бы убить или покалечить на всю жизнь.
– Да уж, – сказал Майкл, – жуткая история, согласен, но, что хуже всего, я в нее не верю. Слушай, радость моя. Ты же знаешь, что я от тебя без ума, знаешь, что ради тебя я на все готов, но этот бред собачий я слушать больше не намерен, учти. Господи, ты, вообще-то, правду от неправды отличаешь?
– Ну, я в принципе не знаю, как на это можно отвечать, – сказала она тихо.
Она вылезла из кровати и ушла вглубь комнаты, и Майкл подумал, судя по напряженному контуру ее спины, что ей стало стыдно, но тут она обернулась и смерила его спокойным оценивающим взглядом.
– Какой же ты жестокий! – сказала она. – Я сначала думала, что ты человек чуткий, а ты на самом деле злой и жестокий.
– Ну да, ну да, – проговорил он, попытавшись придать своему голосу усталое выражение.
Примерно так и прошла вся осень, но даже тогда он был уверен, что все наладится. Если дать ей некоторое время посердиться, а потом дождаться, пока она примет душ и переоденется, можно было не сомневаться, что она с легкостью придумает, как вернуться к прежним приятным отношениям, не потеряв при этом лица; а сам он к этому моменту был готов помириться с ней уже на любых условиях.
Он никогда не упускал случая похвастаться ею перед другими мужчинами – даже перед незнакомыми, даже в ресторанах, которые выбирала она и которые он на самом деле не мог себе позволить, – поэтому он с удовольствием взял ее с собой, когда Том Нельсон, приехавший в город на целый день, пригласил его посидеть в баре в северной части Манхэттена. Он знал, что, когда Том ее увидит, у него от зависти отвиснет челюсть, – и она отвисла. Правда, тот именно вечер едва не закончился катастрофой, когда Джейн, грациозно склонившись над столом, спросила Тома:
– Чем же вы занимаетесь?
– Я художник.
– Современный?
Том Нельсон посмотрел на нее сквозь очки и несколько раз моргнул, давая понять, что сто лет уже не слышал ни от кого таких вопросов. После чего сказал:
– Ну да, наверное. Конечно современный.
– Вот как! Что ж, вероятно, удовольствие можно получать от любой работы, если она тебе нравится, но я лично к современному искусству испытываю отвращение. Современное искусство совершенно меня не трогает.
Тогда Том начал старательно создавать вокруг основания своего стакана изваяние из мокрой салфетки, и Майклу пришлось заполнять тишину бессвязной и отрывочной болтовней обо всем, что приходило ему в голову.
В этом состояла еще одна проблема Джейн Прингл: на самом деле она ничего толком не знала. Мачеха основательно обучила ее искусству одеваться, а разговоров в офисе ей хватало на то, чтобы сформировать твердое представление об идущих на Бродвее спектаклях, – она всегда могла сказать, какие гениальные, а какие полная ерунда, но все прочие аспекты образования не особенно заботили ее с тех пор, как закончилась ее небрежная мечтательная юность, проведенная в пансионе. Она настолько ничего не знала, что Майкл не раз спрашивал себя, не для того ли она начала врать, чтобы попытаться это скрыть.
Она сказала, что Рождество ей придется провести с отцом и мачехой, потому что они уже давно этого ждут, а потом позвонила от них сказать, что на Новый год тоже решила остаться у них.
Когда она в конце концов вернулась на Лерой-стрит, вид у нее был несколько рассеянный. Даже когда они с Майклом сели, она продолжала рассматривать квартиру, как будто ей не верилось, что она здесь жила, и раз-другой она с той же неуверенностью посмотрела ему в лицо.
– Ну, время я провела гениально, – сказала она. – Мы сходили на тринадцать разных вечеринок.
– Да? Что ж, это немало.
У нее была новая стрижка – на его вкус, слишком короткая, – и в дополнение к этой стрижке она освоила какую-то новую манеру поведения – серьезную, деловую, решительную. Кто-то подарил ей янтарный мундштук, будто бы задерживающий токсичные смолы, и на протяжении всей зимы она честно им пользовалась, хотя из-за того, что ей постоянно приходилось кривиться, сжимая его в губах, вид у нее становился довольно глупый; к тому же это лет на десять ее старило.
В феврале она заявила, что ей имело бы смысл снять собственную квартиру, и он с ней согласился. Он с такой заботой помогал ей изучать раздел «Сдается» в «Таймс», что можно было подумать, что он отправляет в большой мир собственную дочь. Подходящая квартира нашлась в западной части двадцатых улиц, с видом на сады Генеральной теологической семинарии [60]60
Генеральная теологическая семинария в Нью-Йорке – старейшее образовательное учреждение Епископальной церкви США, основана по решению Генеральной конвенции Церкви в 1817 г. Ее главное здание располагается на Девятой авеню, между 20-й и 21-й улицами.
[Закрыть]; и хотя хозяин предлагал перекрасить ее перед тем, как Джейн въедет, она отказалась: ей хочется самой покрасить стены, сказала она, «чтобы было ощущение, что это моя собственная квартира».
И это означало, что Майкл должен был часами стоять с ней в хозяйственном магазине, пока она решала, какого оттенка белую краску ей взять, какие купить валики и какие кисти; это значило, что ему пришлось облачаться в забрызганные краской джинсы, лезть на стремянку, дышать всей этой вонью и работать до одурения, то и дело спрашивая себя, на кой черт ему все это надо.
Как-то, когда Джейн, в коротеньких шортах и почти ничего не закрывавшей блузке, забралась на другую стремянку, пытаясь дотянуться до карниза выходившего на фасад окна, из кустов с другой стороны улицы донесся свист, за которым последовал целый хор радостных приветствий. Она засмеялась и помахала рукой будущим священникам. Потом потопталась на стремянке и, приняв еще более вызывающую позу, отправила им воздушный поцелуй.
Позже она объявила Майклу, что хочет выкрасить спальню в черный цвет.
– Зачем?
– Ну просто так. Всегда хотела черную спальню. Как-то это мило и сексуально.
Когда с покраской было покончено – и с черной спальней, и со всем остальным, – он решил, что оставит ее на несколько дней одну, может, даже на целую неделю.
В следующий его приход она потащила его в постель с ничуть не меньшей страстью, чем прежде, но после этого завела разговор, который показался ему совершенно неуместным. Она объяснила – в словах, нахвататься которых она могла только в последнее время из какой-нибудь популярной психологической книги (может, «Как любить?» Дерека Фара?), – что их «отношения» стали бы более «основательными», если бы они начали «строить их на более реалистической основе».
– Ну да, да, давай, – сказал он. – Так и когда ты хочешь заняться этим в следующий раз? Вторник подойдет?
В другой раз она сообщила: «Ко мне сегодня заходили двое семинаристов; очень милые ребята, страшно стеснительные. Я угостила их чаем с ньютонами – не с этими дешевыми, конечно, а с хорошими, английскими, импортными [61]61
Ньютоны – мягкие квадратные печенья, начиненные инжиром, популярный в Америке десерт. Продаются в яркой желтой упаковке. Ирония здесь в том, что это чисто американский продукт, названный в честь городка Ньютон в штате Массачусетс, – он расположен рядом с Кембриджем, где в 1891 г. компания «Кеннеди бискит» начала массовое производство этих печений. Никаких «импортных английских» ньютонов просто не существует.
[Закрыть], – мы отлично пообщались. Потом одному из них надо было идти на лекцию или что-то в этом духе, а второй еще долго у меня сидел. Его зовут Тоби Уотсон, он мой ровесник. Когда он окончит семинарию, он собирается поездить по миру. Классно?»
– Нет.
– Он собирается в одиночку пройти по всей Амазонке, подняться вверх по Нилу и покорить одну из гималайских вершин. Говорит, что на это может уйти года два-три, но он сказал: «Думаю, после этого я стану лучше – и как человек, и как священник».
– Ну да, ну да.
Конец пришел внезапно, в телефонном разговоре, когда он позвонил, чтобы спросить, можно ли прийти к ней на ночь.
– Нет, – сказала она испуганно, как будто этого «нет» было недостаточно, чтобы предотвратить его визит. – Нет, сегодня нельзя, и завтра тоже нельзя; на этой неделе вообще нельзя.
– Как так?
– Что «как так»? Что ты имеешь в виду?
– Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Почему нельзя?
– Потому что у меня гости.
– Гости, – повторил он в надежде, что она поймет, насколько фальшивым показалось ему это объяснение.
– Ну да, гости. В нормальной, активной светской жизни периодически иметь гостей в доме – это совершенно нормально.
– То есть ты хочешь, чтобы я и звонить тебе тоже перестал?
– Если тебе так нравится. Решай сам.
Он повесил трубку, зная, что девушки у него больше нет, чувствуя, что именно эта девушка никогда ему толком и не принадлежала, и недоумевая, нужна ли она была ему вообще на самом-то деле. И, повесив трубку, Майкл еще долго ходил по комнате и шепотом твердил: «Пошло бы оно все на хрен; пошло бы оно все на хрен».
– Да, блин, это, конечно, херово, – утешал его Билл Брок, – девка была симпатичная. Я тебя в тот вечер чуть не убил, когда увидел, как вы с ней уходите с вечеринки. Но в любом случае, Майк, главное – не дать себе погрязнуть в одиночестве; это хуже всего. Нормальную девушку всегда найти можно, если как следует этим заняться.
И некоторое время ничем другим он, похоже, и не занимался. Секс как таковой или, скорее, непреклонное к нему стремление едва не стало единственным в его жизни делом.
Сначала две девушки подряд осторожно изложили ему причины (каждая свои), по которым им не хотелось больше видеть его после единственной проведенной с ним ночи. Потом месяца полтора он провел с мускулистой женщиной, жившей на пособие по безработице, но имевшей достаточное количество пожелтевших газетных вырезок, подтверждавших, что она профессионально танцует; она часто плакала и жаловалась, что его чувство к ней «любовью назвать нельзя, потому что любовь – это нечто большее»; в конце концов она призналась, что несколько приуменьшила свой возраст: на самом деле ей было не тридцать один, на самом деле ей было сорок.








