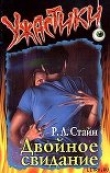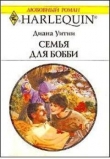Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
– Сэм, старик, – откликнулся Квинт, – не хочется этого говорить, но у меня такое чувство, что ты прав.
И он не ошибся. Когда они с полной выкладкой шагали по улицам Саутгемптона, еще можно было верить слухам – ведь лагерь, говорили же, находится рядом с Саутгемптоном, – но никаких армейских грузовиков не было, как не было и никакого джипа с приказом поворачивать в сторону берега. Они продолжали маршировать дальше, мимо множества англичан-штатских, в чьих глазах читалось, что им до полусмерти надоело видеть американцев, и это продолжалось до тех пор, пока они не погрузились на борт английского транспорта, провонявшего рыбой и блевотиной. Той же ночью корабль с погашенными огнями, соблюдая радиомолчание, крадучись вышел в Ла-Манш.
Они высадились в Нормандии и покатили на восток во французских товарных вагонах, полы в которых были густо устланы соломой, и народ чихал и ругался, пока не понял, какое благо эта солома. Прентис проснулся с рассветом от кашля и лихорадочного жара, подполз поближе к полуоткрытой двери, хотя понимал, что не следует этого делать при его простуде. Ему хотелось увидеть заснеженные поля и лесопосадки, где минувшим летом проходили сражения. Снова показалось, что мать едет с ним («Посмотри, какие краски, дорогой, правда красиво?»), но он опять заснул и проспал долго, пока не проснулся от звуков, которые наверняка разочаровали и расстроили бы ее: гвалта импровизированного рынка. Они стояли в каком-то городке, и на насыпи у вагона собралась толпа оборванных мужчин и мальчишек, предлагавших деньги и вино в обмен на сигареты:
– …Сколько-сколько?
– Он говорит, двадцать штук. То есть, выходит, двадцать пять франков за пачку. Торгуйся, какого хрена!
– Черт, нет, не будь идиотом… это ж только полбакса. Пусть платит доллар за пачку.
– Эй, малыш, comby-ann[14]14
Искаж. combien – сколько? (фр.)
[Закрыть] за вино? Эй! Малый! Ты, с соплями под носом… да, ты. Comby-ann за винцо?
– Pardon, M’sieur? Comment?[15]15
Простите, мсье? Что? (фр.)
[Закрыть]
– Я сказал, comby-ann хочешь сигаретти за винцо? Нет, черт, за винцо!
Потом поезд снова тронулся. Прентис с радостью провел бы остаток дня, болтая с Квинтом, – они могли бы обсуждать места, по которым проезжают, и попробовать догадаться, в какой части Франции находятся, – но Квинт сказал, что паршиво себя чувствует, зарылся в солому и то ли спал, то ли пытался заснуть. Сэм Рэнд был готов поговорить, но проплывающий мимо пейзаж его не интересовал. «Я хочу лишь скорей доехать туда, куда мы едем, – ответил он, – все равно куда».
Название «Пункт приема пополнений» звучало солидно, что утешало, обещая по крайней мере какое-то подобие гарнизонной жизни с приличными казармами, приличной кормежкой и медпунктом, – но подобный пункт в Первой армии оказался кучей палаток, наскоро поставленных вокруг бельгийской деревни, разбитой артиллерией. Группу, в которой находился Прентис, разместили на ночь не в палатке, а в амбаре, но его продувал ветер со снегом; единственным способом сделать ночлег сносным было прошагать полмили до места, где крестьянин-бельгиец продавал солому: охапку за пачку сигарет, так что скоро солома стала предметом ожесточенных споров:
– Эй, ты забираешь всю мою солому!
– Пошел ты, приятель, это моя солома.
Утром их повели на временное стрельбище пристреливать винтовки, а днем выдали галоши – обыкновенные черные галоши, как на гражданке, и Прентис малость расстроился: больно уж вид в них был не воинственный. Потом их погрузили в открытые грузовики и повезли в неизвестное место, откуда, как объяснили, их в течение двадцати четырех часов отправят в боевые подразделения.
– Какого черта грузовики не крытые? – возмутился Прентис, дрожа на ветру, и Квинт, который, казалось, много чего знал о Первой армии из журнала «Тайм», объяснил, что открытые грузовики используются в ней с начала боев в Арденнах: чтобы солдаты могли быстрей выскочить из них в случае нападения врага.
Они доехали до лагеря, состоявшего из промороженных палаток, в которых провели бессонную, в непрестанном кашле ночь, а с утра начали прибывать конвои таких же открытых грузовиков из разных подразделений Первой армии за своим пополнением. Прентис, Квинт, Рэнд и еще несколько сотен других попали на грузовики, у водителей которых на плече была круглая нашивка с цифрами «57» посредине.
– Как думаешь, пятьдесят седьмая – хорошая часть? – спросил Прентис.
– Откуда мне знать? – огрызнулся Квинт. – Что, мне обо всем докладывают?
– Господи, да не злись ты. Я просто подумал, что ты чего-нибудь слышал, только и всего.
– Ладно, ничего я не слышал.
После этого в кузове долго не было разговоров: все кутались в запорошенные снегом шинели, стараясь защититься от пронизывающего ветра.
– Интересно, они отвезут нас прямо на передовую, – прервал молчание Прентис, – или сперва в штаб дивизии?
Квинт медленно повернул к нему свое круглое, щетинистое, обветренное лицо и посмотрел как на надоедливого ребенка.
– Проклятие, Прентис, – процедил он сквозь зубы, – прекратишь ты задавать вопросы?
– Я не задавая вопрос. Просто сказал, что мне интересно.
– Ну, значит, прекрати интересоваться. Попробуй немного помолчать. Может, чего узнаешь.
Они узнали о дивизии все, что нужно, тем же вечером под отдаленный гул и грохот артиллерийской канонады, когда их собрали в амбаре, чтобы выслушать приветственное обращение капеллана, вдохновенное, словно с проповеднической кафедры.
– Теперь вы солдаты пятьдесят седьмой дивизии, – начал он, заложив большие пальцы за ремень с пистолетом в кобуре и подобрав брюшко, – и, уверен, скоро вам представится предостаточно случаев гордиться этим.
Он продолжал, говоря, что пятьдесят седьмая – это новая дивизия даже по меркам, по которым дивизия считалась старой, если воевала в Нормандии только прошлым летом. Прошлым летом пятьдесят седьмая дивизия еще находилась в Штатах. Ее перебросили за океан в октябре, она прошла усиленную подготовку в Уэльсе и получила боевое крещение здесь, в Бельгии, меньше месяца назад. Но, отметил капеллан, назидательно тряся щеками, за этот месяц парни пятьдесят седьмой стали настоящими мужчинами. Они «приняли участие в самом жесточайшем сражении Второй мировой войны, и в некоторых ротах потери составили до шестидесяти процентов состава». Он говорил еще много вещей, причем в выражениях, похоже заимствованных из журналов «Янки» и «Ридерс дайджест», и Прентис больше прислушивался к артиллерийской канонаде, чем к его словам.
Для ночлега им отвели второй этаж заброшенной мельницы – промерзшее помещение, в котором гудел ветер, врываясь в разбитые окна. Прентиса и Квинта вызвали в санчасть и дали аспирин и еще какие-то темные и вонючие круглые пилюли, размером и видом похожие на кроличьи катышки.
– И в самом деле отличное лекарство, если не стошнит, – сказал Квинт. – Держи во рту, пока не растворится, и закутай горло.
Но Прентис не выдержал. Минуту подержал таблетки во рту и поспешил проглотить, но кашель не унимался, а во рту и в носу остался мерзкий привкус.
На вторую ночь Сэм Рэнд договорился с крестьянином из дома дальше по дороге, что тот за три пачки сигарет пустит их троих ночевать на кухне, где было так тепло, что даже не верилось. Они сидели, задрай ноги в носках на решетку огромной железной плиты, попивая кофе из НЗ и слушая гул орудий. Но Квинт сказал, что лучше будет, если они переночуют здесь только сегодня: был риск, что они пропустят команду выдвинуться на передовую. В тот день они узнали, в какую роту зачислены, и Прентис обрадовался, что все трое попали в роту «А» сто восемьдесят девятого полка.
– Так, а какие номера у других полков? – сказал он.
– Сто девяностый и сто девяносто первый.
– Точно. И их только три, правильно?
– Ох, Прентис, ради бога! Да, в дивизии три полка. – И Квинт продолжал монотонно, нараспев и прикрыв глаза, как учитель классической школы: – В каждом полку по три батальона, в каждом батальоне по три роты плюс рота тяжелого вооружения, и в каждой роте по три взвода плюс взвод оружия…
– Я знаю, – сказал Прентис.
– …в каждом взводе по три отделения, и в каждом отделении по двенадцать человек.
– Все это я знаю.
– Ну, если знаешь, что тогда постоянно задаешь идиотские вопросы?
– Я не задаю постоянно вопросы! Я вообще не спрашивал!
– И ради бога, не вздумай забыть, где ты служишь. В роте «А», первый батальон сто восемьдесят девятого полка. Лучше запиши.
– Пошел к черту, Квинт, и не разговаривай со мной в таком тоне. Я же не совсем идиот, ты это знаешь.
– Да знаю… – Квинт поборол приступ жестокого кашля и договорил: – Знаю, что ты не идиот. Поэтому так и возмущаюсь, что все время ведешь себя по-идиотски.
– А знаешь, что еще возмутительней? Что ты – настоящий зануда.
– Ну-ну, ребята, – вмешался Сэм Рэнд, – кончайте ссориться.
Они замолчали, медленно остывая, пока Рэнд не спросил:
– Сколько тебе, Прентис? Восемнадцать?
– Да.
– Мой старший сынишка только вдвое моложе. Разве не забавно?
Прентис кивнул: мол, забавно.
– Сколько у тебя детей, Сэм? Трое, наверно?
– Да, трое. Еще девочка семи лет, а потом другой мальчишка – четыре года. – Он приподнялся и нерешительно полез за бумажником. – Видели их фотографии?
На свет появился моментальный снимок, на котором была вся троица: светловолосые и серьезные, стоят рядком у стены обшитого вагонкой дома и щурятся от солнца.
– А это моя жена, – сказал Сэм и, отвернув пластиковый клапан, показал худенькую миловидную девушку в цветастом платье и со свежим перманентом на голове.
Прентис долго разглядывал фотографии, прежде чем высказать одобрение, потом передал бумажник Квинту, который хмуро взглянул, благосклонно пробормотал что-то и вернул бумажник.
– А вот посмотрите на это. – Сэм осторожно сунул пальцы в другое отделение бумажника, достал линованную страничку, вырванную из школьной тетради, сложенную в несколько раз и в коричневых пятнах от пропотевшей кожи бумажника. – Это мой старший писал в школе.
Это было сочинение, написанное карандашом, со следами ластика и большими промежутками между буквами:
МОЙ ПАПА
Я люблю моего папу, потому что он такой добрый. Он катает нас на культаваторе, а еще берет с собой на ярмарку и почти никогда не злится. Сейчас он в армии, и я молюсь, чтобы он поскорей вернулся домой. Он очень хороший. Очень справедливый. Очень умный. Вот поэтому я люблю моего отца. Вернон Рид. 3-й класс.
Красный карандаш учителя исправил ошибку в слове «культиватор» и проставил наверху отметку «отлично».
– Ну, Сэм, нет слов, – сказал Прентис. – Потрясающе. Правда, потрясающе.
Застывший от смущения Рэнд уставился на печь, вертя в пальцах сигарету и средним пальцем смахивая с губ табачные крошки.
– Да, – проговорил он, – совсем неплохо написано для девятилетнего. Или даже восьмилетнего. Ему всего восемь было, когда это писал, восемь.
– Просто замечательно, – сказал Квинт, возвращая листок. – По-настоящему замечательно.
Напряжение спало; они приготовились спать, и Прентис, расстилая скатку на полу, принялся в уме составлять письмо, которое, когда выдастся момент, пожалуй, напишет: «Дорогой Вернон, хочу, чтобы ты знал, что твой отец – один из самых прекрасных людей, которых я когда-либо…»
На следующую ночь Квинт и Рэнд были назначены в караул охранять штаб дивизии, и Прентис, не зная, чем заняться, сидел, замерзший и одинокий, на мельнице, пока рядом с ним не примостился Рейнольдс и доверительно, полушепотом сообщил, что знает отличный теплый крестьянский дом, который «больше, чем Даллас». Это была излюбленная присказка Рейнольдса, она не раз вызывала смех в Форт-Миде и Кэмп-Шенксе среди тех, кто не знал его, да и после спасала в неприятных ситуациях, так что он привык повторять ее когда нужно и не нужно: пронзительно выкрикнул, что «Куин Элизабет» больше, чем Даллас, когда они проплывали мимо нее, что сливные бачки в гальюне на судне больше, чем Даллас, что если в вагоне уберут у него из-под ног чей-то вещмешок, то освободится место больше, чем Даллас; он никак не мог избавиться от своей привычки даже сейчас, после того, как многие советовали ему засунуть Даллас себе в задницу.
– Только никому об этом ни слова, – предупредил он, – потому как мы не хотим сорвать это дело. Там живет очень приятная женщина, муж у нее в плену в Германии. У нее двое маленьких ребятишек, а еще с ними бабушка – тоже очень милая старушка. Прошлой ночью они пустили нас переночевать, меня и пару ребят, и мы нацелились сегодня снова пойти к ним. Хватит места и для еще одного.
– Ну спасибо, – ответил Прентис, – но даже не знаю. Не думаешь, что стоит остаться здесь на случай, если будет приказ выступать?
– К черту, меня это не волнует. Говорят, сто девяностый никуда не двинется до завтрашнего вечера. Ты же в сто девяностом?
– Нет. В сто восемьдесят девятом.
– Ну, как знаешь. А там отлично. И вином угощают, и все такое.
И Прентис решил, что пойдет, хотя скатку с собой не возьмет. Выпьет вина и согреется, а потом вернется спать сюда. Дом был дальше, чем тот, в котором они провели прошлую ночь, и он постарался запомнить дорогу, чтобы найти путь обратно.
Женщины были, как и говорил Рейнольдс, действительно приятные: старушка, крошечная и беззубая, напялившая на себя несколько свитеров, все повторяла, какой он un grand soldat, возводя глаза в изумлении от его роста, а молодая женщина бросилась угощать вином, еще не успел он снять шинель. Она была полненькая, проворная, явно спорая на любую работу и привыкшая содержать дом в чистоте. На стене висела отретушированная фотография мужа в военной форме, рядом другие семейные фотографии, на одной из них священник. Дети, две девочки пяти или шести лет, похоже близняшки, устроились на коленях у друзей Рейнольдса, которых Прентис знал только в лицо. Скоро они все сидели одной спокойной радостной компанией за большим столом и, хотя и говорили на разных языках, находили понимание в самом важном: что прекрасно сидеть холодной ночью в теплом доме, что вино – это хорошо, что Рузвельт, Черчилль и Сталин – хорошо, а Гитлер – настолько плохо, что говорить о нем нельзя иначе, как только морщась от отвращения, и что дома в Нью-Йорке невероятно высокие. Женщины все время смеялись, кивали и подливали вино, а каждый из мужчин старался показать, что лучше знает, как вести себя в приличном доме: напоминал другому, что нужно пользоваться пепельницей, не позволять себе выражаться, не важно, понимают их или нет, и сидеть на стульях прямо. Когда пришло время детям ложиться спать, мать велела им спеть солдатам американскую песенку, и те, хоть и смущались, с охотой повиновались. Держась за руки и стоя очень прямо посреди комнаты, они пели:
Все громко захлопали, и ни у кого не хватило духу сказать, что песенка, вообще-то, не американская. Появилась еще бутылка вина, потом другая. Приходили друзья друзей Рейнольдса пропустить стаканчик и переночевать, пока народу в нижнем этаже не набилось столько, что Прентису негде было улечься, даже если бы и захотел. Когда он встал, благодаря хозяев и прощаясь, было уже сильно за полночь.
Он вышел, откинув полог затемнения, и, как только оказался в холодной прихожей, закашлялся так, что не мог двинуться с места. Кашель бил не переставая; он согнулся в три погибели и привалился к стене. Во тьме перед глазами плясали крохотные бесцветные искры, и в какой-то момент сердце пронзила боль, как острый нож, – такая же, какую он почувствовал на биваке в Виргинии месяц назад и какую Квинт, по его признанию, испытывал тоже. Наконец приступ кончился, но только после того, как на звук кашля вышла молодая женщина и обняла его. Она что-то говорила по-французски, слишком быстро, но ему и не требовалось перевода, чтобы понять смысл ее слов: она никого не отпустит в такую ночь да с таким кашлем.
Она провела его через кухню, где остальные солдаты разворачивали свои скатки, готовясь ко сну, и по-матерински настойчиво заставила подняться наверх. Протестовать было бесполезно, даже если бы он знал язык. Не успел он хорошенько понять, что она делает, как она постелила ему на полу у стены в детской комнате напротив их кроваток, сверху бросила одеяло. Затем жестами показала, чтобы он оставил винтовку в коридоре и лег лицом к стене, чтобы не заразить малышек. «Voilà, — сказала она. – Bon nuit!»[17]17
Ну вот. Спокойной ночи (фр.).
[Закрыть]
– Modam, – проговорил он, довольный собой, что кое-как вспомнил нужные слова, – vouse et tray, tray jonteel. Maircee bo-coo.[18]18
Искаж: Мадам, вы очень, очень любезны. Большое спасибо (фр.).
[Закрыть]
Когда она ушла, он набросил шинель поверх простыней, снял галоши, разулся и заполз под одеяло, не устояв перед ни с чем не сравнимым блаженством.
Он проснулся от запаха мочи – одна из девочек или обе пользовались ночным горшком, стоявшим у его головы, – и от шума: криков и тяжелой поступи на дороге перед домом. Он выбрался из постели, вскочил на ноги, отдернул занавеску и выглянул в окно. Его ослепил яркий свет позднего утра, по дороге колонной по двое двигались войска в полном снаряжении. Он обулся, влез в галоши, подхватил каску и шинель и бросился вниз, на середине лестницы вспомнил о винтовке. Вернулся за ней и выскочил на улицу.
– Эй! – хрипло крикнул он. – Какой это полк?
– Сто восемьдесят девятый!
– А батальон?
– Второй.
– А где первый?
– Далеко впереди.
Не было смысла будить спавших внизу: они все были из сто девяностого полка. Он побежал – шинель распахнута, полы хлопают, – не останавливаясь, обратно на мельницу. Там бросился на второй этаж, где было пусто и стояла мертвая тишина, а у стены одиноко валялось его походное снаряжение и вещмешок. Он опустился на колени, со всхлипом хватая воздух, с трудом влез в лямки и взвалил все на спину, мешок повесил на плечо, пошатываясь поднялся и, спотыкаясь, спустился вниз, снова на дорогу, как раз в тот момент, когда хвост колонны исчезал за поворотом. Он догнал их, скользя на утоптанном снегу, и, когда поравнялся с последними, уже едва мог говорить.
– Какой батальон?
– Третий.
И он на подгибающихся, словно резиновых, ногах побежал дальше. Сначала, как в кошмаре, казалось, он не в состоянии бежать быстрее, чем они шагают; потом он постепенно начал перегонять их, одну пару за другой. В какой-то момент его скрутил кашель, пришлось сбросить мешок и остановиться, присесть на корточки, сплевывая мокроту в снег, и, когда приступ кончился, добрая часть третьего батальона снова прошла мимо него. Он обливался по́том.
Наконец, когда он спросил, какой это батальон, ему ответили:
– Второй.
– Не можешь… не можешь сказать, первый далеко?
– Далеко, еще бежать и бежать, приятель. Давай поднажми.
И только он поднажал, как поскользнулся и головой вперед упал в снег под веселые насмешки проходящей колонны. Он поднялся и снова побежал мимо медленно движущейся сбоку, размытой коричневой полосы колонны. Он бессознательно держался тяжелого, равномерного ритма и чувствовал, что того гляди потеряет сознание и что, если такое произойдет, ноги сами будут продолжать бежать.
– Какой… какой батальон?
– Первый.
– Где… где рота «А»?
– Впереди.
Он уже почти добежал, но людская колонна казалась бесконечной. Он позволил себе перейти на шаг, пока белый пейзаж не перестал кружиться и плыть у него перед глазами; потом снова побежал и, наконец, за шесть… четыре… три человека впереди увидел коренастые фигуры Квинта и Сэма Рэнда.
– Господи, надо же, только посмотри, кто здесь! – сказал Квинт. – Где, черт, тебя носило?
– Я… я…
– Прежде всего лучше доложись сержанту впереди. Он считает, что ты в самоволке.
Сержант, атлетического сложения, подтянутый служака из штаба полка, бодро шагал вперед, не обремененный выкладкой, и задавал темп всей колонне.
– Сержант, я… я здесь.
– Имя, черт тебя возьми?
– Прентис.
– Где пропадал, а?
– Я… я проспал.
– Ну, молодец, что догнал. Хорошенькое начало, а? Ты хоть понимаешь, что легко мог угодить под трибунал? Ладно, займи место в строю.
Прентис стоял, обессиленный и задыхающийся, пока Квинт и Рэнд не поравнялись с ним.
– Ну ты, Прентис, даешь! – сказал Квинт и следующие полчаса, до конца марша, не проронил ни слова.
Они были на широком, плоском поле близ железной дороги; вдалеке темнел лес. Пополнение роты «А» поставили рядом с путями и приказали ждать. Дальше вдоль полотна стояли на снегу роты «В» и «С».
Прентис сел на вещмешок, снял каску и стиснул пульсирующие виски. Он чувствовал себя почти хорошо, по крайней мере был горд, что догнал своих. Посидев немного, закурил сигарету, но закашлялся и бросил ее. Робко встал и подошел к сидящим Квинту и Рэнду.
– Так что теперь? – спросил он. – Отправляемся на передовую?
Квинт посмотрел на него с раздражением, как на надоедливого чужака.
– Черт тебя дери, Прентис, будь ты утром на построении, то слышал бы объявление. А так мне, как всегда, приходится все разъяснять тебе. – Он вздохнул. – Нет, мы не отправляемся на передовую. Это они придут с передовой. Мы встретим их здесь, а потом все отправимся куда-то в другое место на передовой.
– А, понятно.
Объясняя, Квинт вскрыл консервную банку из боевого пайка; и теперь Прентис увидел, что Рэнд и все остальные едят, хрустя галетами и таская ложками из банок холодную тушенку с овощами. Глядя на них, он почувствовал зверский голод и тут же перехватил устремленный на него взгляд Квинта.
– И конечно, ты пропустил завтрак, – сказал Квинт. – И конечно, не получил паек и теперь остался без ланча. Знаешь, как это называется? – Он медленно встал с вещмешка, глаза его бешено моргали за стеклами очков. – Знаешь, как это называется, Прентис? Полный идиотизм, вот как. Если рассчитываешь, что Сэм и я поделимся с тобой пайком, то очень ошибаешься. И вот еще что я тебе скажу… – Его уже трясло от ярости. Люди вокруг смотрели на них, смущенно улыбаясь, а Сэм Рэнд уткнулся в свою банку и не поднимал глаз. – И вот еще что я тебе скажу. Ты так и будешь полным идиотом, пока не научишься сам заботиться о себе. Ясно? Я присматривал за тобой, убирал за тобой, утирал тебе сопли почти три чертовых месяца, и с меня хватит. Я тебе больше не нянька. Ты – самостоятельный человек. Ясно?
Жаркий комок подступил к горлу Прентиса, и он испугался, что заплачет, как ребенок, прямо здесь, на поле в Бельгии, перед всеми этими людьми. Все, что он мог, – это постараться сдержать слезы.
Квинт сел на вещмешок и свирепо ткнул ложкой в банку. По он еще не кончил говорить:
– Так что, если у тебя есть еще вопросы, пожалуйста, держи их при себе. Ты меня уже доконал. Обрыдло быть тебе за… – Он помолчал мгновение, сознательно подбирая самое оскорбительное слово: – За твоего хренова папашу.