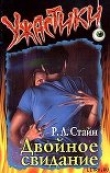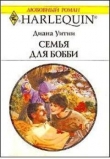Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– И тут подошел Уокер и начал драку. Это все.
Лумис опустил глаза. Положил огромные руки на стол ладонями вниз и внимательно смотрел на них, словно это были чаши весов правосудия.
– Ладно, – изрек он. – Скажи мне вот что, Прентис. Тебе не кажется, что, если человек просится на Дальний Восток, это касается только его?
И снова беда была в том, что Прентис не мог положиться на свой голос. Он сделал глубокий вдох и сказал:
– Да. Кажется. Но когда меня называют трусом, это касается меня.
Похоже, склонному к театральным эффектам Лумису ответ пришелся по душе.
– Я тебя понимаю, – кивнул он. – Я тебя понимаю. Хорошо. Предлагаю тебе то, что я предложил Уокеру, и он согласился. Если тоже согласишься, на том и порешим.
«На том и порешим» – это звучало обнадеживающе, обещало мирный исход. Наверно, имелось в виду, что он позовет обратно Уокера и предложит им пожать друг другу руку, честно и благородно; однако все оказалось не так.
Есть, объяснил Лумис, за амбаром на холме небольшой лужок, не видный из города ни американцам, ни немцам, ни русским. Завтра утром, до завтрака, они отправятся туда – только они двое – и «решат дело на кулаках». Ради этого их освободят от утреннего построения. Согласен Прентис с этим?
Лишь сказав «да», отвернувшись от довольного взгляда Лумиса и пройдя гостиную, Прентис почувствовал, как нутро его сжалось от страха. Судя по оценивающим, насмешливым взглядам, которые он ловил на себе до конца дня, весь взвод уже знал о предложении Лумиса. Но никто не заговаривал с ним на эту тему, пока поздно вечером он не пошел с Мюллером патрулировать квартал, где жили русские.
– Ты действительно собираешься утром на это дело? – спросил Мюллер.
– Да, пожалуй.
– И как настроение?
– Не знаю.
– А драться-то умеешь?
– Не очень.
И это была сущая правда. Кроме неуклюжих, со слезами, драк на детской площадке, он лишь трижды дрался серьезно, на кулаках: все три раза в первый год учебы в частной школе, и каждый раз бывал бит. Теперь, когда он оглядывался назад, его беспокоило, что никогда по-настоящему не старался избить противника: ни тогда, в школе, ни Уокера сегодня на улице, надеясь, что кто-то придет на выручку. Во все те драки он ввязывался с единственной целью – защититься, доказать, что способен принять вызов, не спасовать, не показать спину, пока не появится какой-нибудь самозваный судья и не остановит драку. А завтра утром судьи не будет.
– Да, – проговорил Мюллер, поправляя на плече ремень своего «брауна», – не хотел бы оказаться на твоем месте. Я только о том, что он тяжелее тебя, наверно, на добрых тридцать фунтов. Будь это я, а не ты, я бы в штаны наложил.
Скажи это кто другой, а не Мюллер, он бы внимания не обратил; но то был Мюллер, пухлый, кроткого вида мальчишка, который всех поразил тем, что изрешетил вооруженного немца и спас жизнь Финну с Сэмом Рэндом, и его слова приободрили Прентиса. Уныние как рукой сняло, и оставшееся до конца смены время он шагал уверенно и с достоинством. Теперь он решил, что будет не просто терпеть удары, но постарается во что бы то ни стало победить.
Наверно, очень важно было утром проснуться и быть готовым раньше Уокера, так что он встал и оделся, когда все еще спали. Он сидел один в общей комнате, пропахшей с вечера пивом и сигаретным дымом, и, чтобы убедиться, что руки у него не дрожат, пролистал несколько журналов, валявшихся на полу.
Сверху по одному начал спускаться народ, и он чувствовал себя как на сцене. И разглядывали ли его откровенно или исподтишка, он понимал: все ищут у него признаки страха, и гордился, что хранит непроницаемое выражение. Потом ему неожиданно потребовалось отлучиться в туалет – мочевой пузырь, казалось, того гляди лопнет, – а когда вернулся, увидел поджидавшего Уокера. Больше в комнате никого не было.
– Готов? – спросил Уокер.
– В любой момент, как скажешь.
Тропа, ведущая на скрытую лужайку, была крутой, и оба запыхались, не пройдя и полдороги. Прентис надеялся, что обойдется без разговоров: ему требовалась тишина, чтобы не растерять злость и решимость. Но…
– Вот что я предлагаю, Прентис, – проговорил Уокер. – Пока мы с тобой одни, хорошо бы договориться о парочке правил. Не против?
– Нет.
– Я имею в виду, пусть бой будет честным. Если кто собьет кого с ног, делаем паузу, даем подняться. И еще. Хочешь, чтобы победа определялась по определенному числу нокдаунов, или хочешь биться до конца, пока один из нас не попросит пощады?
– Биться до конца.
– Ладно.
Они прислонили винтовки к стене амбара, сняли подшлемники, ремни и полевые куртки. Встали друг против друга и по кивку Уокера двинулись по росистой траве на приблизительную середину лужайки, где снова повернулись лицом друг к другу.
– Ну хорошо, парень, – сказал Уокер. – Начали.
Нелепость этого «начали» – кроме как в кино, никто так не говорит, если он не лживый ублюдок вроде Лумиса, – впервые за это утро по-настоящему разъярила Прентиса. Он жаждал разнести башку любому дураку, способному сказать такое, уничтожить все фальшивое позерство в мире, и оно было перед ним, воплощенное в этом большом, тупом, прыгающем лице.
Он бил наотмашь и промахивался, снова бил и снова промахивался, а потом вдруг увидел над собой кружащееся небо и оказался лежащим на траве. Удар справа пришелся в челюсть, но, быстро поднявшись, он понял, что это был не нокдаун, просто он потерял равновесие, иначе сумел бы выдержать удар. Ненужное, неловкое, бездарное падение лишь еще больше разъярило его, и он, пригнувшись, опять бросился на Уокера, норовя изо всех сил ударить его в живот, отчего тот должен был бы согнуться пополам, а потом выпрямиться от последующего апперкота. Но от удара больше пострадал он сам, нежели Уокер, – ушиб руку, попав тому по ребрам вместо мягкого живота, – и апперкот не получился. Он попытался упруго отскочить назад, но башмаки невероятно потяжелели, намокнув в сырой траве. Он потерял быстроту, а хуже всего то, что стало трудно дышать. Как у профессиональных боксеров получается дышать, черт их возьми? Он уже с хрипом хватал воздух: рот открыт, на губах пузырится слюна. Он сделал шаг вперед – и получил удар по уху, тому же, которому досталось вчера, – а потом, не понимая, как у него получилось, почувствовал, что костяшки правого кулака резко, плотно встретились с зубами Уокера. Он увидел, как глаза Уокера побелели от боли и удивления, но в тот момент, когда должен был ударить его снова, Уокер отступил назад и сказал: «Хороший удар, парень». Он, по крайней мере, был потрясен настолько, что вынужден был, морщась и моргая, повторить: «Очень хороший!» – но пришел в себя так быстро, что Прентис не успел возликовать. Уокер сделал шаг и сильно ударил его в нос, а потом, еще сильней, точно в ямочку на подбородке, и на сей раз сомнений не было – это нокдаун.
Он перевернулся, приподнялся на ладонях и коленях, глядя на капли крови, падающие из разбитого носа на траву. Когда он, пошатываясь, встал на ноги, Уокер спросил:
– Ну что, доволен?
– Черт, нет, сукин ты сын. Узнаешь, когда я буду доволен.
Он бросился вперед, бешено молотя кулаками, снова и снова пытаясь попасть Уокеру по зубам, но тот был теперь начеку, уворачивался и тяжело бил его по животу, голове, в область сердца.
Прентис потерял счет тому, сколько раз оказывался в нокдауне, когда опускаясь на одно колено, чтобы прийти в себя, когда беспомощно распластываясь на земле. Важно было вставать. Потом, встав в очередной раз, он уткнулся головой в землю, словно в стену, так что пришлось согнуться и посидеть, обхватив голову руками, пока окружающее не вернулось на прежнее место: трава опять была внизу, небо – наверху, амбар и деревья – по сторонам.
Он почувствовал, как Уокер схватил его за руку и со смешанным чувством возмущения и облегчения догадался, что это означает конец боя, но притворился, что не понимает.
– Соблюдай свои поганые правила, Уокер. Убери руки, пока я не встану.
– Нет, послушай. Я не хочу продолжать.
Уокер пытался помочь ему подняться, но он сбросил его руку и, шатаясь, поднялся сам.
– Если думаешь, что я сдаюсь, то ты чокнутый.
– Нет, ты не сдаешься, – сказал Уокер, потирая костяшки пальцев о ладонь другой руки. – Это я сдаюсь. Считаю, что мы закончили. Я удовлетворен.
– Надо же! Он удовлетворен! А вот я – нет. Защищайся!
И тут произошло самое ужасное. Широкое, без малейшего признака страха лицо Уокера расплылось в доброй улыбке.
– Да брось ты, Прентис, – сказал он. – Хватит.
Он повернулся и направился к амбару, где они оставили свои вещи.
– А ну иди сюда! – крикнул Прентис. – Ты назвал меня трусом, подонок!
Уокер оглянулся с вызывающим ярость дружеским выражением:
– Извини, коли так. Зря я это сказал, забудь. Черт, ты не трус. И ты это только что доказал, не думаешь?
Нет, он не думал, будто что-то доказал. И этот бой оборачивался тем же, чем все остальное, происшедшее после смерти Квинта, даже само окончание войны: никакие счеты не сведены, ничто не разрешилось, ничто не доказано.
«А чего ты, черт возьми, ожидал, Прентис? – сказал бы Квинт. – Ты думаешь, все кончится, как в кино? Когда ты только поумнеешь?»
Они спускались с холма, и Прентис не знал, что было унизительней: утирать кровь из разбитого носа или ощущать тяжелую руку Уокера на плечах. А хуже всего то, что, когда они завидели группку людей, стоящих у задней двери дома второго взвода, он понял, что невольно любуется картиной, которую представляют они с Уокером: победитель и побежденный, скромный герой и мужественный неудачник, двое отличных парней, которые пошли за амбар и выяснили отношения. Картина пришлась бы по сердцу Лумису, ублажила бы голливудскую его душу; а вот и он сам, сурово улыбающийся в окружении остальных.
– Вы, ребята, может, еще успеете позавтракать, – сказал он, – если поторопитесь.
Умываясь, он рассматривал в зеркале свое лицо и радовался его виду: распухший нос, разбитые губы и признак того, что обещало разрастись в знатный синяк под глазом. Еще были две открытые ссадины на костяшках правой руки, и он крепко тер их, чтобы они еще больше распухли и кровоточили, надеясь, что кто-то обратит внимание и на его кулаки.
На кровати лежало новое письмо от матери:
Бобби, дорогой мой, это был счастливейший день в моей жизни!!! В прошлую пятницу пришло письмо от тебя с тем, что ты в безопасности, но, конечно, я все равно тревожилась, а сегодня – День Победы в Европе!!! По радио звучит «Звездное знамя»,[45]45
«Звездное знамя» – с 1931 г. национальный гимн США.
[Закрыть] и я просто упала на колени, и плакала, плакала, и возносила хвалу Господу…
Они с Уокером отправились завтракать, и в ушах у него звучал ее голос – теплый, мягкий, успокаивающий голос, который он слышал всю свою жизнь и, видно, никогда не забудет. Он был странно похож на голос Уокера, говорившего, когда они сидели в пустой столовой и уплетали холодные оладьи с желе:
– Не могу не признать, Прентис, что один раз ты мне крепко врезал.
И потом:
– Слушай. Если на следующей неделе дадут увольнительную в Брюссель, хочешь, отправимся туда вместе? Ты и я, вдвоем?
Больше не нужно было сводить никакие счеты, не нужно было ничего доказывать. Все всегда будет кончаться хорошо, пока пара отличных парней уходят за амбар, чтобы выяснить отношения, пока мать падает на колени и возносит хвалу Господу и по радио звучит «Звездное знамя». Вот о чем говорили эти голоса; это было их лживое, сентиментальное послание, и оно проскальзывало легко, как оладьи с желе.
Но все вновь поднялось в ту минуту, когда они вышли из столовой, поднялось приступом рвоты у фабричной стены, и Прентис складывался пополам, содрогался и тужился, цепляясь за стену, а Уокер нервно топтался сзади, спрашивая: «Как ты? Как ты, парень?.. Подожди, сейчас принесу попить… Ополоснешь рот…» Все это поднялось и в окончательном, мучительном спазме вышло остатками едкой желчи ненависти к себе.
Последние метры до дома, в котором размещался взвод, они прошли молча, и Прентис самостоятельно, как мог, забрался в кузов грузовика, который довез их до квартала русских.
До конца этого ясного, счастливого дня, пока он раз за разом обходил залитый солнцем квартал, его не оставляло странное чувство легкости и чистоты. Все встречные, будь то русские или солдаты роты «А», смотрели на него с нескрываемой симпатией, и он отвечал им тем же.
Он ничего не доказал, не совершил ничего реального во искупление вины и знал, что, скорее всего, никогда не совершит. Будь у него возможность поговорить с призраком Квинта, он только и мог бы сказать: «Прости, я бессилен сделать что-то еще».
И он знал, что Квинт сказал бы в ответ: «Верно, абсолютно верно относительно сделать. Понимаешь, Прентис, тут ничего не поделаешь, ничего. Такова жизнь».
Почему же тогда ему так хорошо? Какое он имеет право быть в согласии с собой?
Неясно. Единственное, что ему было ясно в тот день и позже, вечером, когда они: Уокер, Мюллер и он – сидели, полухмельные, в мягких креслах какой-то немецкой гостиной, у каждого на колене смущенно ерзающая русская девчонка, и позже, когда он взял свою девчонку за руку и повел в уединение темного, благоухающего луга, – единственное, что ему было совершенно ясно, – это что ему девятнадцать лет, что война закончилась и что он остался жив.
Эпилог: 1946
Алисе снился Риверсайд. В ленивой дремоте ей виделось, как она идет с Бобби по длинной сияющей аллее осенних деревьев – дубов, величественных тополей, монументальных буков, – и Бобби тонким голосом, какой у него был в одиннадцать-двенадцать лет, увлеченно рассказывает:
– И знаешь, что она еще сказала? Миссис Осборн? Она сказала, что мои рисунки лучше всех в целом классе.
– Надо же! Прекрасно, дорогой.
Теперь они уже шли по огромной поляне возле Большого Дома, в отдалении виднелись река и Палисейдз, и полыхал закат.
– Ну, не то чтобы лучшие, – поправился Бобби. – Кажется, этого она не говорила. Она сказала, что они самые оригинальные. А еще что, вероятно, в них оттого так много воображения, что ты моя мать.
– Вот как! Очень мило.
– А знаешь, что еще?
Она посмотрела на его счастливое, серьезное лицо, и ей захотелось обнять его, прижать к груди. Но вместо этого спросила:
– Что, дорогой?
Но сон улетучился, и он не успел ответить.
Она проснулась сама – будильник не заводила, потому что было воскресенье, – и, открыв глаза, в которые било солнце, закрыла их снова и всеми силами попыталась вернуться в сон. На несколько секунд ей это почти удалось – она смогла припомнить видение и звук голоса Бобби, чуть ли не услышать, что он говорит, – но потом все пропало.
Ей часто снился Риверсайд, и она предполагала – пробуждаясь в неизбежной реальности уродливой спальни с окном, выходившим на кирпичную стену с пожарной лестницей, – предполагала, что это потому, что из всех мест, что она знала, Риверсайд был единственным, где она чувствовала себя по-настоящему дома.
Поскольку было воскресенье, можно было медленно ходить по квартирке в купальном халате, неторопливо ставить воду для кофе, долго готовиться к походу в церковь. И так до завтрашнего утра, когда придется собираться в бешеной спешке, мчаться сломя голову по лестнице, потом по улице, нырять в холодное, пахнущее железом метро, ехать в мрачном, как тюремный, вагоне, чтобы успеть в последний момент отметиться в проходной цеха полировки линз.
Это был день отдыха. Прихлебывая кофе, она слушала радио: голос объяснял, что такое атомная энергия. После окончания войны с Японией подобных программ было множество, и статей в журналах тоже. Она очень старалась понять, о чем в них толкуют, но только безнадежно запуталась, лишь одно она поняла: Соединенные Штаты теперь обладают взрывчатым веществом такой мощи, что достаточно одной бомбы, чтобы уничтожить город.
На полке в кухоньке рядом с бутылкой виски стояла почтовая открытка с видом Парижа – единственная весточка от Бобби, и то месячной давности. На него было непохоже не писать так долго.
А на столе, рядом с чашкой кофе, лежало неоконченное письмо, которое она писала вчера вечером.
Бобби, дорогой, знаю, когда ты не пишешь, это значит, ты просто занят, но все равно хочется, чтобы ты писал чаще. Я чувствую себя такой одинокой, когда письма приходят с большими перерывами.
Дорогой, я много думаю о нашем будущем, когда ты вернешься. Знаю, ты ненавидишь то ужасное место, где я сейчас работаю, и знаю, что ты хотел бы это как-то переменить. Догадываюсь, что ты собираешься сам устроиться на какую-нибудь работу, чтобы я могла бросить свою.
Но я очень хочу, чтобы вместо этого ты пошел учиться. Этот Закон о льготах демобилизованным – замечательная вещь: ты можешь пойти в любой университет и правительство все оплатит. Даже в Гарвардский или Йельский и получить прекрасное образование.
Но вот какая незадача. Я прочитала статью в «Нью-Йорк таймс мэгазин», где пишут, что в следующем году, осенью 1946-го, все колледжи будут завалены заявлениями о приеме, потому что так много ребят демобилизуется. В этой статье говорится, что только те ребята могут рассчитывать на прием, каких призывали из колледжей, – ужасно много мальчиков будут должны ждать до 1947 года, и, думаю, ты окажешься среди них. Это значит, что тебе придется потерпеть годик, и некоторым образом это даже выгодно нам. Если ты пойдешь работать на это время, у меня будет целый год свободы, а за такой огромный срок, уверена, я снова встану на ноги. Я смогу забрать свои скульптуры из хранения, создать много новых произведений и совсем скоро буду на коне, профессионально и материально. У меня уже есть достаточно хороших скульптур для персональной выставки, а за целый год свободы у меня их будет не на одну, а на две или три выставки. Невозможно сказать, как нам будет хорошо. Конечно, в каком-то смысле год будет трудный, но ведь мы с тобой справлялись с трудностями. Помнишь ту жуткую пыльную дорогу?
Во всяком случае, таков мой план. Надеюсь, ты одобришь его, и надеюсь…
На этом месте она остановилась вчера вечером и сейчас, как ни напрягала память, не могла вспомнить, почему не закончила письмо. Ведь только и оставалось, что дописать последнюю фразу: «и надеюсь, скоро ответишь на письмо». Она нашла ручку, дописала фразу и ниже: «Любящая тебя мама».
Она опустила письмо в ящик по дороге в церковь. Долгий, через весь город путь пешком до епископальной церкви Святого Фомы был одним из немногих удовольствий ее нудной недели – оставив позади убожество Вест-Сайда, она шагала на восток к шикарной Пятой авеню, – и особенно радостно было идти в это дивное майское утро. Флаги, вспархивающие голуби, готическая красота самого собора Святого Фомы, величественная музыка его колоколов – все говорило о возрождения мира и надежды каждое воскресенье. И даже не важно, что ее черное вискозное платье кое-где в пятнах и далеко не ново, зато на голове у нее красовалась шляпка от Кляйна, изящная, дорогая на вид, с перьями, купленная по дешевке на прошлой неделе в фирменном магазине, и оттого ей казалось, что она выглядит как женщина состоятельная, важная. Ей нравилось смешиваться с толпой других верующих на ступеньках храма: все они явно жили поблизости, в респектабельном Верхнем Вест-Сайде.
Было Причастное воскресенье. Она, как всегда, выбрала скамью в сумрачных задних рядах и, склонив голову, погрузилась в молитвенное состояние под торжественное звучание первых аккордов органа, сливающихся со звоном колоколов. Она не то чтобы молилась – в душе за обращением «Боже!» не возникало слов или фраз, – но гнала прочь все, кроме смиренных, благоговейных мыслей: чтобы быть чистой помыслами перед Божьей милостью и Божьим благословением. Затем, вдохнув сумеречный, сухой, святой запах храма, выдохнула единственную глубокую и жаркую просьбу, облеченную в слова: «Боже, пусть он скорей вернется домой!»
Она подняла голову, когда орган загремел вступительную часть прохождения: хотелось увидеть все. Первым, ведя за собой поющий хор, шел крестоносец, мальчуган чуть постарше, чем был Бобби в Риверсайде, который высоко держал крест. За девочками и женщинами, от чьих сопрано и альтов у нее мурашки побежали по коже, шли мужчины. И самый заметный из них, обративший на себя ее внимание, был солист тенор. Очень высокий и тонкий, чем-то похожий на Бобби, и его сильный и чистый голос выделялся среди других голосов. Это всегда напоминало ей давние времена и голос Джорджа Прентиса:
Священник, седой и низенький, далеко не такой вдохновляющий, в сравнении с риверсайдским отцом Хаммондом, казалось, был стеснен во времени, поскольку провел первую часть службы как-то торопливо, что вызвало у нее раздражение; хотелось, чтобы он степенно читал каждую молитву и каждый псалом и провел общее причастие так, чтобы обряд продолжался как можно дольше.
Но скоро уже зазвучал офферторий, и хор сопровождал длительное, восхитительное соло юного тенора. Казалось, ее собственное вибрирующее горло вторит его голосу: она закрыла глаза и как бы слилась с ним. Она унеслась в прошлое, когда впервые открыла, что Джордж Прентис, обходительный и весьма положительный человек, которого она едва знала, обладает исключительно красивым и сильным голосом. Всякий раз, когда подворачивалось фортепьяно, он садился за него и завораживал ее, исполняя что-нибудь популярное, балладу «Дэнни-бой» или «La Donna è Mobile»;[47]47
«Сердце красавицы склонно к измене…» – знаменитая песенка Герцога из онеры Верди «Риголетто».
[Закрыть] но он лишь рассмеялся, когда она сказала, что ему нужно стать профессиональным певцом. «У меня всего-навсего приличный любительский голос, не больше». Когда они поженились, в доме, который они снимали в Нью-Рошелле, было фортепьяно, и он иногда, аккомпанируя себе, пел ей нежные любовные песенки. Голос сделал его популярным на вечеринках, на которых они бывали; но когда их брак покатился под откос, она ощутила, что его пение лишь усиливает ее горечь. Определенные песенки, а именно: «Линди Лу», «Благодаря тебе», «Луна встает над головой», – как бы выражали и ее несчастье; много лет она не могла слышать их без острого чувства обиды и застарелой злости, когда они звучали по радио.
Но сейчас, в храме, слушая этого тенора, она плакала, вспоминая события не столь далекие. Когда она в первый раз вернулась из Техаса, отрезвленная и готовая вести нищенское существование, и когда они с Бобби поселились в скромной квартирке-студии, которую ей повезло найти неподалеку от Вашингтон-сквер, она, к собственному удивлению, обнаружила, что они с Джорджем способны говорить по телефону спокойно, без скандала. И следующей весной, триумфальной весной, когда «Портрет сына художника» приняли на ежегодную выставку в музее Уитни и фотографию скульптуры поместили в разделе искусства «Нью-Йорк таймс», Джордж позвонил, просто чтобы поздравить ее:
– Я видел в «Нью-Йорк таймс» твой бюст Бобби. Должен сказать, что он действительно смотрится очень здорово.
– Что ж, спасибо.
– Нельзя ли получить копию этой фотографии? Хочу вставить в рамку.
– Ну конечно, я пошлю тебе. Рада, что она тебе понравилась.
После этого они единственный раз серьезно поспорили, когда она устроила Бобби в частную школу, но это удалось уладить более-менее мирно, и она согласилась переехать в квартирку поскромней.
Потом, спустя год или около того, он однажды позвонил из телефонной будки за углом:
– Я тут случайно оказался поблизости. Не возражаешь, если загляну на минутку?
– Да нет, совсем не возражаю. Заходи, пожалуйста.
Времени приводить в порядок студию не было; она едва успела умыться и причесать волосы. Когда она стояла перед зеркалом, в голову пришло, что он специально проделал дорогу в центр города, чтобы повидать ее: наверняка не дела, связанные с «Объединенными инструментами и литьем» привели его в Гринич-Виллидж.
Она удивилась, увидев, что он небольшого роста – почему-то он всегда представлялся ей выше, чем был на самом деле, – и выглядит таким постаревшим.
– Извини за кавардак, – сказала она. – Не ждала сегодня гостей.
– Ничего, нормально.
На нем, как всегда, был очень строгий деловой костюм и узконосые черные туфли. Он расхаживал среди покрытых тряпками скульптур и каменного крошева на полу, и было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке.
– Что же, похоже, ты много работаешь.
– Выпьешь что-нибудь?
Она провела его в альков, служивший ей гостиной.
– Тут у тебя очень мило, – сказал он, принимая виски с водой и озирая комнату.
– Извини за пыль. Когда имеешь дело с камнем, она проникает повсюду.
– Должно быть, это тяжело – долбить камень.
– Пожалуй, но мне нравится. Не желаешь взглянуть на кое-какие мои новые вещи?
Она водила его по студии, а он уважительно следовал за ней со стаканом в руке. Похоже, ему нравилось все.
– Работа с камнем коренным образом отличается от лепки, – объясняла она, а он понимающе кивал, глядя на полузаконченную фигуру. – Я считаю, что в камне суть скульптуры, так искусство ваяния выражается полней, в более чистом виде.
– Господи! – Он взвесил в руке одну из ее трехфунтовых киянок. – Ты этим пользуешься? Не слишком тяжело для тебя?
– Да нет, привыкла, видно. К тому же руки у меня стали очень сильные. И все же не думаю, что совсем брошу лепку. Есть вещи, которые требует воплощения в глине, как вот голова Бобби, которая тебе так понравилась.
– Она здесь? Можно посмотреть?
Она подвела его к подставке у стены и сняла ткань с головы.
– Да, – сказал он. – В самом деле замечательно. Выглядит даже лучше, чем на снимке.
Они выпили еще, прежде чем он робко спросил, нельзя ли пригласить ее куда-нибудь пообедать. Они шли по Виллиджу, и она представляла себе, что, наверное, думают встречные, глядя на них: спокойная, приятная немолодая пара вышла на вечернюю прогулку. А в том ресторане, оказалось, они уже были давным-давно, до женитьбы.
Говорил больше Джордж. «Объединенные инструменты и литье», после того как едва не потерпели крах в Великую депрессию, воспрянули в годы войны, и незаметно было, чтобы что-то препятствовало их дальнейшему росту. Правда, пока процветание компании не слишком сказалось на отделе, в котором работал Джордж – по крайней мере, на структуре оплаты, – но были все основания надеяться на улучшение в дальнейшем.
– Прежде всего, – сказал он, – думаю, мы можем больше не беспокоиться насчет обучения мальчика в колледже. На это средств у нас должно хватить.
– Замечательно.
Но ей не хотелось продолжать разговор о деньгах или его работе: она боялась, что эта тоскливая тема испортит ей настроение.
– Ты продолжаешь петь, Джордж?
– Господи упаси, нет, конечно; сто лет не пел. Разучился окончательно.
– Очень плохо. У тебя был прекрасный голос. Думаю, он бы сохранился, если б ты не перестал петь.
– Может быть, не знаю. Не желаешь бренди к кофе?
– Пожалуй, не откажусь.
И за бренди он застал ее врасплох: потянулся через стол, взял ее руки в свои и попросил, не смея глядеть ей в глаза, снова выйти за него.
– Алиса, – добавил он, – мне пятьдесят шесть. Один сердечный приступ у меня уже был, и я…
– Не знала, что у тебя был приступ.
– Весной; так, легкий. Я, может, проживу до девяноста. Но, Алиса, суть в том, что не хочется стареть в одиночестве. А тебе?
Она страшно смутилась, не знала, что думать, что сказать. Единственная мысль была: нет, это неслыханно, такого просто не может быть. Но ответить что-нибудь было надо.
– Я не думаю о старости.
– Знаю. И это, среди прочего, восхищает меня в тебе, Алиса. Ты безгранично веришь в будущее. Никогда не сдаешься.
– Наверно, я оптимистка.
– Без всякого сомнения. Алиса, вряд ли мы можем сейчас о чем-то договориться. Да и время уже позднее. Но хочу, чтобы ты подумала над моим предложением. Обещаешь? И что мы скоро встретимся еще и поговорим?
– Обещаю.
Он проводил ее до подъезда, постоял, не решаясь поцеловать на прощание. Потом подался к ней, легко коснулся губами щеки и сжал ладонь.
Он ушел, а меньше чем через неделю умер. В разгар рабочего дня свалился, сидя за столом, и умер прежде, чем успела приехать «скорая». Тактичный кадровик из «Объединенных инструментов и литья» известил ее о случившемся, сказал, что, принимая во внимание обстоятельства смерти, компания берет на себя заботу об устройстве похорон.
Три дня она плакала, не в силах остановиться. Бобби приехал из школы на похороны, бледный, суровый, не понимающий причины ее слез, и ей стало только хуже. Она хотела объяснить ему, сказать: «Но я любила твоего отца, только на прошлой неделе мы собирались…» Но не могла найти слов. Она знала, он никогда ей не поверит.
И даже теперь, годы спустя, всякий раз, когда она вспоминала те дни или слышала соло вот этого тенора в храме, ее сердце пронзала печаль.
Ей удалось успокоиться к моменту проповеди, но после первых слов священника она вновь погрузилась в собственные мысли. Она думала о том, что как прекрасно было бы приходить в эту церковь с Бобби: они вместе пели бы гимны, вместе становились на колени и молились; вместе подходили бы к причастию, а после вместе возвращались домой и обменивались впечатлениями от проповеди.
Священник: – Да пребудет с вами Господь.
Хор: – И в духе твоем.
Священник: – Помолимся.
Затем наступило время подойти к причастию, и она представила чувство благоговения и смирения, какое испытает при этом.
«Прими и вкуси сие в воспоминание о смерти Христовой, умершем за тебя, и питайся Им в сердце твоем через веру твою, с благодарением… Пей сие в воспоминание о крови Христовой, пролитой за тебя, и будь благодарен».
И пока прилипшая к нёбу облатка медленно таяла во рту, она вновь выдохнула свою горячую просьбу: «Боже, пусть он скорей вернется домой!»
Заключительный гимн был одним из ее самых любимых: «Славное возвещается о Тебе». Она любила строку: «Могут ли они ослабеть, когда такая река будет вечно утолять жажду их?» И когда хор и юный высокий и чистый тенор запели эти слова, у нее по спине пробежал холодок.
Вернувшись домой, она налила себе большой стакан виски, приготовила на скорую руку чем закусить и весь день клевала носом над воскресными газетами. Только изредка отправлялась на кухоньку плеснуть еще немного из бутылки.
Незадолго до пяти она заставила себя подняться и навести порядок в квартире в приятном ожидании: должна была зайти Натали Кроуфорд, и они отправятся куда-нибудь обедать.
Временами она напоминала себе, что, в сущности, Натали ей не нравится и никогда не нравилась, но как-то так получилось, что с годами они стали ближайшими подругами. Не считая Мод Ларкин, еще в Риверсайде, Натали была единственной, кому Алиса поверила историю бегства Стерлинга Нельсона, и только ей одной рассказала о последних, горьких и радостных днях перед смертью Джорджа. С тех пор, если ей нужны были поддержка и утешение, она всегда и неизменно находила их у Натали, поэтому особенно ждала ее в такие, как сегодня, воскресные вечера, когда чувствовала беспокойство и подавленность.