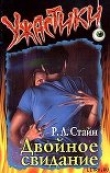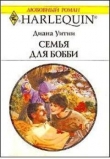Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Почти час они наслаждались. Развалясь на мягком диване, сбросили обувь и смеялись в полном восторге, оттого что могут расслабиться и дать отдых измученному телу.
– Небось никогда не забудешь ту жуткую пыльную дорогу, а? – спросила она Бобби. – Мог ты представить что-то более ужасное?
– Да-а. Но мы справились.
– Точно. И знаешь что? Я никогда бы не справилась без тебя. Ты меня поразил.
Они по очереди долго плескались в ванной и переоделись во все лучшее, что у них было. Затем, чувствуя себя отдохнувшими и чистыми, неторопливо спустились в обеденный зал. Когда прошел первый шок от цен в меню, она подумала, что надо бы предупредить Бобби выбирать что-нибудь самое дешевое, но потом ей пришло в голову, что это ложная экономия. Если они собираются жить здесь в долг, то какая разница, насколько он будет велик.
– Можешь выбирать что хочется, дорогой. Правда, здесь недурно?
И для начала торжественно заказала для себя два «Манхэттена».
– Теперь собираешься звонить папе? – поинтересовался Бобби, когда они вернулись в свой голубой люкс.
– Да, дорогой, больше ничего не остается.
Но она знала, что это будет неприятный звонок, и не хотела, чтобы Бобби слышал ее разговор. Она отослала его погулять в вестибюле и только потом сняла трубку и попросила соединить ее с телефонисткой междугородной линии.
Наконец она услышала далекий голос Джорджа:
– Алиса? Ты получила мое письмо?
– Твое письмо? Нет.
– С тобой все в порядке? А с мальчиком?
– У нас все прекрасно, но не благодаря тебе.
Он вздохнул в трубку.
– Алиса, я послушался совета своего адвоката. Послушался потому… потому что, откровенно говоря, не знал, что делать.
– И ухватился за возможность наказать нас. Воспользовался юридической лазейкой, чтобы снять с себя ответственность.
– Алиса, это совсем не так. Если уж на то пошло, я просто хотел преподать тебе урок.
Она стиснула трубку в ладонях.
– Какой еще урок?
– Что люди должны жить по средствам. Алиса, после твоего фортеля с Риверсайдом я чувствовал, что вправе это сделать. Ты знаешь, сколько за последние два года я переплатил сверх обусловленного в соглашении?
Она снова слышала знакомый занудливый голос. Голос раздраженного здравого смысла. Голос людей, которые говорят: «Нет, боюсь, это нецелесообразно» или «Надо было думать раньше, тогда у тебя не было бы этих неприятностей», – голос, с которым она безнадежно сражалась всю жизнь и который обещал, обещал всегда, что последнее слово останется за ним.
– Мой адвокат поверить не мог, – талдычил голос. – Он сказал, что я, должно быть, ненормальный. И вдобавок тебе еще вчиняют иск на сумму, какую в жизни не выплатить. Между прочим, твои дружки Вандер Меры давали о себе знать?
– Нет.
– Повезло тебе. Они запросто могли, если бы захотели, достать тебя через техасский суд. Как бы то ни было, ты, наверно, получишь мое письмо завтра. Там я предложил выслать тебе достаточно, чтобы хватило вернуться в Нью-Йорк, при условии, что отныне между нами устанавливается ясное и четкое взаимопонимание. Больше никакого сумасбродства, Алиса. Никаких безумных плат за жилье, никаких частных школ. Я хочу, чтобы ты внимательно прочитала письмо и поразмышляла над ним.
– Хорошо. Но я его не получу, потому что мы съехали. Мы больше не живем у Эвы.
– Не живете? Почему?
В итоге она убедила его перевести телеграфом деньги на оплату счета в отеле и покупку билетов на поезд и терпеливо выслушала еще раз его объяснение относительно ясного и четкого взаимопонимания.
Вернулся обеспокоенный Бобби:
– Ну как, договорились?
– Да, дорогой. Все в порядке.
Но она не могла уснуть. Час или больше ворочалась на прохладных гостиничных простынях; всякий раз, когда она задремывала, ей являлось ужасное видение: плачущее лицо Эвы, или Эва, говорящая: «Не позволю тебе говорить в таком тоне», или Эва, несущая молоко со льдом.
Наконец, сев в постели и закурив сигарету, она решила, что когда-нибудь можно будет извиниться перед Эвой. Не сейчас, не в ближайшее время, но как-нибудь в будущем написать ей покаянное письмо – письмо с благодарностью за ее доброту и с просьбой простить за то, что все так получилось. Это будет нелегкое и вряд ли очень приятное письмо, но Эву, возможно, оно удовлетворит.
Она тихонько прокралась в комнату спящего Бобби и посидела у кровати, глядя на его лицо. Кошмарные события дня казались сейчас далеко, далеко в прошлом. Никогда еще ей не приходилось переживать такой кошмар и никогда больше не придется. Всю жизнь впредь, когда бы она ни оказалась перед лицом тяжких испытаний, ей будут придавать силы слова «Помнишь белую дорогу?». А если все-таки случится что-то подобное или же худшее – если даже эти слова не помогут, – она сможет прибегнуть к совету Бобби, чтобы вынести невыносимое: «Представь, что ничего этого нет». Она почувствовала себя спокойной и храброй и готовой во всеоружии встретить будущее.
Бобби перевернулся в постели, колотя руками и ногами, его лицо исказилось, словно ему приснился кошмар. Потом открыл глаза.
– Все хорошо, – сказала она, и его глаза закрылись. – Спи, Бобби. Спи.
Часть третья
Глава первая
У него обнаружили пневмонию, и на выздоровление ушло пять недель. После первых нескольких дней боли и забытья под действием лекарств для Прентиса наступило время полного покоя: обтирания теплой губкой, чистые простыни, негромкие вежливые голоса, регулярная еда. Госпиталь, намного глубже в тылу, чем подвижные госпитали для раненых, размещался в старом каменном здании бывшей католической школы для девочек, и из окон палаты для пациентов с пневмонией открывался вид на мягкие очертания холмов, серо-коричневых от февральских проталин.
Вскоре после того, как его привезли, в первый день, когда он окончательно пришел в сознание и лежал на высоко подоткнутых подушках, глядя на бесконечную колонну грязных армейских грузовиков, ползущих мимо окна, по палате мгновенно разнеслась весть, что это пятьдесят седьмая дивизия, которую отводят с передовой под Кольмаром. Ее отправляли в Голландию на отдых и для пополнения состава, пока не восстановит свою боеспособность; и это значило, что можно было не испытывать чувства вины за то, что валяешься здесь в чистоте и тепле да попиваешь горячий шоколад. Когда они снова будут готовы воевать, Прентис тоже будет готов.
А тем временем он мог целые утра посвящать непростой задаче поиска удобного положения для ноги, горящей после средней степени обморожения; мог читать книги в мягких обложках, переиздания для армии, пока не уставал, мог завязывать вялую, временную дружбу с другими пациентами, мог писать письма.
Матери он несколько раз объяснял, что лежит в госпитале, но не ранен, а болен, и то не очень серьезно, и большую часть его писем занимали подробнейшие описания, как выглядит пейзаж Нормандии из поезда.
Он написал совершенно иное, чем прежние, письмо Хью Берлингейму, полное закамуфлированных упоминаний о снайперах, смерти, сильных артиллерийских обстрелах, косвенно давая тому понять, что теперь ему не до благородной юношеской погони за интеллектуальными абстракциями, и под конец сделал острое замечание о том, что подготовка по Программе V-12 должна быть интенсивной.
Написал он и Квинту, долго сомневаясь, стоит ли обращаться к нему с обычным «дорогой Джон». Письмо далось ему нелегко.
Извини, что еще раз не повидался с тобой в тот день в Орбуре перед тем, как отправиться в санчасть…
Но, перечитав письмо, он поправил эту фразу на «перед тем, как меня отправили в санчасть». Это была не такая уж ложь, его действительно отправили в тыл. Кроме того, разве лейтенант Эгет раньше в тот день дважды не предлагал ему сделать это? И разве он не отказывался оба раза?
У меня нашли пневмонию, как ты и предсказывал. Думаю, что у тебя то же самое, и надеюсь, что о тебе позаботились. Я даже ожидал встретить тебя здесь, но мне сказали, что здесь не один госпиталь, так что ты мог попасть в другой. Или, может, ты продержался, пока нашу часть не отправили назад в Голландию, как мне сказали несколько дней спустя. В любом случае, надеюсь, ты снова здоров, где бы ни находился. Возможно, нас обоих отправят туда, куда ты предполагал вначале, до заварушки в Орбуре.
Покончив с этим деликатным местом, он задумался, не зная, о чем писать дальше. Последние несколько фраз звучали с фальшивой сердечностью, прямо как, по мнению гражданских, должны общаться старинные армейские приятели, и он закончил так: «Передавай привет Сэму Р., если увидишь его, и удачи тебе». Странно было подписываться: «Боб», как и в начале писать: «Джон». Потом сделал приписку:
P. S. Похоже, в здешних армейских лавках неисчерпаемые запасы твоего чертова табака «Бонд-стрит». Как только встану на ноги, постараюсь набрать для тебя как можно больше.
Он добыл четыре пачки «Бонд-стрит», связал их красной лентой, сорванной со штор католической школы для девочек, и написал на маленькой открытке: «С Рождеством!» Пока он брел в больничном халате и шлепанцах в палату, по госпитальному радио начали передавать сообщение о высадке морских пехотинцев на остров под названием Иводзима; вскоре передали новое сообщение, встреченное восторженными воплями всей палаты: Первая армия обнаружила неповрежденный немецкий мост и переправилась через Рейн. Последовали головокружительные прогнозы, что война в Европе может закончиться за несколько недель, и это слегка обеспокоило его. Что, если она закончится прежде, чем он вернется на передовую? Вправе ли он тогда будет говорить, что воевал на войне?
Но в день, когда его выписали из госпиталя и вернули форму, до конца войны было еще далеко. Прощаясь с соседями по палате и позже сидя в кузове грузовика, направлявшегося в расположение Седьмой армии, он с удовольствием сознавал, что у него вид бывалого солдата: ботинки уже не выглядят новыми, куртка и штаны в пятнах грязи и пропитались кирпичной пылью Орбура – даже пятно на груди от зубной пасты смутно просматривалось, – а Квинтов шарф из одеяла придавал чуточку неуставной лихости. Он чувствовал себя выздоровевшим, хотя был еще вялым и слабым после госпиталя, но весенний воздух бодрил.
Прибыв на место, он узнал, что пятьдесят седьмая дивизия выполнила свою задачу в Голландии: теперь они были в составе Девятой армии, в Германии, обороняли, или «прикрывали», большой участок на западном берегу Рейна и скоро тоже должны были переправиться на восточный.
– Как быстро вы сможете отправить меня обратно в подразделение? – спросил он толстого кадровика.
– Много времени это не займет, – ответил тот, складывая документы Прентиса. – Через пару дней отправим. – Он растянул в улыбке обвислые, женственные губы. – Не терпится встретиться с дружками?
Так и не узнав ничего определенного, Прентис повернулся, отходя от стола, и почувствовал неловкость, поймав на себе взгляд робкого восхищения двух чистеньких, явно только что из Штатов, солдат, которые стояли в очереди позади него. Как легко выглядеть героем среди такого окружения! Здесь, в этой комнате, за столько миль от опасности, любой дурак и любой трус мог разгуливать в золотом сиянии славы, коли его форма достаточно грязна, чтобы предположить, будто он побывал в бою. Это было несправедливо, и эта несправедливость заставила его сделать суровое лицо под внимательными взглядами парнишек из нового, свежего пополнения – и все-таки он отдавал себе отчет, что это его суровое выражение, так же как пыль и пятно от пасты, только придает еще больше фальши его облику героя.
Кадровик был прав: его отправили через пару дней. Он ехал на север в переполненном кузове, держа между колен новехонькую винтовку; грузовик катил по нежно-коричневым и желтым весенним лесам и полям, громыхал по многочисленным серым, разрушенным городам, где старики провожали его растерянными взглядами, а дети махали, приветствуя.
Еще пару дней его возили по расположению Девятой армии; потом в другом грузовике он ехал на восток Рейнской области в штаб дивизии, дальше снова на восток в полк, и, наконец, его оставили на огромной безветренной равнине дожидаться джипа из роты «А», который должен был забрать его.
Водителем джипа оказался Уилсон, сержант-снабженец, сухопарый, очкастый, с длинной шеей и выпирающим кадыком и с выражением постоянного недовольства на лице. Прентис помнил его, как тот ругался и кричал, распределяя боеприпасы в здании фабрики перед наступлением на Орбур. Но Уилсон, очевидно, совсем его не помнил. Прошел мимо, выкрикивая: «Кто тут в роту „А“?» – и, когда ему указали на Прентиса, глаза у него ничего не выражали, как его очки.
– Новичок?
– Не совсем, нет. Я в роте с Бельгии, попал в нее сразу после Арденн.
– Неужели? Странно, я тебя совсем не узнаю.
В джипе, когда они с урчанием пересекали, казалось, бесконечную равнину, Уилсон скосил на него глаза:
– Из какого ты взвода?
– Я вестовой второго взвода.
Уилсон на мгновение оторвался от дороги, чтобы испытующе взглянуть на него.
– Быть не может. Вестовым во втором взводе Макканн. Причем с тех самых пор, как мы отплыли из Штатов.
– Ну, – ответил Прентис, – наверно, его какое-то время не было или что еще. В любом случае я…
– Нет, он всегда был на месте. Насколько я знаю. Уверен, что в ту роту едешь?
– Конечно уверен. Я был вестовым второго взвода с Кольмара и до Орбура.
– Гм, – хмыкнул Уилсон, – будь я проклят, если помню тебя. – Он поскреб подбородок. – Постой-ка, ты не тот паренек, что заболел на фабрике?
Паренек, что заболел на фабрике? Тот скулящий, позорно плакавший мальчишка?
– Нет. Это был не я. Фабрика была до Орбура. Я еще долго оставался во взводе.
– Ранило, что ли?
– Нет, заболел…
– Дизентерией?
– Нет. Пневмонией.
– A-а! Ну так все равно не говори, что ты вестовой. Теперь ты не вестовой. Коверли, наверно, перевел тебя в другое отделение.
– Кто?
– Лейтенант Коверли. Новый комвзвода.
– Понятно. А сержантом по-прежнему Брюэр?
– Нет, Лумис вместо него. Брюэра ранило еще в Кольмаре.
– Господи, не знал этого! – воскликнул Прентис. – Куда ранило?
– В бедро, серьезно, но не слишком.
– Нет, я хотел спросить где?
– В Аппенвайере. Это второй город, который мы взяли. Черт, Орбур было не сравнить с Аппенвайером.
– Надо ж. – Они помолчали. – А лейтенант Эгет все еще…
– Да, по-прежнему командир. Только теперь он капитан Эгет.
– Ого!
Дальше они ехали молча по равнине, такой длинной, широкой и плоской, что скорость почти не ощущалась. Проехали несколько артиллерийских позиций в медленно поворачивавшейся дали, а потом зенитную батарею. К этому времени Прентис уже различал очертания отдельных домов, еще минуту назад видневшихся точками на мерцающем горизонте, и за ними продолжение равнины, встречающейся с небом у новой черты горизонта, которая, наверно, была западным берегом Рейна.
Когда они достигли домов, Уилсон круто свернул налево и медленно поехал вниз по улице мимо домов, и Прентис видел солдат, расхаживавших во дворах или торчавших в окнах. Одеты все были небрежно, у некоторых на головах черные шелковые цилиндры – трофей, захваченный в немецких платяных шкафах, шутовской наряд, ставший позже популярным в армии.
– Вот и командный пункт, – сказал Уилсон и затормозил у самого большого из домов.
Во дворе стоял Эгет, смеясь и болтая с людьми, которых Прентис прежде не знал. Эгет ничуть не изменился, разве что был сейчас чистым, выбритым и как будто слегка потолстел. На плечах постиранной и мятой полевой куртки поблескивали капитанские нашивки, а на груди слева красовалась криво приколотая драгоценная ленточка «Бронзовой звезды».
Подойдя к нему, Прентис засомневался, должен ли он отдать честь; потом, боясь, что это будет выглядеть глупо, решил не делать этого.
– Извините, сэр. Я просто хочу доложить, что вернулся из госпиталя. Меня зовут Прентис, вряд ли вы помн…
В глазах Эгета медленно разгорелась искорка узнавания.
– А, да-да, ты тот парень, у которого пропал голос, верно?
Он даже не протянул руки для пожатия – плохой знак? – но его голос и обращение были вежливыми, и Прентис приободрился.
– Что ж, отлично, – продолжал Эгет. – Мы тут в последнее время малость расслабились в этом затишье, но, думаю, очень скоро опять все начнется…
Слушая его, Прентис как будто заметил краем глаза фигуру слоняющегося Логана и сосредоточил все свое внимание на лице Эгета, чтобы показать Логану, что не слышит, если тот вдруг окликнет его. Потом все-таки решил оглянуться, но Логан, или кто это был, исчез.
– Так, дай-ка подумать. – Капитан потер красную шею. – Вряд ли мы сможем назначить тебя снова вестовым. Свой взвод найдешь в третьем доме по дороге; спросишь лейтенанта Коверли. Только сперва зайди сюда и отметься у старшины, чтобы он внес тебя в суточную ведомость.
– Есть, сэр. Благодарю вас.
И, поворачиваясь, чтобы идти, снова засомневался, должен ли отдать честь, но было уже поздно. На КП не было знакомых лиц – даже самого старшину, толстого, наполовину лысого, с тупой рожей, он едва мог припомнить, а тот его не помнил совсем.
– Как пишется? – спросил он, когда Прентис назвал фамилию, и пришлось несколько раз писать ему по буквам, пока, сгорбившись над бумагами, тот выводил за ним, медленно и осторожно, сжимая в толстых пальцах карандаш, словно это был скальпель.
– Дизентерия, что ли?
– Нет. Пневмония.
– А это как пишется?
Знакомых лиц не встретилось и по дороге во второй взвод. Там у дверей торчал праздный народ, некоторые в цилиндрах; все уставились на Прентиса, загораживая ему дорогу. Большинство выглядели не старше его.
– Лейтенант Коверли здесь?
– В доме. На кухне.
Двое парней расступились, пропуская его. В передней, в коридоре и в затененной гостиной тоже слонялись незнакомые солдаты, с любопытством озиравшиеся на него. На пороге кухни его ослепили бившие в окно косые лучи предвечернего солнца: он вынужден был остановиться, щурясь и заслоняя глаза, пока не разглядел четверых людей, сидевших за блестящим кухонным столом и пивших кофе из фарфоровых чашек в цветочек. Все повернули к нему головы.
Тот, кто казался старшим, был одет в легкую, старого фасона полевую куртку на молнии и без знаков различия. Мощный, с бычьей шеей и близко посаженными маленькими глазками на свирепом лице; Прентис собрался было уже обратиться к нему, когда увидел у сидящего рядом человека, узкоплечего и куда менее внушительного, лейтенантские нашивки.
– Лейтенант Коверли?
– Он самый. Что вам нужно?
И Прентису вновь пришлось пройти процедуру установления личности.
– Ну что ж. Добро пожаловать на борт. – Лейтенант встал, оказавшись не только худым, но и небольшого росточка. У него была маленькая изящная голова со светлыми волосами и южный выговор. Влажная ладонь, ногти на пальцах обкусаны до мяса. – Знакомы с сержантом Лумисом? Сержантом нашего взвода?
Мощный сержант тоже встал и сдавил Прентису руку в пожатии.
– Что-то не припоминаю тебя, – сказал он низким, впечатляющим баритоном. – Был раньше в нашем взводе?
– Всего несколько дней. Еще в Кольмаре, при сержанте Брюэре. Только, понимаете, тогда я был вестовым.
– Точно? Я бы сказал, что вестовым у нас все время был Макканн. Ты, верно, был среди тех, кто присоединился к нам в том поезде, в Бельгии. Прав я?
– Правы. И был вестовым до Орбура. Точнее, пока мы не заняли Орбур.
– А что потом? Был ранен?
– Нет, за… заболел пневмонией.
Он сам не понял, почему запнулся. Что постыдного в том, чтобы заболеть пневмонией? Может, побоялся, что Лумис, как до этого Уилсон, примет его за того слюнтяя, заболевшего на фабрике?
– Ясно. А это, – Лумис кивнул на двух других, сидевших за столом, – Кляйн… то есть Джо Кляйн, радист, и Тед Банковски, санитар.
Невозможно было найти более непохожих людей, чем эти двое. Смуглое лицо Кляйна походило на крысиную мордочку и производило впечатление грязного, с его черной ниточкой усов среди трех– или четырехдневной щетины и желтой улыбкой. По сравнению с ним Тед, санитар, просто поражал: чистый, белокурый, лучащийся здоровьем, – прямо-таки отличник-бойскаут или президент польско-американского молодежного клуба. А самое замечательное, что сейчас, когда он протянул сильную и красивую руку, в его глазах появилось узнавание.
– Да-да, – сказал он. – Кажется, я припоминаю. У тебя еще был ларингит или что-то в этом роде?
– Верно, был.
– Куда мы его определим? – спросил лейтенант Лумиса. – В каком отделении больше всего не хватает людей?
– Черт, да везде не хватает. Но, думаю, больше всего у Финна. Хорошо, Прентис, пойдешь в первое отделение. Кляйн, смотай за Финном.
– Есть.
Радист с привычной миной недовольства торопливо обежал стол и выскочил в заднюю дверь. Прентису ничего не оставалось, как стоять и ждать – никто не предложил ему сесть, – а остальные сели за стол и возобновили прерванный разговор.
Прошло немного времени, и дверь опять распахнулась. Разговор затих. Вернулся Кляйн и с ним худой человек с впалой грудью и в соломенном канотье, какие были гордостью прирейнских щеголей в начале 1900-х годов.
– Финн, у нас для тебя есть новый человек, – объявил Лумис, – так что можешь прекратить свои жалобы. Прентис, это сержант Финн, командир твоего отделения.
Пожимая ему руку, сержант Финн не улыбнулся, и улыбнувшийся Прентис почувствовал себя глупо; тут же он разглядел, что сержант Финн был удивительно молод – лет девятнадцать, максимум двадцать. Но его худое, невзрачное лицо было самоуверенным, и по косому взгляду, брошенному на него Финном, Прентис понял, что тот оценивает его. Он облизнул губы, потупил глаза, как девушка, и в виде самозащиты принялся тайком разглядывать Финна, ища изъяны в сержантском превосходстве. Во-первых, он был таким же тощим, как сам Прентис, но при этом не вышел ростом. И антикварное канотье было не единственной нелепой деталью его наряда: зеленые командирские штаны, больше на несколько размеров, поддерживались обычными цивильными подтяжками в голубую полоску, надетыми поверх узкого грязного солдатского свитера. Если просто судить по тому, как он одет, по его сутулой спине и впалой груди, легко предположить, что он шут, предмет всеобщих насмешек, которого, конечно, никто не боится. Но опять-таки оставалось его спокойное лицо и холодный, оценивающий взгляд.
Финн настолько захватил его внимание, что он не заметил появления второго человека – не говоря о том, чтобы посмотреть, кто это, – пока не услышал голос Лумиса:
– А это помощник твоего командира подразделения сержант Рэнд.
– Сэм!
Прентис в восторге тряс знакомую четырехпалую руку, хлопал по знакомому крепкому плечу, а Сэм Рэнд лишь однажды позволил своему каменному лицу расплыться в улыбке при виде старого знакомого.
– Рад встретить тебя, Прентис, – сказал он и объяснил окружающим: – Мы прибыли на одном корабле.
– Черт меня возьми! – кричал Прентис с энтузиазмом коммивояжера. – Так ты теперь сержант Рэнд – вот это да!
Он понимал, что все это звучит несколько чрезмерно, но казалось важным дать всем, а особенно Финну, понять, что этот замечательный и ценный человек его друг.
– Хочешь подняться наверх, Прентис? – спросил Сэм. – Подыщем тебе место для спанья. – Он обернулся к Финну. – В комнате Уокера есть свободная койка; ничего, если он займет ее?
Финн пожал плечами, при этом штаны у него поднялись и опустились на подтяжках.
– Мне все равно.
Следуя за Сэмом по полутемному коридору, полному пристальных глаз, Прентис надеялся, что все заметят, что Сэм несет часть его вещей и расспрашивает приятельским тоном:
– Как чувствуешь себя, Прентис?.. Где тебя лечили?
Все в конце концов сложилось хорошо. Сейчас он положит вещи, получит разрешение отлучиться и отправится во взвод оружия, чтобы разузнать о Квинте.
– Как там Квинт? – спросил он, поднимаясь по лестнице вслед за медленно покачивавшимся задом Сэма, и сперва подумал, что тот не расслышал. – Эй, Сэм? Как Квинт?
Сэм задержался на ступеньке и оглянулся через плечо, но на Прентиса не смотрел. Сказал: «Да не очень» – и стал подниматься дальше.
– Хочешь сказать, он болен?
– Нет, хуже.
– Значит, ранен?
– Давай войдем в комнату.
В комнате пахло старыми обоями, отсыревшей штукатуркой и оружейной смазкой. Прентис присел на край койки, накрытой лоскутным одеялом, а Сэм – в изысканное старинное кресло.
– Это случилось сразу после того, как мы вышли из Орбура, – сказал он. – По дороге в Аппенвайер – другой город, который мы заняли. Дело в том, что мы должны были пройти огромное поле, а там, на поле, были установлены фугасы. Не много, но все-таки. Так вот, я не видел, как это произошло, – взвод оружия шел на каком-то расстоянии позади нас и левее, – сам я не видел, но слышал потом, что рассказывали. Говорят, Квинт наступил на мину. Так вот, говорят, что его ранило не слишком тяжело – в тот первый раз. Санитар побежал к нему и начал перевязывать; только тут на помощь побежал еще один санитар, и тот, второй санитар, подорвался на другой мине, прямо рядом с ними. Все трое погибли на месте.
Они долго молчали; на кухне зазвучал и затих смех: кто-то травил анекдоты.
– Мне правда жаль, Прентис, – сказал Сэм. – Знаю, вы с ним были большие друзья.
Он достал из нагрудного кармана пачку сигарет. Протянул сигарету Прентису, взял себе и неуклюже чиркнул дорогой зажигалкой, наверно реквизированной в каком-нибудь немецком доме. Затем нагнулся в кресле и выпустил длинную струю дыма в пол между ботинок.
– Я его видел только за день до того. Рассказывал, что тебя ранило; он очень переживал за тебя.
– Ты сказал ему, что меня ранило? Господи, Сэм! Я не был ранен. Меня просто отправили в тыл с пневмонией.
Сэм взглянул на него без особого удивления:
– Вот как? Значит, мне неверно сообщили. Я слышал, тебя ранило в Орбуре.
Они снова замолчали. Наконец Сэм встал и пробормотал, что найдет его позже.
– Подожди секунду.
Прентису неожиданно стало страшно оставаться одному. Он хотел сказать: «Подожди секунду. Слушай. Ты знаешь, что он отправился бы в санчасть еще до Орбура, если бы не я? Я его отговорил! Ты понимаешь, что меня отправили туда на другой день, а я ему даже не сказал, что отправляюсь в санчасть? Даже не сказал? Понимаешь, как это ужасно, если он считал, что я ранен? Господи, Сэм, ты понимаешь, что я убил его?»
Но вместо этого он сказал:
– Подожди секунду. Я… я… – Он порылся в вещевом мешке, нащупал пачки «Бонд-стрит», но, прежде чем вытащить и протянуть Сэму, сорвал красную ленту и открытку. – Ты ведь иногда куришь трубку, да?
– Бывает иногда. Ну, Прентис… услужил. – Сэм держал табак обеими руками, разглаживая края пачек средним пальцем.
Потом он ушел, и Прентис сидел один среди тишины, звенящей от его пронзительных, невысказанных слов. Он был настолько одинок, что оставалось только откинуться на койку, повернуться на бок и поджать колени, как ребенок в утробе, глядя сухими глазами на букет розовых цветов на обоях и чувствуя, что в жизни не был так одинок, как сейчас.
В скором времени он скатился с койки и встал на ноги, вперившись в потолок, словно моля Бога покарать его; затем он уронил голову и стиснул виски ладонями – поза такая же мелодраматическая, какие удавались Алисе Прентис, – так он сидел, когда дверь вдруг распахнулась и здоровенный детина в цилиндре уставился на него.
Единственный способ, как можно было выйти из положения, – это изобразить, что чешется голова, и он, сморщившись, принялся скрести голову всеми десятью пальцами, словно исстрадался по хорошему шампуню.
– Ты Прентис? – По крупному невыразительному лицу парня нельзя было сказать, сработала уловка или нет. – Держи почту. Только что принесли с КП. – И он швырнул на койку Прентиса толстую, перевязанную шпагатом связку писем.
– Ого! – сказал Прентис, продолжая скрести голову. – Спасибо.
Он пригладил волосы, стряхнул с пальцев воображаемую перхоть и солидным жестом заложил большие пальцы за ремень.
– Меня зовут Уокер, – сказал парень. – Я сплю на второй койке.
– Рад познакомиться.
Но Уокер буркнул что-то: мол, ему заступать на пост и он должен бежать. Взял с кровати ремень, подпоясался и застегнул его, сменил цилиндр на каску, схватил винтовку и исчез так же быстро, как появился, оставив после себя почти видимый след неприязни.
Это была первая почта, какую Прентис получил с момента прибытия в Европу. Большинство писем было от матери – и он выбрал то, на котором стоял самый свежий штемпель, распечатал, спеша убедиться, что у нее все хорошо.
Дорогой Бобби, я изо всех сил старалась не беспокоиться, и понимаю, что в госпитале находиться безопасней, поскольку ты пишешь, что болен «не серьезно», но даже в таком случае перепугалась до полусмерти!!! Все говорят, что война скоро кончится, и я так надеюсь и молюсь…
Он пробежал глазами большое, взволнованное письмо, задержавшись на следующих строчках:
Ох, как мне понравился твой рассказ о Франции!!! В твоем описании она предстала передо мной как живая, настолько, что я почти вижу…
Он спрятал письмо обратно в конверт. Еще ему писал Хью Берлингейм и двое менее близких школьных друзей, но эти читать ему сейчас не хотелось. Письмо, от которого он не мог оторвать глаз, которое он долго держал в руке, не вскрывая, было адресовано не ему. Новенький конверт из почтового набора Красного Креста был надписан его собственной постыдно знакомой рукой, адресован рядовому Джону Р. Квинту, и на нем стоял розовый штемпель ротного писаря: «Вернуть отправителю».
Здесь, на Рейне, стоять на посту означало, что нужно обойти плоский берег, дважды днем и дважды ночью, и сидеть в окопе, наблюдая за спокойной и на удивление узкой рекой. Ты сидел там два часа на импровизированной деревянной скамейке, с полевым телефоном под рукой, и следил за любым движением на противоположном берегу, пока тебя не сменял другой человек. В полумиле на север слышался смутный шум – там инженерные войска возводили понтонную переправу.
Прентис с готовностью отправлялся на это двухчасовое сидение, потому что оно отвечало его потребности в одиночестве, а только в одиночестве мог он со всей остротой ощутить огромность своей вины.
А как это было бы просто! Если бы он ответил: «Идем», когда Квинт предложил пойти в санчасть, – и что, в конце концов, ему стоило согласиться? Или позже, в разговоре у окна в Орбуре, если бы он только сказал, что собрался-таки в санчасть. Или еще позже, когда он под ругань Логана свалился на матрас: не так уж много, в конце концов, сил потребовалось бы заставить себя подняться, найти Квинта и сказать ему: «Слушай, теперь я готов; я иду». Почему он не сделал этой единственной, последней, невероятно важной вещи? Действительно ли потому, что был слишком болен, чтобы подняться с матраса? Или же – как особенно горько было думать – из-за треклятого вина, которое выпил в тот день?