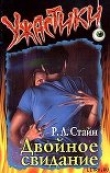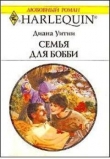Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Однажды, возвращаясь в полночь во взвод, он начал мысленно составлять трудное письмо:
Дорогие мистер и миссис Квинт, я хочу, чтобы вы знали, что я чувствую свою ответственность за гибель вашего сына…
И, забравшись в постель и укрывшись с головой одеялом, чтобы не разбудить Уокера, попытался при свете фонарика перенести на бумагу то, что написалось мысленно. Но все фразы пришлось вычеркивать и переписывать и снова вычеркивать, пока спустя час он не бросил это занятие. Какой ответ может он получить на подобное письмо? Разве что любезную, если вообще получит, отписку от скорбящих родителей.
Он скомкал листок, выключил фонарик и попытался заснуть. Но спустя полчаса включил фонарик и снова принялся за письмо, попытавшись теперь писать иначе:
Дорогие мистер и миссис Квинт, хочу, чтобы вы знали, что ваш сын Джон был самым лучшим человеком, какого я когда-либо…
Но и на сей раз он не смог закончить.
Наконец он убрал фонарик и неподвижно лежал, разминая сведенные спазмом пальцы, слушая густой храп Уокера и свое тихое дыхание. Безнадежно. Единственное, чем он мог искупить свою вину, так это делом, а не словами – в боях, какие еще предстоят на опасной земле за рекой, – и, представляя себе, как он героически, не щадя жизни, сражается, Прентис уснул.
А пока перед ним ежедневно вставала проблема налаживания отношений с людьми во втором взводе, и особенно в его собственном отделении. Он неоднократно порывался пойти к Финну и сказать: «Послушайте, сержант, хочу кое-что вам разъяснить. Дело в том, думаю, что вы, должно быть, спутали меня с тем парнишкой, который скулил на фабрике, еще перед…» Но так и не решился, и Финн, казалось, продолжал смотреть на него с легким презрением.
И в Сэме Рэнде он не находил особой поддержки. Теперь, когда Квинт погиб, довольно скоро стало ясно, что у них с ним мало общего; кроме того, непросто было говорить с Сэмом без кажущегося заискивания перед помощником командира отделения.
Лишь двое в отделении были ветеранами Арденнских боев – сам Финн и шумный, плосколицый коротышка Крупка, выглядевший на семнадцать, хотя на деле ему было двадцать три. Крупка первый сделал попытку подружиться однажды утром, когда Прентис ждал своей очереди в дополнительную уборную – стул с выбитым сиденьем, поставленный над узким окопом на заднем дворе (переполненной старой уборной пользоваться было невозможно). Крупка уселся на импровизированный стульчак и, освобождая кишечник, каждую фразу в одностороннем разговоре подкреплял жестом руки с зажатым в ней обрывком туалетной бумаги.
– Ты был с нами в Кольмаре, верно? Слушай, никому не позволяй презирать тебя – после Кольмара ничего не произошло такого, чтобы на тебя смотрели свысока. Нас всего-то перебросили в Голландию удерживать плацдарм, а потом сюда, и с тех пор полная тишина. Кое-кому из ребят нравится пудрить тебе мозги, не слушай их. Ты из каких мест в Штатах, Прентис?
Он казался неплохим и добрым парнем, но Прентис следовал старому проверенному правилу, усвоенному еще в школьные годы: берегись тех, кто первый протягивает руку дружбы, – возможно, он сам изгой. Как оказалось, Крупка не был изгоем – явно слишком хороший и надежный солдат, чтобы быть изгоем в отделении, – но любовью ни у кого не пользовался: несмотря на отсутствие мало-мальского чувства юмора, у него было в привычке подшучивать над человеком, подначивать, задевать за живое. Как-то, когда на кухню зашел командир другого отделения поговорить с лейтенантом – высокий, сутулый и похожий на студента сержант Бернстайн, – Крупка так приветствовал его: «Как поживаешь, самоубийца? Как сегодня с самоубийством?» Бернстайн не обратил внимания на его выходку, хотя щеки у него пошли розовыми пятнами, а кто-то рядом прикрикнул: «Заткнись, Крупка, придурок!» Но Крупка не мог так просто остановиться: продолжал встревать, пока Бернстайн разговаривал с лейтенантом, а когда он уходил, крикнул вдогонку: «Пока, самоубийца!» – и ткнул Прентиса в бок: «Знаешь, почему я так его зову? Это было еще в Арденнах, с Брюэром. Мы должны были перебраться через гору; старина Бернстайн струхнул и стал вопить Брюэру: „Я не поведу туда моих людей!“ – Тут Крупка выкатил глаза, с беспощадной точностью изображая истерику. – Так вот, стал вопить: „Это самоубийство! Это самоубийство!“ А оказалось, что на другой стороне горы никого – вообще ни одного фрица. Вот я и прозвал его так. Злится как черт, хотя помалкивает».
Остальные пять человек в отделении (всего их было девять вместо положенных двенадцати) были из пополнения, которое пришло в Голландии. Все пятеро были погодки Прентиса или еще моложе, и здоровяк в цилиндре, Уокер, сосед Прентиса по комнате, явно был у них за главного. Он и двое молчаливых косоглазых деревенских парней, Дрейк и Браунли, были не разлей вода, и с этой троицей сержант Финн предпочитал проводить большую часть времени. С ними он шарил по домам вдоль дороги в поисках яиц и вина, с ними допоздна засиживался за вином и картами и постоянно заботился об их благополучии. Он словно бы решил, что эта троица – единственные в отделении, с кем стоит возиться. Сэм Рэнд, вообще-то, хорош, но он старше и способен сам постоять за себя, Крупка тоже нормальный парень, да заноза в заднице; что же до остальных, то, хотя его обязанностью было опекать и их, судя по тому, как он глядел на них, как ворчал, ему до них не было дела.
А этих остальных, кроме Прентиса, было двое: маленький, с печальными глазами, тоскующий по дому Гардинелла, который постоянно делал безуспешные попытки заслужить доверие Финна, и Мюллер, совсем уж мальчишка с виду, такой тихий и так редко попадавшийся на глаза, что Прентис поначалу думал, что он из другого отделения. Он был среднего роста, плотный, хотя весил скорее как упитанный ребенок, нежели мускулистый мужчина, и кисти рук у него были узкие, слабые, с мягкими, в ямочках пальцами. Что самое удивительное, Мюллер таскал на себе BAR[44]44
BAR – ручной пулемет Брауна.
[Закрыть] – в теории, на него одного приходилась большая часть огневой мощи отделения, – но и трех дней не прошло, как Прентис услышал историю о том, каким образом Мюллер удостоился такой чести. В Голландии, то ли после какой-то лекции в батальоне, то ли после обсуждения ее, он в суете построения и посадки на грузовики забыл свою винтовку в зале. И Финн, после того как устроил ему нагоняй: «Хочешь сказать, что потерял свою винтовку?» – решил: «Ладно, вояка. Отныне поручаю тебе пулемет». Это было наказание: «браун» весил вдвое больше стандартной винтовки и требовал для носки особого ремня, который сам по себе был тяжеленным от дополнительных магазинов с патронами. Обычно, когда отделение вступало в бой, Финн поручал пулемет кому-нибудь наиболее умелому – Уокеру, например, – а тем временем Крупка безжалостно издевался над Мюллером: «Эй, Мюллер, много собираешься положить фрицев? Собираешься подбить парочку „тигров“? Эй, ребята, дайте Мюллеру бронебойных патронов, чтобы он мог подбить парочку „тигров“, – дать, Мюллер?» Тяжелый пулемет был мучением для Мюллера, и Прентис мог только восхищаться стойкостью, с которой тот нес свой крест.
Но среди этих людей Прентису никак не удавалось найти душевный покой. Это относилось даже к Гардинелле и Мюллеру. Он замкнулся и с нетерпением ждал очереди отсиживать два часа в окопе на берегу реки. И там, в окопе, как-то под вечер он решил сделать наконец то, что так долго откладывал, – сходить во взвод оружия. И как только выдалось свободное время, отправился туда.
От первых двоих, встретившихся ему, он толку не добился – они были из нового пополнения, – но потом он отыскал изможденного старшего сержанта, чья фамилия смутно помнилась ему: Ролле, который был в подразделении с давних пор.
– Квинт? – переспросил Роллс. – Такой невысокий? В очках? Да, помню, вот только имя его забыл. – Он поднял голову, щурясь от едких испарений растворителя, которым чистил разобранный пистолет у резного обеденного стола. – Я был там, да. Шел как раз позади него.
– Можете рассказать, как все произошло? Подробности?
Сержант отложил протирочную ветошь и потянулся к помятой пачке сигарет.
– Ну, та мина взорвалась. Не прямо перед ним, сбоку, но не убила его. Тогда Дейв – это был наш санитар, лучший санитар в роте, – Дейв бросается к нему. А потом тот чертов другой санитар – не знаю, кто он был, никогда до этого не видал его, – тот чертов дурак-санитар и выскочил невесть откуда. Сукин сын был даже не нужен – вот что самое непонятное; просто какой-то не в меру ретивый ублюдок сунулся, хотя его не звали. В общем, тот проклятый дурень идет, не глядя себе под ноги, и бабах! – другая мина.
– Это я знаю, – сказал Прентис. – Об этом моменте я уже слышал. Мне что хочется знать… я, конечно, не сомневаюсь, но они все трое погибли? Вы абсолютно уверены, что Квинт был мертв?
Сержант Роллс вынул изо рта сигарету и отлепил от нижней губы кусочек сигаретной бумаги.
– Приятель, последний раз, когда я видел его, он лежал там. – Желтый от никотина палец указал на ковер на полу столовой; Прентис кивнул, а палец описал медленную дугу и показал на другое место на полу, футах в пяти-шести от первого. – А голова лежала вон там.
Возвращаясь в дом, где располагался второй взвод, Прентис чувствовал, как пальцы на ногах сжимаются, словно норовя вцепиться в землю, будто когти, и шагал с усилием, будто прошел десять миль.
Еще не доходя до дома, он услышал смех и стук посуды и только тогда вспомнил, что́ сегодня за вечер: второй взвод устроил вечеринку, которую предвкушал несколько дней.
Зарезали множество кур, выставили кучу бутылок шнапса и вина, прибереженных для такого случая, и вот пир был в самом разгаре. Все столы в доме перетащили на кухню, составив один зигзагообразный банкетный. Лейтенант Коверли сидел на почетном месте и казался чуть ли не лилипутом рядом с мощным Лумисом по правую руку, остальные сидели вплотную друг к другу, склонясь над своими тарелками. Когда Прентис с неловким видом возник на пороге, стало ясно, что сесть ему некуда.
– Тут больше никто не поместится, Прентис! – крикнул Лумис, чьи губы и щеки лоснились от куриного жира. – Не повезло тебе.
– Ничего страшного, – ответил он; жующие физиономии одна за другой поворачивались взглянуть на него, и ему захотелось провалиться сквозь землю.
Но Тед, санитар, встал и принялся накладывать ему еду на тарелку. Несколько человек придвинулись к столу, чтобы Прентис смог по стеночке протиснуться к плите, потом им вновь пришлось придвигаться, чтобы пропустить его обратно. Он ел, присев на корточки, стараясь удерживать тарелку на колене. Локти, спины и головы сидевших за столом находились слишком высоко над ним, чтобы он мог участвовать в общем разговоре, и от неудобной своей позы он едва ощущал вкус еды. Поза слишком верно, слишком нелепо иллюстрировала его положение во взводе: единственного, кто был обречен всюду опаздывать, все пропускать и в конце концов оказываться слишком низко, чтобы его заметили.
Наконец несколько человек вышли из-за стола и, рыгая, полезли наверх, так что Прентис как можно непринужденней скользнул на освободившийся стул, стараясь не расплескать стакан. И через минуту-другую стало уже не важно, что никто не разговаривает с ним, потому что разговоры за столом затихли, а говорившие превратились в слушателей: слово взял лейтенант Коверли:
– …Но я имею в виду, что это больше не война пехоты. Отныне все решается огневой мощью артиллерии. Я имею в виду, наша артиллерия разносит в пух и прах их пехоту, но вы отлично знаете, что их артиллерия ничто по сравнению с нашей. Да и много ли шансов у человека против восьмидесяти восьми миллиметров? Подумайте сами.
За столом согласно или по крайней мере уважительно закивали и забормотали. Даже Прентис уже понял, как и остальные, что лейтенант совершенно не уверен ни в своей власти над подчиненными, ни в самом себе. Выдавали его и обкусанные ногти, и нерешительно бросаемые взгляды, и задыхающийся, почти шепчущий голос, а кроме того, настойчивость, с какой он добивался, чтобы его звали просто Кови, а не «лейтенант» или «сэр», словно обращение не по форме могло освободить его от обязанности командовать. Манера говорить постоянно выдавала в нем офицера по административным вопросам войск связи, который, к его несчастью, был переведен в пехоту, наскоро переобучен и в Голландии попал в этот взвод; также ходил слух, что недавно он получил от жены письмо с просьбой о разводе. Так и казалось, что в его голосе с мягким южным выговором звучит просьба: пожалуйста, не ждите от меня слишком многого. Никто и не ждал, хотя и неприязни к нему не испытывал. Подчиненные не чувствовали неловкости, называя его Кови, и в своем большинстве тактично решили всячески помогать ему нести бремя командования.
– …Черт побери! – говорил он сейчас, и его голос звучал с непривычной уверенностью, внушенной выпитым. – Черт побери, когда сражаешься с пехотой, это честная война, правильно? То есть тогда важно, что ты встречаешься с врагом лицом к лицу, ты убиваешь или убивают тебя. И черт побери, я каждый день оказываюсь в ситуации, когда приходится рисковать жизнью.
Прентис не мог не усомниться в этом и украдкой оглядел сидевших за столом: не сомневается ли кто, кроме него. Приходилось ли Коверли вообще когда-либо рисковать жизнью? Но, видать, было не важно, глупость он порет или нет, ему все сходило с рук.
– Держу пари, – продолжал Коверли. – Держу пари, что никому из нас десяти с этих пор не придется стрелять. Не в кого будет. Не выстрелишь в ответ. Черт побери, с таким же успехом нас могли бы разоружить, винтовки нам ни к чему. – Блестящими глазами он с вызовом оглядел стол. – Мы станем легкой мишенью для их восьмидесятивосьмимиллиметровых – вот что меня пугает, и, не стесняюсь признаться, пугает до смерти.
Сержант Лумис старательно откашлялся, и, когда заговорил, Прентису стало ясно, что именно с Лумисом не так – несмотря на его прекрасный послужной список и на то, что он был подлинным командиром взвода, – и почему большинство ненавидело его. Виной всему было его проклятое актерство: что бы он ни говорил, все отдавало ужасной, киношной фальшью; он словно бы почерпнул свои представления о том, каким должен быть взводный сержант, из всех голливудских фильмов о войне, когда-либо выходивших на экраны.
– Ну, не знаю, Кови, – говорил он сейчас, глядя на остатки шнапса в своем стакане, – по крайней мере, мы побеждаем в проклятой войне. Я куда охотней победил бы в войне, чем потерпел поражение. А не так давно, в Арденнах, похоже было, что мы можем проиграть, – это когда встретились с настоящими трудностями.
Лейтенанту оставалось только опустить глаза и промолчать; он, разумеется, не участвовал в сражениях за «Выступ».
– А я согласен с Кови, – сказал Кляйн, неряшливый угодник-радист.
По случаю вечеринки он умылся и побрился и выглядел почти чистым, зато теперь при белых щеках стала заметней россыпь угрей на носу. Когда его бесконечные поддакивания Лумису надоели даже ему самому, лучшее, что он придумал, – это соглашаться с Кови.
– Самая большая неприятность с этой артиллерией, – заявил он, – то, что с ней не повоюешь. Смысла нет.
Но Кляйна, как обычно, никто не слушал; уже поднимался, собирая свои тарелки, следующий оратор, человек, сидевший по левую руку от лейтенанта, – высокий, краснощекий красавец старший сержант Пол Андервуд, разведчик. Андервуд редко надолго задерживался в расположении взвода; у него было столько друзей в роте, что он постоянно где-то шатался, словно желая одарить общением нескольких обожателей одновременно. Когда Прентис впервые увидел, как он входит в дом под хор радостных голосов: «Эй, Пол!», «Где пропадал, Пол?», «Погоди, секундочку, Пол, мне нужно кое-что рассказать тебе», то почувствовал инстинктивную, возмущенную зависть. Никто не имел права быть таким красивым, таким привлекательным, таким нужным всем. Но вот Андервуд вошел и сказал: «А тебя я, кажется, еще не встречал, солдат; новенький?» – и Прентис смиренно сдался. Андервуд был безупречен; и теперь, когда он боком пробирался мимо стола, чтобы отнести свою посуду, все внимание обратилось на него.
– Я знаю только то, – сказал он, – что для меня это слишком скоро не закончится. Одного лишь хочется: чтобы мы подольше просидели на этом берегу и дали русским решить дело; меня бы это полностью устроило.
– Повтори-ка, что ты сказал, приятель, – попросил Тед, санитар.
Все за столом согласно закивали и зашумели. Это полностью устроило бы каждого – каждого, кроме, видимо, Прентиса, который, чтобы промолчать, уткнулся в стакан, допивая вино.
Слабый отдаленный гул в небе, приближавшийся с востока, заставил всех замереть и взглянуть друг на друга округлившимися глазами; гул стал громче и ниже – одиночный немецкий самолет-разведчик приближался к мосту.
Почти тут же в поле за домом заработала зенитка, все вскочили, роняя стулья и опрокидывая стаканы; толкаясь, бросились к двери, как возбужденные дети, а потом помчались на поле поглазеть, крича и показывая на самолет.
А тот пытался уйти от обстрела, преследуемый желтыми следами трассирующих снарядов и черными облачками разрывов в розовом вечернем небе.
– Достаньте ублюдка! Достаньте! Достаньте!
– Низко берут! Господи, да выше берите! Выше!
– Попали! Готов!
– Нет, не попали… еще нет… Достаньте его!
Самолет продолжал набирать высоту, повернув на северо-запад, и явно уходил от зенитного огня, но потом мотор зачихал, за самолетом потянулась струя черного дыма. Описав длинную изящную дугу, он врезался в землю: в миле от себя они увидели небольшой черно-оранжевый шар взрыва, а потом среди внезапной, звенящей тишины докатился и звук.
– Ух ты!
– Видал? Ты видал?
– Красота! Красота!
– Вот это да!
– Как тебе это понравилось?
Кто-то хлопнул Прентиса по спине, он сам ощутил боль в руке, хлопнув кого-то; он даже не знал, чья это была спина. Увиденное захватило его, как и остальных, и, похоже, впервые позволило почувствовать себя одним из них.
Они возвращались нестройной толпой – крохотные на бескрайней вечерней равнине и такие все разные, – и он по очереди оглядывал шагающие, переговаривающиеся фигуры – даже пугающего Финна в нелепом соломенном канотье, даже Крупку, даже Уокера, даже наглого льстеца Кляйна, – и приятно было думать, что это его взвод. Он знал, что, возможно, оно, это чувство братства, продлится недолго, что, возможно, оно возникло благодаря случаю с самолетом и, не меньше, под влиянием выпитого, но оно было. Это его подразделение; с ними ему предстоит переправиться через реку и получить шанс искупить вину, сколько бы ни осталось до окончания войны.
Глава вторая
Переправа началась перед рассветом. Началась с жесткой, злой толкотни людей, придавленных непривычной тяжестью неотвратимости и снаряжения, с медлительного построения роты на темной дороге и угрюмого, с руганью, марш-броска.
К тому времени, как колонна подошла к мосту, небо и земля начали голубеть. Сама переправа состояла в том, чтобы спуститься к воде, стараясь не поскользнуться на раскисшем крутом берегу, потом, осторожно ступая, пройти показавшуюся очень длинной дорожку из стальных полос поверх понтонов, которые качались внизу, в гремящей черно-серебристой стремнине, и выбраться наверх по такой же грязи на противоположном берегу.
Скоро все стало зеленым и золотым. Они шли по ровной щебеночной дороге через лес, и единственным звуком, кроме топота их резиновых каблуков, было пение птиц на вершинах деревьев.
Лейтенант Коверли, охваченный возбуждением, прошел вдоль взвода, подбадривая своих людей. Прентис увидел его впереди, болтающим с Финном. Затем он вернулся назад, задержался возле Мюллера, прошел немного рядом, положив руку тому на плечо, после обменялся несколькими словами с Уокером, который сказал что-то, заставившее его рассмеяться.
– Ну а ты как, Прентис? – спросил он, еще улыбаясь от шутки Уокера.
– Отлично, сэр.
– Небось тяжеловато после госпиталя? Молодец, так держать.
Они шли все утро, каждый час делая пятиминутную остановку для отдыха. В полдень они остановились на привал на поляне рядом с дорогой – поляне, где лежали двое убитых немецких солдат, – и достали неприкосновенный запас. Большинство расселось как можно дальше от трупов, но Крупку они, похоже, только развлекали. Он потыкал носком ботинка их в ребра и постоял над ними; потом, найдя в траве возле одного из них солнечные очки, пристроил их на лицо мертвецу, заботливо, как маленькая девочка, играющая с куклой.
– Эй, парни! – крикнул он. – Спорим, ни у кого из вас не хватит духу поесть, сидя верхом на одном из этих ублюдков. Спорим на пять баксов. Ставлю пятерку, что ни у кого не хватит духу.
Никто не откликнулся на его вызов, так что он сделал это сам: уселся на грудь трупа в очках и вскрыл банку с яичным порошком, цветом почти неотличимым от плоти трупа.
Потом они шли весь день. Изредка им попадались амбары и крестьянские дома, судя по виду брошенные, но в основном смотреть было не на что: лишь деревья, да поля, да бесконечно разматывающаяся дорога.
В какой-то момент Прентис поднял взгляд и обнаружил, что рядом с ним бодро шагает красавец Пол Андервуд.
– Эй, Прентис! – сказал Андервуд. – Подарочек тебе. – И сунул ему ручную гранату с выдернутой чекой.
– Господи Иисусе!
Прентис стискивал гранату в трясущейся руке, а Пол смеялся:
– В чем дело? Черт, да она не опасна, пока прижимаешь рычажок.
Тут Прентис понял, что Андервуд, при всей его внешней беззаботности, сунул ему гранату таким образом, чтобы он не смог ее выронить.
– Да, но где чека?
– Никто не знает, и это самое забавное. Ребята весь день передают ее по колонне. Ну, хватит, сейчас я заберу ее. Осторожней.
И Андервуд грациозно удалился искать новую жертву для розыгрыша. Чуть позже Прентис увидел, как он сходит с дороги и рысцой бежит в поле. Отбежал ярдов на сто, остановился, присел на корточки, и Прентис понял, что тот делает: закапывает гранату, обкладывает землей или камнями, и поразился чудовищной необдуманности этого поступка. Что, если крестьянин – или, не дай бог, ребенок – споткнется об этот холмик? Но, с другой стороны, как иначе мог Андервуд избавиться от гранаты? Оставить у себя он, конечно, не мог и бросить подальше – тоже, потому что если враг поблизости, то услышит взрыв. Так или иначе, Прентису было сейчас не до гранаты; все его мысли были сосредоточены на том, чтобы идти, переставлять опухшие, ноющие ноги, одну, потом другую, приноравливая дыхание к ритму шагов. В груди болело, но трудно было сказать, что тому виной: слабые после болезни легкие или тяжесть рюкзака с шестью дополнительными винтовочными гранатами. Откуда, черт возьми, у Андервуда силы, чтобы еще бегать в поле и обратно?
К вечеру, принесшему холодный ветер, многие отстали: колонна превратилась в нестройную толпу, бредущую по всей ширине дороги, и Прентис проходил мимо смутных фигур, сидящих или лежащих на обочине. Видно было, что солдат, шедший прямо перед ним, Уокер, вконец измучен, потому что временами его сносило назад, на Прентиса, но потом он делал усилие и уходил вперед. Но Мюллер, навьюченный больше остальных, держался отлично, и Прентис стал равняться на его равномерно движущуюся пухлую детскую спину. Один раз Мюллер споткнулся и упал, но тут же неуклюже поднялся, опираясь на ствол своего пулемета, как на костыль. При этом дуло, наверно, забила грязь, что, впрочем, не принизило Мюллера в глазах Прентиса. Если уж Мюллер способен держаться, сказал он себе, то и я смогу.
На ночевку они расположились в амбаре, выставив охранение. Большую часть второго взвода отправили на чердак: пришлось лезть наверх по деревянной лестнице, светить себе огоньком спички, спрятанной в кулаке, чтобы устроиться в темноте, зато как потом было приятно вытянуться под плащ-палаткой и заснуть. Прошло то ли несколько минут, то ли несколько часов, и всех разбудил пронзительный визг и взрыв. Вряд ли это было прямое попадание в крышу, но чертовски похоже на то, как и последовавшие за ним три других быстрых взрыва. Еще не успел раздаться второй взрыв, как чердак превратился в сумасшедший дом: все вопят, натыкаются друг на друга, отпихивают, проталкиваясь к лестнице.
– Пропусти меня!..
– Не мешай, черт!..
Спускаясь, Прентис почувствовал под башмаком чьи-то пальцы и услышал вопль; потом чужой ботинок наступил на пальцы ему самому, а приклад чьей-то болтающейся винтовки хрястнул его по голове. Он свалился с середины лестницы, ударился о цементный пол, перекатился на спину, и в следующее мгновение ему на руки тяжело упал другой человек.
– Спокойней! – кричал лейтенант Лумис. – Спокойней, ради бога!..
Потом все закончилось, снарядов больше не было. Но никто не хотел лезть обратно на чердак; народ толпился внизу, где и так было все переполнено, шагу нельзя сделать, чтобы не наступить на руку или на ногу лежащему: то и дело слышались ругательства или вопли. Но наконец все так или иначе сумели улечься, и в амбаре вновь воцарился относительный покой.
Когда где-то после полуночи пришла очередь Прентиса заступать на пост, он наткнулся на троих, пока пробирался к выходу. А когда, отстояв два часа, пялясь во тьму под ветром, бьющим в лицо, и с гудящей от удара прикладом головой, он вернулся, то понял, что не сможет найти прежнее место. Он кое-как пробрался вдоль стены, опустился на колени и ощупал пол. Руки утонули в куче соломы, и он улегся на нее, как на роскошную перину. Рядом оказалась чья-то теплая широкая спина, и он благодарно прильнул к ней. Только когда рассвело, он обнаружил, что спал на куче присыпанного соломой свиного навоза, а спина, к которой прижимался, принадлежала спящей свинье.
«Куда, черт возьми, мы идем? – без конца спрашивали все друг друга на второй день марша. – В чем, черт возьми, дело?» Но к полудню каждый знал, в чем дело. В нескольких милях впереди было три небольших городка. Если они не встретят вражеского сопротивления в первом, то двинутся ко второму, а если и тот городок окажется покинутым, тогда к третьему.
– Такой долгий бросок, и все зря, – сказал кто-то, – они отойдут и разнесут нас в клочья тяжелой артиллерией.
Вскоре они сошли с дороги, чтобы двинуться дальше по открытым полям. Колонна перестроилась и теперь шла широкой цепью в сложном боевом порядке для атаки. Впереди в каждом отделении двое разведчиков, за ними пулеметчик с двумя стрелками по бокам, затем командир отделения, прикрываемый остальными стрелка́ми, и замыкал группу его помощник. Идя так, они приблизились к первому городку, поднялись по откосу свежевспаханного поля: второй взвод во главе роты, а отделение Финна – во главе второго взвода.
– Рассы́паться! – все время командовал Финн. – Шире, не собираться вместе! Рассы́паться!
Осторожно шагая по правую руку от Мюллера, Прентис, держа винтовку у груди, а палец на предохранителе, чувствовал, как его лицо непроизвольно подергивается. В домах впереди прекрасно могли засесть немцы с пулеметами и выжидать, пока маленькие зелено-коричневые фигурки не подойдут ближе; прицеливаются и предупреждают друг друга не торопиться открывать огонь, и сам Прентис – одна из их первых трех или четырех мишеней.
Но ничего не произошло. Подойдя ближе, они увидели, что из окон почти каждого дома торчит белый флаг, а потом навстречу им в поле направилась группа гражданских в черном, высоко поднимая белый флаг. Двое из них, спотыкаясь, побежали к солдатам, крича и размахивая руками. У одного поверх пыльного сюртука висела нарядная нагрудная цепь: видно, мэр городка.
Так что ничего не оставалось, как пройти по улицам городка, на которых всюду валялись брошенные немецкой армией ранцы, каски, даже винтовки, – и проверить наугад отдельные дома на предмет вражеских солдат. Когда они входили в какой-нибудь дом, их окружала толпа жителей: один старик схватил Прентиса за рукав и стал тыкать трясущимся пальцем в грязный документ, подтверждавший, что он гражданин какой-то другой страны, не Германии.
– Кое-кто из этих ублюдков – солдаты, переодевшиеся в гражданскую одежду, – сказал сержант Логан. – Небось переоделись десять минут назад.
Проходя городок, они попали под короткий артиллерийский обстрел, и Прентис оказался в подвале, зажатый между Мюллером и плачущей старухой на полу подвала, но скоро снаряды перестали сыпаться с неба, и снова наступила тишина. Затем настало время двинуться на второй городок, который настолько не отличался от первого, что оба смешались в памяти. К тому времени, как оставили позади второй, они уже валились с ног от усталости. Было только четыре часа дня, но Прентису ничего так не хотелось, как спать. Не хотелось даже есть, пока не поспит, однако стоило ему подумать о еде, как он ощутил зверский голод.
– В третьем городе жди неприятностей, – послышался чей-то голос. – Они там окопались и поджидают нас.
До третьего городка было три мили.
– Рассыпаться! – приказал Финн. – Не собираться вместе! Я сказал: рассыпаться. Прентис!..
Они приближались к третьему городку по лугу, который шел вверх к лесистому гребню горы. Говорили, что городок находится сразу на другом склоне и рота «Б», которая движется где-то справа, должна атаковать его первой. Отделение Финна преодолело меньше трети пути по лугу, как земля содрогнулась от мощного взрыва позади них, – мгновенно обернувшись, Прентис увидел высокий, больше пятидесяти футов, язык пламени, вздыбившейся земли и каких-то ошметков на проселочной дороге, которую они только что пересекли. Это была мина; и среди крутящихся, падающих обломков он разглядел пару автомобильных колес. То был джип – джип ротного вестового, как потом говорили, – и обоих, водителя и вестового, разорвало на куски.
Он подумал: на такую же мину наступил Квинт? Нет, эта, наверное, будет побольше. Но мина – две мины, которые убили Квинта и санитаров, должно быть, взорвались так же кошмарно неожиданно, наполнив воздух тем же горьким запахом судьбы.
– Рассыпаться, немедленно! – вновь скомандовал Финн.
Взбираться на гору было тяжело: мешал густой подлесок и ветки цеплялись за снаряжение, били по лицу. На вершине они осторожно приблизились к краю противоположного склона, и перед ними открылась лежащая глубоко внизу плоскость поля, сотни две ярдов в ширину, а дальше безлесный холм, поднимающийся к тесно стоящим домам городка – городка, в котором не было ни единого белого флага.
Двое разведчиков, Дрейк и Крупка, спрятались в кустах и поджидали Финна, который вышел вперед и принялся размещать своих людей вдоль гребня горы в линию в пяти-десяти ярдах друг от друга. Второе отделение таким же образом рассредоточивалось слева от них, третье оставалось в резерве где-то среди деревьев. Командование взводом расположилось слева, где гребень горы был значительно ниже: глядя на них сверху, Прентис видел профиль Лумиса и еще одну каску, вероятно Коверли. Прямо перед ними, у подножия горы, откуда начиналось поле, стояло небольшое кирпичное здание – электрическая подстанция или что-то в этом роде, – прячущийся за его стеной Пол Андервуд, улыбаясь, обернулся и что-то сказал Лумису.