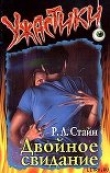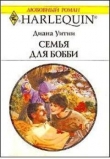Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Разве не вкусно? – сказала Алиса Прентис о мороженом.
– Мм, – отозвался сын.
На обратном пути она качалась, вцепившись в него, – на каждом перекрестке отчаянно стискивала его руку в приступе ужаса, – а едва поднялись в квартиру, налила себе хорошую порцию виски из бутылки, к которой, похоже, прикладывалась весь день.
– Тебе налить, дорогой?
– Нет, спасибо, мне и так хорошо.
– Постель тебе постелена, можешь ложиться когда захочешь. Я так… устала, – она откинула со лба выбившуюся прядку волос, – так устала. Пойду-ка я, пожалуй, лягу прямо сейчас, если не возражаешь. Ты точно не против?
– Нет, конечно не против. Иди ложись.
– Хорошо. А завтра у нас с тобой прекрасное долгое воскресенье. – Она подошла, пахнущая едой и виски, и подняла руки, чтобы обнять и поцеловать. – Ох, как же хорошо, что ты приехал! – Прижалась к нему на секунду и неуверенной походкой, держась рукой за стену, побрела в свою спальню и закрыла дверь, что удалось не с первого раза из-за перекошенного косяка.
Сунув руки в карманы, он побродил по комнате, потом подошел к темному окну и посмотрел на улицу. Вдали, там, где тротуар освещала вывеска гриль-бара, стояли двое солдат, обнимая девушек. Он слышал, как одна из девиц засмеялась, визгливо и бесстыже. Потом кто-то из солдат выкрикнул что-то, вызвавшее смех остальных, обе парочки двинулись по улице и растворились в темноте.
Он расстегнул воротничок, расслабил галстук и тяжело опустился на свою постель – разложенный диван, который исторг облачко пыли. Взял с кофейного столика, на котором чего только не валялось, единственную выглядевшую дорогой и новой вещь в гостиной: альбом с фотографиями его выпускного класса. Переворачивая плотные кремовые страницы, он испытал приятное потрясение, видя знакомые лица; друзья причесались, привели себя в порядок, чтобы позировать школьному фотографу; все выглядели ужасно юными и наивными по сравнению с его однополчанами. Тут были и пожелания ему:
«Удачи на службе, Боб! Рад, что был знаком с тобой. – Дейв».
«Боб, уверен, ты далеко пойдешь, чем бы ни занялся. Всегда буду ценить твою дружбу. – Кен».
Когда он просмотрел альбом, то уже с трудом припоминал, как утром пришлось вставать до света, чтобы надраить свой патронташ перед осмотром, толкаться в вонючем сортире и слышать за спиной требования поторапливаться; как девять часов трясся в автобусе, а потом в поезде, и уже смутно, с чувством вины вспоминал ту лютую молчаливую ярость, что отравила ему обед в «Чайлдсе». Из спальни матери послышалось низкое, с присвистом, медленное, ритмичное похрапывание, и он, с умилением прислушиваясь к нему, разделся и аккуратно повесил форму на проволочную вешалку. Улегшись, он ощутил удивительную свежесть и чистоту простыней и представил себе, как она в обеденный перерыв торопливо бежит с ними в прачечную, готовясь к его приезду, – а то, возможно, даже идет в универмаг «Мейси» купить новые.
Завтра она нежно разбудит его попозже. Они позавтракают кое-как, наспех и отправятся в церковь. Протестантское богослужение, которое она открыла для себя лишь несколько лет назад после целой жизни в язычестве, вызывало у нее слезы («Я всегда плачу, дорогой; ничего не могу с собой поделать. Я вовсе не хочу расстраивать тебя»), а потом, духовно возродившись, они подземкой или автобусом отправятся куда-то навестить людей, которые, предполагается, умирают от желания познакомиться с ним, – тех самых людей, что так удивились: «Алиса Прентис, скульптор?» – и которые, скорей всего, окажутся такими же кроткими, стеснительными и трогательно восторженными, как она сама.
Очень скоро, утром в понедельник, оба они вернутся к суровой действительности – в пехоту и в цех полировки линз, – а пока…
Пока можно было погрузиться в мягкие объятия сна с ощущением надежности и уюта, как в колыбели. Он был дома.
Часть первая
Глава первая
– Взво-од… огонь!
От грохота выстрелов справа и слева заложило уши; он нажал на спусковой крючок и почувствовал, как дернулось под щекой ложе и жестко ударил в плечо приклад; он выстрелил снова.
Они лежали, распластавшись на мокрой траве в горах виргинского Голубого хребта, и стреляли поверх темного, заросшего бурьяном откоса по расположенной в нескольких сотнях ярдов ниже условной вражеской позиции – грубой имитации фанерных фасадов домов, окруженных деревьями. Серые силуэты мишеней появлялись и тут же пропадали в окнах, беспорядочно выглядывали из окопов между деревьями, и Прентис поначалу не особо прицеливался; главное, казалось, было непрерывно стрелять, не отставая от соседей. Но спустя несколько секунд напряжение ушло и появились точность и быстрота. Ощущение было пьянящее.
– Прекратить стрельбу! Прекратить стрельбу! Отойти назад! Всем назад! Второй взвод, занять позицию!
Прентис поставил затвор на предохранитель, поднялся и вернулся с остальными к чахлому костерку, разожженному с таким трудом и теперь изо всех сил цеплявшемуся за жизнь. Он втиснулся в толпу, окружавшую костер, и встал рядом с Джоном Квинтом.
– Ну что, снайпер, думаешь, попал хоть разок? – спросил Квинт.
– Пару-то раз наверняка. Уверен. А ты?
– Черт его знает.
Был последний день недельных учений – кульминации их боевой подготовки. Теперь их в любой момент могли отправить за океан, в европейскую мясорубку, и моральный дух роты был ниже некуда, но у Прентиса вопреки всему поднялось настроение. Доставляло удовольствие сознавать, что он уже шесть дней как не мылся и не менял одежду, что научился чувствовать винтовку продолжением себя и что вместе со всеми участвовал в выполнении сложных тактических задач и, в общем, не сплоховал. По телу пробежала приятная дрожь; он расправил плечи, широко расставил ноги и, протянув руки к дыму костра, оживленно потер ладони.
– Эй, Прентис! – сказал Новак, глядя на него через костер. – Чувствуешь себя крутым, да? Настоящим бойцом?
Со всех сторон послышались смешки, а Камерон, здоровенный южанин, приятель Новака, подхватил:
– Старина Прентис будет что твой тигр, правда? Слава богу, что он на нашей стороне.
Он старался не обращать внимания, продолжая потирать руки и глядя на чахлый огонь, но их надоедливый, снисходительный смех испортил ему настроение.
Во взводе почти все были минимум на пять лет старше Прентиса: кому-то тридцать, а нескольким и под сорок – более грубого и менее доброжелательного сборища он представить себе не мог. Как он, они прибыли в Кэмп-Пикетт из других родов войск – фактически весь этот учебный полк был, как это называется в армии, Центром переподготовки резервистов пехотного состава, – однако его опыт не мог сравниться с их опытом. Если остальные были старослужащие, то у него за плечами было всего шесть недель какой-то детской подготовки, как новобранца Военно-воздушных сил, а потом бестолковый месяц разных работ в так называемом взводе временно прикомандированных. Кто-то был из недавно расформированных зенитных частей, где они годами бездельничали на огневых позициях вокруг оборонных предприятий на Западном побережье; кто-то из охраны артиллерийских или интендантских складов; были тут и служившие ранее поварами, писарями и ординарцами, а также отчисленные из разных офицерских училищ. Многие из них были сержантами или из технического состава и продолжали носить бесполезные здесь лычки, но всех их – каждого сквернослова, забулдыгу, ворчуна – объединяло одно несчастье: пришел конец их длившейся месяцами, а то и годами благополучной тыловой жизни. Теперь они были пополнением действующей пехоты.
И если Прентис тешил себя надеждой, что эти люди станут звать его Боб, или Скелет, или Дылда или у них сложатся приятные товарищеские отношения, как было в авиации, то с этой надеждой пришлось сразу расстаться. Они звали его Малец, или Парень, или Прентис, или вообще никак, и их первоначальное полное безразличие скоро сменилось пренебрежительной насмешливостью.
В самое первое утро, опаздывая на утреннее построение и сонно крутя в руках непривычные солдатские краги, он надел эти чертовы штуки задом наперед, и крючки шнуровки оказались на внутренней стороне щиколоток, вместо того чтобы находиться на внешней; он пробежал всего четыре шага по казарме, и крючок краги на одной ноге зацепился за шнуровку другой, и он как подрубленный грохнулся на пол, растянувшись во весь свой двухметровый рост, – зрелище, которое свидетели потом весь день не могли забыть, корчась от смеха.
С тех пор и пошло. Он был неисправимо неповоротлив в строевой подготовке; не мог выполнить приемы с оружием без того, чтобы позорно не зацепить затвор, открыв патронник; в поле его долговязое непослушное тело подвергалось испытанию на реакцию и выносливость, которое было выше его сил, и он частенько валился с ног от усталости.
А хуже всего, он обнаружил, что не способен спокойно относиться к своим неудачам. После каждой унизительной оплошности он набрасывался с крепкой руганью на этих хохочущих ублюдков, пытаясь их уничтожить их же собственным оружием, и в результате падал еще ниже в их глазах. Плохо быть безнадежным недотепой, однако еще хуже, если ты к тому же хам-молокосос; но когда он малость пообтесался и матерщина служила не только выходом его злости, а стала чем-то вроде наглой и убогой манеры выражаться, свойственной какому-нибудь испорченному богатому юнцу, – это уже было чересчур.
А потом однажды утром, после отработки приемов штыкового боя, когда роту отвели в душное дощатое строение на еженедельные занятия по опознаванию и оценке объекта, он нашел способ изменить свою судьбу. Занятия были, как всегда, сплошная скука: сперва документальный фильм, один из оглушительного сериала «За что мы сражаемся»,[5]5
«За что мы сражаемся» – семисерийный документальный фильм, созданный по заказу американского правительства для американских солдат перед отправкой их в Европу во время Второй мировой войны. Большая часть серий была снята Фрэнком Капрой в качестве прямого ответа на пропагандистский фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли».
[Закрыть] где доходчиво рассказывалось о злодеяниях нацистской Германии; после фильма скучный младший лейтенант скучным голосом растолковывал то же самое, после чего настало время вопросов.
Солдат, сидевший через несколько человек от Прентиса, встал, чтобы задать вопрос, – спокойный бывший артиллерийский снабженец из Айдахо, которого он иногда замечал с трубкой во рту в почтовой библиотеке и которого звали Джон Квинт, – он заговорил, и Прентис слушал его затаив дыхание.
– Я бы, сэр, не согласился с кое-какими моментами в фильме, который мы только что просмотрели. На деле это вещи, которые то и дело возникают в армейской программе идеологической подготовки, и я считаю, будет полезно рассмотреть их чуть более внимательно.
Поразило не то, что именно он говорил, хотя все это было интересно и умно, а его удивительно свободная и уверенная манера держаться. Перед ними был человек не старше двадцати четырех – двадцати пяти лет, в очках, да еще с отстраненным лицом, чей язык и четкое произношение свидетельствовали о его «культурности», – и без малейшей уступки им, без единого намека на снисходительность, он заставил каждого безмозглого амбала в аудитории внимательно слушать себя. Он даже шутил, отнюдь не опускаясь до грубого солдатского юмора, но сказал пару городских тонких острот куда как выше, по мнению Прентиса, их понимания. Заложив большие пальцы за ремень, вежливо поворачиваясь от одной части аудитории к другой, поблескивая очками, спина еще темная от пота после махания штыком на плацу, он говорил, вставляя такие словечки, как «абсурдный», «коррумпированный», чем доказывал, что не обязательно солдату быть вахлаком.
Когда он закончил и сел, раздались жидкие хлопки.
– Да, – сказал лейтенант. – Спасибо. Думаю, вы очень хорошо изложили свое мнение. Есть еще вопросы?
Вот, собственно, и все, что произошло, но этого было достаточно, чтобы Прентис по-новому взглянул на свои страдания. К черту детский вздор насчет того, нравится он или не нравится, считают его за своего или нет. Все, чего ему теперь хотелось, – это, помимо овладения основными солдатскими навыками, быть таким же умным и убедительным, как Квинт, таким же независимым в суждениях, как Квинт, с таким же презрением переносить унижения армейской жизни, как Квинт, и хотелось хотя бы познакомиться с ним поближе.
Но тот, кто был всеобщим посмешищем, едва ли мог подружиться с единственным во взводе интеллектуалом – по крайней мере быстро. Тут надо было действовать очень осмотрительно и не слишком явно, не переусердствовать.
Он взялся за дело в тот же вечер, когда вразвалочку подошел к койке Квинта перекинуться парой слов, но был осторожен и отошел прежде, чем у того могло возникнуть малейшее подозрение, что он набивается в друзья. Несколько вечеров спустя он увидел Квинта читающим в библиотеке, но решил, что лучше будет отложить новый разговор до другого раза, хотя постарался, чтобы Квинт заметил название довольно заумной книги, какую он выбрал, если посмотрит в его сторону, когда будет проходить мимо него к столу выдачи. По счастью, потом у роты начались недельные занятия на стрельбище; каждое утро колонна затемно отправлялась на девятичасовые стрельбы по мишеням, так что за день там предоставлялось много возможностей для неторопливого разговора. Случались перерывы на целых полчаса, когда было нечего делать, кроме как ждать своей очереди на огневом рубеже, и даже больше – на обед, который доставляла полевая кухня. Прентис использовал большинство этих возможностей; скоро он и Квинт, будто само собой, уходили на перерыв вместе. Потом, когда рота расположилась биваком, они устроили себе совместное укрытие, разделив тесную, сырую, неудобную двухместную походную палатку, в которой оба подхватили бронхит.
К этому времени они сблизились, став как бы членами одной несчастливой семьи, но Прентис понимал: их еще нельзя назвать друзьями, тем более задушевными. Они даже внешне были слишком разные: Прентис по крайней мере на девять дюймов выше ростом, с маленьким глазастым лицом, на котором еще ясно читалась откровенная жажда похвалы; Квинт плотного сложения и неизменно хмур.
Когда они устало тащились колонной по двое, с полной выкладкой, пять миль обратно в казармы, Прентис не решался заговаривать первым. Начинать разговор должен был Квинт, и по крайней мере две с половиной мили остались позади, прежде чем тот произнес:
– Клемы.
– Что?
– Просто вспомнил, как я однажды пообедал в Сан-Франциско. – Квинт пошатнулся от усталости, поправляя ремень винтовки. – Лучший, черт возьми, ресторан, в каком я побывал за свою жизнь, только вот не могу вспомнить, как он назывался. Пробовал когда-нибудь клемы? На створке?
Скоро они втянулись в обещавшее стать долгим, мечтательное обсуждение абсолютного, совершенного обеда – обеда, какой они устроят после войны в лучшем в мире чертовом ресторане. Для начала клемы, а следом лучший суп, который Квинт когда-либо пробовал.
– Годится, – согласился Прентис, – а потом что? Бифштекс, наверно, или большой кусок ростбифа с…
– Нет. Минутку, Прентис, не торопись с ходу набивать брюхо. Ты совсем забыл о рыбе.
– Я не прочь.
Они принялись обсуждать, что закажут из рыбы, и все, на что Прентис был способен, – это умерить голос и хихикать от удовольствия, как девчонка.
– Итак, мы сошлись на филе палтуса, правильно? – сказал Квинт. – Отлично, пора поговорить о главном блюде. И слушай, не будем торопиться с бифштексом или ростбифом – есть много чего другого. Подумаем минутку.
Прентис задумался и, пока думал, вновь по ужаснейшей своей привычке задел носком башмака каблук идущего впереди капрала Коннора, бывшего инженера, которому, как он часто и громогласно всем жаловался, Прентис наступал на пятки каждый чертов раз, когда шел в строю позади него. А поскольку Прентис уже знал, что никакие извинения на Коннора не действуют, оставалось защититься только тем, что мрачно изобразить из себя идиота, когда Коннор обернулся и сказал: «Черт, Прентис, ты когда-нибудь будешь смотреть себе под ноги?» Шагов десять-двенадцать они прошли молча, пока Прентис думал, когда можно будет продолжить разговор об идеальном обеде.
Молчание, что было приятно, нарушил Квинт.
– Если вдуматься, – сказал он, – ты, пожалуй, прав, Прентис. Нет ничего лучше бифштекса. Так давай возьмем по филе миньону средней прожарки, с кровью. А что к нему? Картофель фри – это само собой, я об овощах. Или предпочитаешь овощи отдельно – салат?
– Правильно. Так и сделаем. Возьмем большую порцию сала…
Тут он, злясь на себя, снова наступил на пятку Коннору. Но тот еще не успел обернулся и сказать свое: «Прентис, да будешь ты, черт, смотреть себе под ноги?» – он еще не сказал это, как Прентис увидел впереди странную суету. Далеко впереди, там, где шел капитан, люди пригнули головы, рванули рысью назад и, похоже, срывали с себя каски. Некоторые из тех, кто был ближе, останавливались и начинали корчиться, как от боли; затем, прежде чем он сообразил, что к чему, под ноги ему в дорожную пыль упало что-то маленькое и непонятное и негромко взорвалось – бум! – глаза и горло ожгло как огнем.
Он не мог ни видеть, ни дышать. Скрючился, схватился за глаза, винтовка съехала с плеча и повисла на локте.
– Не останавливаться! – раздалась команда. – Не останавливаться!..
Споткнувшись и получив сильный толчок в спину, он потерял равновесие, грохнулся на дорогу и покатился, задрав ноги, – и только потом вспыхнула первая ясная мысль: «Слезоточивый газ!»
Он мучительно долго ползал на четвереньках, ища откатившуюся каску и соображая, что делать, прежде чем рванул правой рукой парусиновую сумку, которая неделями болталась у него под мышкой слева, и выхватил болтающуюся резиновую маску противогаза.
– Не останавливаться, солдаты!..
Вспомнив, как их учили пользоваться противогазом, он одной рукой схватился за хобот, выдохнул что было сил, одновременно натянул маску на голову, забрызгал ее внутри, безудержно кашляя, открыл глаза и начал различать мир сквозь запотевшие пластиковые стекла. Каска валялась на дороге, подшлемник отдельно. Он подобрал их, вложил подшлемник и тут обнаружил, что колонна вся распалась; вокруг все корчились, шатались, теряли каски.
– Продолжать движение!..
Далеко впереди – казалось, невероятно далеко – голова колонны шагала, по-прежнему сохраняя строй, и последним в той группе тащился Квинт, будто ничего и не произошло. Прентис бросился вперед с винтовкой наперевес, стараясь сдержать подступающую тошноту, чтобы его не вырвало прямо в маску, которая пахла плесенью и резиной и собственным его дыханием. Они прошагали еще ярдов пятьдесят, когда прозвучала команда:
– Проверка на газ!
Он отлепил от щеки хлюпающую резину и глотнул благоуханного свежего воздуха.
– Снять противогазы!
Наконец-то лицо было свободно, и он затолкал противогаз обратно в сумку, как извивающуюся змею. Затем прозвучала команда остановиться, и на поляне, в стороне от дороги роту снова построили по отделениям и взводам; капитан, поднявшись на скользкий от сосновых иголок пригорок, обратился к строю.
– Вольно! – скомандовал он, вытирая щеки носовым платком цвета хаки. Капитан был худ, суров, с орлиным носом, участник боев в Анцио[6]6
В Анцио, в 30 милях от Рима, высадившиеся англо-американские войска удерживали плацдарм с января по май 1944 г.
[Закрыть] и, как говорили, тот еще сукин сын. – Кто был в засаде, будьте любезны выйти из строя.
Те уже шагнули вперед, четверо немолодых кадровых служащих из Кэмп-Пикетта во главе со старшим сержантом в выгоревшей почти добела форме. Они полдня провели в засаде, поджидая роту, готовые бросить гранаты со слезоточивым газом и оценить действия солдат. Теперь задание было выполнено, и им не терпелось вернуться в гарнизон к ужину.
– Сержант, – сказал капитан, – доложите вашу оценку.
– Оценка не слишком высокая, сэр. Сильная неразбериха и замешательство, когда гранаты взорвались, – я бы сказал, больше, чем обычно. Ваши люди долго соображали, что происходит. Многие просто стояли согнувшись, многие потеряли каски. Один, я видел, помчался сломя голову… – при этих словах послышались сдавленные смешки, и голос произнес: «Прентис», – так вот, один куда-то помчался сломя голову, не надев противогаза. Головная часть колонны, где были вы, справилась очень хорошо; они продолжали идти строем, но в целом, сэр, должен доложить, было неважно.
– Благодарю.
Капитан старательно высморкался. Глаза у него все еще были красные и слезились, и, прежде чем заговорить, ему пришлось основательно прокашляться.
– Хотел бы я знать, – начал он, – хотел бы я знать, понимаете ли вы, что, будь это боевой газ, больше половины из вас были бы сейчас мертвы или умирали. Подумайте над этим. Хорошенько подумайте. Очень скоро вы пойдете в бой. Нам известно, что противник вряд ли применит газ, но в одном можете быть точно уверены. Вы можете точно быть уверены, что враг будет применять тактику нападения из засады, использовать фактор внезапности всякий раз, когда это отвечает его целям. Это значит, что вам следует научиться быть всегда начеку, и научиться чертовски быстро.
Он спрятал платок и выпрямился во весь рост.
– Мне не требуется напоминать, что все вы призваны из запаса. Я отлично знаю, что на вашу подготовку отведено шесть недель вместо минимум шестнадцати, положенных для обучения бойца. Если кому-то из вас кажется, что так не годится, я с ним соглашусь. Никуда не годится. Но просто предупреждаю вас. Просто предупреждаю, что враг не делает скидки на это. Я все сказал.
Снова их построили в колонну по двое, и вскоре они шли походным шагом дальше да терли на ходу глаза, лицо и шею, которые им словно настегали крапивой. Прентис все свое внимание сосредоточил на пятках Коннора, но изредка косился на профиль Квинта под неровной тенью каски. Заметил ли Квинт, как он бросился к нему сломя голову? В колонне возобновились разговоры, но он долго молчал, пока не почувствовал, что можно вернуться к прерванной теме.
– Квинт?
– Что?
– А как насчет десерта?
– Что?
– Я говорю, что лучше взять на сладкое?
– Черт, вот ты о чем. Не знаю. Давай не будем сейчас об этом, и постарайся быть внимательным.
В гарнизоне, когда они стояли в ожидании команды разойтись по казармам, старшина объявил, что через пятнадцать минут состоится построение на торжественный спуск флага; в ответ раздались стоны и проклятия. Прентис присоединился к общему недовольству солдат, которые, сломав строй, гурьбой бросились к казармам, но сделал это лишь для видимости. По правде, в чем он не смел себе признаться, он ничего не имел против подобных церемоний. Даже против сегодняшнего возмутительного случая, когда не оставалось времени, чтобы ополоснуться под душем и переодеться. Пятнадцать минут на то, чтобы скинуть пропотевшие снаряжение и повседневную форму, грязным влезть в парадную: шерстяные брюки и рубашку цвета хаки, надеть галстук, китель с медными пуговицами, чистые ботинки и пилотку; достать из ранца патронташ, отомкнуть штык и прицепить в ножнах к поясному ремню; подтянуть потуже винтовочный ремень, наскоро протереть винтовку (после ужина придется чистить ее основательно), и если еще останется время, то, как всегда, счистить засохшую грязь с ремня, прежде чем надеть его и застегнуть. Ну и потом команда:
– Разойдись!
Мрачные и потные, в недельной грязи под покалывающей чистой шерстяной формой, они снова построились на улице, раздались команды: «Равняйсь! Смир-но! Вольно!» В каждом взводе лейтенант и сержант – заместитель командира взвода, глухо переговариваясь, перестраивали своих людей по росту, и это всегда означало, что Прентис, к тайному своему удовольствию, будет, как самый высокий, правофланговым в первой шеренге. Затем из комнаты комбата торопливо вышла группа командиров, чтобы занять свои места во главе роты: капитан (выглядевший щеголем в своей темной, пошитой на заказ форме, с блестящими планками боевых наград на груди), старший помощник и ротный старшина; вместе с ними появился Квинт, в руках флаг на длинном древке – ярко-синий флаг пехоты с эмблемой в виде белых скрещенных винтовок, с обозначением роты и номером полка.
– Кто-нибудь из старослужащих знает, как обращаться с флагом? – обратился ротный старшина к новому составу в первый их день в учебном центре.
Полдюжины человек в строе вяло отозвались, и был выбран Квинт. Он хорошо справлялся: уверенно держал древко и в положении «вольно», и в положении «смирно», и на марше; он знал, как и когда, салютуя, резко опустить флаг строго параллельно земле и как вновь поднять его, хлестко и четко, чтобы древко не дрогнуло.
– Ро-та! – скомандовал капитан, и следом каждый взводный, как эхо, повторил команду: – Взво-од…
– На пле-чо! Правое плечо-о – вперед! Напра-во! Шагом – а-арш!
И вслед за знаменосцем рота двинулась по улице, повернула направо и пристроилась в хвост двум другим ротам батальона ровно в тот момент, когда ударили барабаны полкового оркестра, поджидавшего на перекрестке с ассистентами знаменосца. И батальон в полном составе направился на учебный плац, а оркестр, шагая следом, сменил барабанную дробь на музыку. Играли они, что маршируя на плац, что обратно, всегда одно и то же: «Марш полковника Боуги»,[7]7
«Марш полковника Боуги» – военный марш, написанный в 1916 г. майором Кеннетом Элфордом и ставший знаменитым после того, как прозвучал в фильме Дэвида Лина «Мост через реку Квай» (1957).
[Закрыть] и усталый хор позади Прентиса негромко подпевал всегда одно и то же:
У Гитлера
Одно яичко:
У Геринга —
Их два, но как у птички…
На плацу батальон застыл по стойке смирно перед комбатом, низеньким румяным майором, которого они видели всегда только с расстояния и на плацу, как сейчас. Далеко позади него, вдоль противоположного края площадки, в ожидании прохода войск расположились командир полка и его заместители; еще дальше, за флагштоком, на подернутом дымкой склоне невысокого холма среди сосен обычно собиралось множество гражданских машин и толпы женщин и детей – это семьи офицеров приезжали перед ужином посмотреть на парад. Оркестр смолк, и в резко наступившей тишине маленький майор, откинув голову, заорал: «Батальон! Слушай мою команду!» И, вопя команды с такой силой, что казалось, его побагровевшая шея того гляди лопнет, он заставил их выполнить полную программу ружейных приемов.
Никто этого не заметил, но Прентис действовал очень четко. Ни разу не сбился с шага, осанка его была безупречна, глаза, как должно, устремлены вперед; приемы он выполнял с такой быстротой и точностью, как ему никогда не удавалось на улице перед казармами, где это было куда важней, и он испытывал при этом гордость мастера, делающего свое скромное дело не хуже остальных. Ему хотелось красиво смотреться в глазах женщин и детей на холме.
Наконец последний прием был исполнен, последовала долгая пауза, когда они стояли совершенно неподвижно, пока не раздалась команда «смирно», в отдалении горнист заиграл вечернюю зорю, и первые, замысловатые ноты прозвучали в полной тишине.
– На кра-а-ул!
Все винтовки взлетели на уровень груди, флаги рот склонились к земле, майор круто повернулся к начальству, одновременно отдавая честь, горнист перешел к более простой и меланхоличной части мелодии, и флаг на флагштоке пополз вниз.
Затем наступило время торжественного марша. Оркестр вновь грянул, оповещая весь штат Виргиния о физическом недостатке Гитлера; знаменосец повел оркестр с плаца, роты с винтовками на плече пошли за оркестром. Впереди был левый поворот, а затем сложный заход правым плечом вперед – долгий момент, когда они маршировали мимо группы командиров, держа равнение направо, и каждый изо всех сил старался не выбиться из строя; потом последовала команда «равнение прямо», еще раз – «налево», и наконец все закончилось.
Осталось только выйти на свою улицу и вернуться к казармам. На перекрестке музыка быстро стихла, когда оркестр свернул на свою улицу; затем отделились и другие роты, пока не осталась одна, марширующая под отдаленную дробь барабанов.
Кто-то пробурчал: «Муштруют, как сопливых дерьмовых бойскаутов», а другой прошелся насчет игр в оловянных солдатиков. Скоро недовольный ропот и горький смех охватили всю колонну, так что ротный старшина вынужден был обернуться и проорать: «Эй там, позади, полегче!»
Но среди негодующих голосов не слышно было голоса рядового Роберта Дж. Прентиса. В наступающей тьме он даже без оркестра шел, чеканя шаг, с серьезным лицом, взгляд устремлен вперед, на высокое развевающееся синее знамя пехоты.