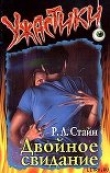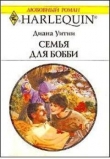Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Ричард Йейтс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Маленькое кирпичное строение явно имело какое-то отношение к железной дороге, хотя, устраиваясь спать на замусоренном полу холодного темного помещения, они не могли разглядеть его в подробностях. Один раз Прентиса разбудили, чтобы он занял пост снаружи у дверей, и, вернувшись, он заснул, и сон был таким глубоким и спокойным, что казалось, он проспал много часов. Потом раздался голос Бернстайна:
– Прентис? Не спишь?
– Нет. – Он вскочил на ноги.
– Хорошо. Тогда пошли.
И Бернстайн подвел его к старому бюро с выдвижной крышкой, на столешнице которого горели две свечи.
– Часы у тебя есть? Отлично, сделаем так: ты недолго подежуришь, чтобы я мог поспать. Сейчас половина первого. В половине второго разбудишь Корниша, чтобы он сменил часового у входа. Понял?
– Так точно.
– В два часа поднимешь всех, в это время мы должны идти на угольную гору. О’кей?
– О’кей.
Прентис сел на вращающийся стул у бюро.
– А если кто придет оттуда раньше времени, жаловаться, что их не меняют, – продолжал Бернстайн, – скажи, что у тебя приказ придерживаться этого расписания. До двух часов мы никого сменять не собираемся.
– Ясно.
Он остался один, и от тишины, покоя и мягкого света свечей его стала одолевать дремота. Он хотел было опустить голову на столешницу, но решил не рисковать. Вместо этого снял с запястья часы, положил перед собой и уставился на секундную стрелку, ползущую по циферблату.
Прошло немного времени, и из тени возник Бернстайн.
– Все в порядке, Прентис?
– В порядке.
Бернстайн сел на другой стул возле бюро.
– Что-то не удается уснуть, – сказал он. – Посижу, пожалуй. Можешь идти досыпать, если хочешь.
– Нет, я тоже посижу.
Вскоре они уже беседовали, как старые друзья.
– Ты не очень-то ладишь с Финном, да? – спросил Бернстайн.
– Да, не очень.
– Меня это не удивляет. Финн не слишком умен. Я вижу, он не знает, что делать с такими, как ты.
– Что вы имеете в виду?
– Ну, ты человек несколько необычный, тебе не кажется? Почему, как считаешь, я выбрал тебя?
– Я думал, это случайно.
– Нет, не случайно. В сущности, мы с тобой схожи, Прентис. Мы люди с интеллектом, но это не тот интеллект, который в армии способны оценить. Если бы в армии оценивали по уму, люди с мозгами, как у тебя или у меня, были бы офицерами. Я часто думал над этим. Возьми, к примеру…
Внезапно кто-то схватил его за руку и сильно дернул, отчего он развернулся на стуле, – это был Крупка, насквозь мокрый и черный от угольной пыли, и Крупка орал на него:
– Прентис, урод, в чем дело? Где наша поганая смена?
Прентис вскочил и заорал в ответ, чувствуя свою чрезвычайную власть:
– А ну придержи язык, Крупка. Смена будет, когда я скажу. У меня на этот счет особый приказ…
Только тут, страшно медленно, он начал различать действительность и сон. Крупка был реален, свечи тоже реальны, таким же реальным было время на часах – 2:35, как бесспорно реальным было появление полусонного Бернстайна, вопрошавшего:
– Что, что происходит?
Значит, беседы на самом деле не было. Она происходила лишь в его голове, а, как он понял теперь, его голова до того самого мгновения, когда Крупка дернул его за руку, лежала на столешнице.
Всю остальную ночь, промокший и продрогший на вершине угольной горы, он содрогался от ненависти к себе так, что под ним скрипели куски угля.
Но это было его последним и тягчайшим унижением. Какие бы ошибки он ни совершал после этого случая, им милосердно не придавали значения; если он и оставался худшим солдатом в отделении, то по крайней мере этого не замечали. А вскоре одним памятным утром бремя неудачника перешло с него на Уокера.
Они шли всю ночь. Шли, избегая дорог, во тьме по местности, которая, как мрачно сказал им капитан Эгет, была вражеской территорией («Замечу, кто чиркнет спичкой, пристрелю на месте!»). Они шагали, сохраняя полную тишину, у каждого к правому плечу была прикреплена белая полоска бинта, чтобы идущий позади знал, куда идти. К рассвету они достигли пункта, отмеченного на карте Эгета, и большая часть второго взвода разместилась в теплом чистом крестьянском доме, где хозяйка согласилась согреть им воду для кофе, а потом и чтобы помыться и побриться. Но скоро они опять шагали по полям, и было ясное утро, понизу стелился туман, свежий воздух по-зимнему пощипывал отмытые лица. Впереди показались окраины городка, путь к которым лежал через болото среди множества низких пригорков, так густо заросших кустарником, что невозможно было идти широкой цепью: каждое отделение продвигалось гуськом, оставляя между пригорками мокрые тропы. Белый, сырой туман был столь густ, что в пяти ярдах не было ничего видно, и всякий силуэт, появлявшийся впереди, – дерева, куста или сарайчика, – казалось, таил в себе опасность. Когда они вышли на более высокое место, справа возникло огромное прямоугольное пятно, и едва стало ясно, что это амбар, как тишину на левом фланге разорвала пулеметная очередь.
Все бросились на землю, стараясь укрыться за неровностями почвы; где-то впереди раздались ответные винтовочные выстрелы. Кто-то слева командовал: «Огонь! Огонь!» – и Прентис подумал, что, наверно, надо поднять винтовку и стрелять; но куда? Отделение Бернстайна скрылось в тумане где-то слева, там же и третье отделение. Стрелять все равно, рискуя попасть в своих?
– Эй, парни, не стреляйте… погодите открывать огонь! – крикнул где-то рядом за спиной Сэм Рэнд, так что сомнения разрешились: можно было просто спокойно лежать. Прямо перед глазами торчали увеличенные, как в окулярах бинокля, подметки и зад Уокера.
Затем донесся голос Финна: «Вперед! Отделение… за мной!» Башмаки Уокера дернулись. Он вскочил и, пригнувшись, побежал, широко забирая вправо, под укрытие амбара. Прентис побежал следом, Сэм Рэнд за ним, и, только завернув за угол амбара, они увидели, что их лишь трое, остальное отделение исчезло.
– Что за черт? – крикнул Рэнд. – Где Финн? Уокер, ты за кем побежал?
Широкое, задыхающееся лицо Уокера виновато сморщилось.
– Я думал, он это имел в виду, Сэм. Что нужно забежать за амбар.
– Почему ты так решил?
– Ну, я… Господи, Сэм, сам не знаю.
– Проклятье! Как мы, черт побери, найдем их теперь? Куда они побежали: прямо, или налево, или еще куда?
Они были в безопасности, пока прятались за амбаром, но Сэм Рэнд не дал им долго стоять там. Сперва послал Прентиса назад, но мгновенно опять заработал пулемет, и дождь штукатурки, посыпавшейся в футе над его головой, дал ясно понять, что стреляют по нему. Он бросился ничком на землю и как сумасшедший пополз сквозь кусты обратно. Тогда Сэм сказал:
– Ладно. Попробуем по-другому, делать нечего.
Он повел их к другому углу амбара, и они стояли наготове, сомневаясь, выходить ли на открытое место, когда вновь поднялась стрельба: тарахтение пулемета и ответные выстрелы винтовок и «брауна», которые, казалось, раздавались с разных сторон; и внезапно, после одиночного взрыва ручной гранаты, наступила тишина. Затем послышались крики:
– Кончай ублюдка!
– Вон он!
– Kamarade…
– Нашел товарищей, мать его! Кончай ублюдка…
Сэм махнул, но не в сторону открытого места или криков, а крестьянского дома, оказавшегося теперь, когда туман рассеялся, совсем близко и где виднелись поднимающиеся с земли фигуры Финна и остальных из их отделения.
– Черт бы тебя подрал, Прентис! – закричал Финн. – Где ты был?
– Я… слушай, Финн, я ни в чем не… мы были за…
Но тут ему на помощь пришел Сам Рэнд:
– Он ни в чем не виноват, Финн. Это Уокер повел нас за амбар.
Финн перевел прищур на Уокера:
– На кой черт ты это сделал?
– Я… Финн, мне показалось, ты туда…
Прентис наслаждался, наблюдая за унижением Уокера, и чем дальше, тем больше. Весь тот день и следующий, когда казалось, что Уокер окончательно попал в опалу.
Несколько дней спустя обоим, Уокеру и Прентису, выпал шанс искупить былые грехи: капитан Эгет искал добровольцев для особого патруля.
– Я иду, – сказал Финн, обращаясь к своему отделению. – Кто со мной?
– Ну уж нет, – заявил Крупка. – Добровольцем? Когда эта поганая война практически кончилась? Ты, Финн, можешь искать приключений на свою голову, но меня уволь.
Кроме Финна, единственными, кто вызвался еще, были Уокер и Прентис; вместе с Финном они присоединились к восьми или десяти другим добровольцам в штабе роты, чтобы торжественно выслушать инструкции капитана.
– Так, хорошо, – сказал он, стараясь сосредоточить разбегающиеся глаза на группе, а те стали смущенно переглядываться, начиная понимать, что капитан пьян. – Вот что мне нужно от вас. Чтобы вы прошли через тоннель под путями, свернули налево и продолжали идти, пока не встретите фрицев. Нам известно, что фрицы там, но не знаем, сколько их и как они далеко. Вам предстоит это выяснить. Кто из вас старший по званию?
– Наверно, я, сэр, – ответил здоровенный бородатый старший сержант из первого взвода по фамилии Коварски.
– Хорошо. Сержант Коварски будет у вас командиром. Есть вопросы, Коварски?
– Сэр, это разведка местности?
– Какого черта, нет, это не разведка местности. Или ты думаешь, мы на маневрах? Это разведка боем. Когда наткнетесь на фрицев, они будут стрелять, а вы будете обязаны отвечать. Иначе как, черт побери, узнаете, сколько их?
– Сукин сын, – пробормотал кто-то, – ничего себе разведка.
Но все кончилось, не успев толком начаться. Они прошли по тоннелю едва сотню ярдов, как Коварски остановился и собрал всех для собственного совета.
– Не знаю, как вы, ребята, – сказал он, – но лично я ни за что не вызвался бы, знай, что Эгет пьян. Считаю, что мы в полном праве откосить от такой разведки. Есть кто несогласный?
Несогласных не нашлось.
– Тогда слушайте. Дойдем только до тех вон деревьев. Заляжем, постреляем в ту сторону, и все. Потом смоемся, не важно, будет стрельба в ответ или не будет. Я доложу, что задание выполнено, но все чтобы держали рот на замке. О’кей?
Так они и поступили, лишив Прентиса и Уокера возможности проявить героизм; а капитан Эгет выслушал лживый доклад Коварски с таким видом, будто у него башка трещит с похмелья и единственное, чего он жаждет, – это проспаться часок-другой.
Настало время, когда дни и ночи настолько полнились слухами, что не одна, так другая история вполне могла оказаться правдой. Почти ничему нельзя было верить: ничто не могло поразить в мутном потоке ежедневных событий. Одни говорили, что на севере Девятая армия уже заняла предместья Берлина, другие – что она находится на сотни миль западнее. И до сих пор не было ни подтверждения, ни опровержения слуху, ходившему несколько дней, о смерти президента Рузвельта. «Хорош, остановимся здесь», – под вечер одного теплого дня скомандовал взводу сержант Лумис, дойдя до стены, испещренной оспинами от шрапнели. В тот день они прошли деревню и большое открытое пространство без единого признака присутствия вражеских войск, но теперь стало ясно, что немцы во множестве окопались на склоне высокого крутого холма, который поднимался за лежащим впереди более крупным городком. Кроме того, было похоже, что в этот день они впервые за всю кампанию могут сойтись с врагом в рукопашном бою. Но Прентис слишком устал, чтобы чувствовать возбуждение или страх, и, взглянув на окружающие его лица, пыльные, потные, с почерневшими губами, увидел, что остальные тоже равнодушны к предстоящему.
– Это, для разнообразия, будет серьезное дело, – сказал Лумис. – На сей раз столкнемся с крупными силами.
Он как мог старался воодушевить подчиненных, но воспаленные глаза, губы в черной корке грязи свидетельствовали о том, что он измучен не меньше других. В кои-то веки он, должно быть, почувствовал, как и остальные, что его слова звучат словно в кино.
– Перед тем как нам идти в атаку, будет мощная артподготовка, но они там зарылись в землю будь здоров, так что самая тяжелая часть работы ложится на нас. На холме всяк будет за себя, и я не хочу видеть, чтобы вы валились на спину и верещали со страху, боясь применить оружие. Я все сказал. Есть вопросы?
И они продолжили утомительный путь по крутым, увешанным белыми флагами улицам городка, глядя вперед, где высился голый бурый холм, освещенный предвечерним солнцем. Все казалось каким-то нереальным.
На выходе из городка им разрешили сделать короткий привал. До начала артподготовки было еще полчаса, и им ничего не оставалось, как ждать. Отделение Финна, угрюмое и измученное, уселось в ряд, прислонившись спиной к оштукатуренной стене дома, смотрящего вниз на улицу, по которой они поднялись, и сидело молча, пока Сэм Рэнд не вытащил блестящий автоматический «люгер», который он снял с пояса пленного немца в предыдущей деревне.
– Ух ты! – восхитился Уокер. – Отличная вещь, Сэм. Не против, если взгляну поближе?
И он потянулся через колени Крупки, Браунли и Прентиса, а Сэм протянул ему пистолет, и в тот миг, когда пистолет переходил из рук в руки, мир обрушился.
Это был американский снаряд, выпущенный на полчаса раньше условленного срока и не долетевший пятисот ярдов до цели; он врезался в дом в шести футах над их головами. Позже кто-то говорил, что снаряд попал в дом рикошетом от улицы внизу, кто-то – что напрямую. В тот момент они были потрясены, ослеплены, оглушены, вскочили, заметались в панике, наталкиваясь друг на друга, теряя каски, прыгая в разные стороны.
Прентис ткнулся головой в Уокера, отскочил, завернул за угол дома и налетел на высокую сетчатую ограду курятника. Развернулся и бросился вниз по улице вслед за неистово несшимся Крупкой; сзади бухали чьи-то шаги. Второй снаряд бросил его на землю, и он лежал, извиваясь на тротуаре, словно пытаясь закопаться в него. Когда он поднял голову, Крупка исчез. В десяти ярдах от того места, где он только что был, валялась кучка зелено-коричневого тряпья, и только потом он понял: это все, что осталось от Крупки. Потом раздался третий взрыв, четвертый. Короткий промежуток тишины, последовавший за этим, наполнил пронзительный рыдающий фальцет, который, как он теперь сообразил, слышался уже несколько секунд, и он поднял голову посмотреть, кто так вопит. Это был лейтенант Коверли, который бежал по улице, взмахивая руками. За ним, пригнувшись, мчался Лумис, крича: «Ложись, Коверли, ложись!» Новый взрыв, еще один. Прентис уткнулся лицом в ладонь и что есть мочи прижался к канаве, в которой лежал. В голове стучало: «Теперь хотя бы не придется брать холм; теперь хотя бы не придется брать холм». Он лежал, скрипя зубами и закрыв глаза рукой, а земля ходила ходуном от разрывов снарядов.
Глава третья
Для роты «А» война закончилась в последний день апреля, когда их отвели с передовой и несколько бесцельных дней продержали в окопах под дождем. Потом отвезли на грузовиках в городок, уцелевший от бомбежки, и разместили в сухих, отличных домах, где не гулял ветер; и, находясь там, они узнали, что немецкие войска капитулировали по всей Европе. После нескольких ночей пьяного ликования и откровенно вызывающего «братания» с местными девушками вопреки запрету вступать в связь с женским населением, их перевели в еще лучшее местечко – маленький, солнечный городок Киршпе-Банхоф, где они должны были охранять тысячу только что освобожденных русских, в свое время угнанных в Германию. Военная администрация союзников разместила русских в лучшем жилом районе городка: аккуратных двухэтажных домах на холме, вдали от частично разбомбленной фабрики по производству пластмассы, единственного промышленного предприятия в городке. Отделения второго взвода посменно круглые сутки обходили симпатичные улочки, их встречали счастливые улыбки людей, махавших им из всех домов; иногда их окружали мужчины и ласковые женщины, жали руки, угощали самогонкой, пели под гармонь русские песни, приглашая подпевать. И каждую ночь, если хватало смелости сойти с маршрута, рискуя, что сержанты на патрульных джипах обнаружат их отсутствие, запросто можно было найти девчонок, которые ни в чем не откажут.
Несколько более свежих дивизий погрузили на корабли и отправили из Европы на другой конец земного шара помогать закончить войну с Японией, но пятьдесят седьмая часть не попала в их число. В соответствии с системой ротации старших по возрасту, повоевавших солдат в подразделении вскоре предстояло демобилизовать и отправить домой; молодые, менее опытные могли подождать, оставаясь в Европе от полугода до года.
Между тем в Киршпе-Банхофе жилось очень недурно. В уцелевшей части фабрики устроилась ротная кухня, и кормить стали вкусней и сытней. К ланчу и обеду каждому выдавали порцию шнапса и на выбор красное или белое вино. Ежедневно работал горячий душ, и в довершение они получили свежую форму – не новую, но чистую, приятно пахнущую, полинявшую и севшую после стирки в ротной прачечной. Вместо стальных касок они теперь носили только чистые подшлемники, украшенные сбоку знаком дивизии, нанесенным эмалевой краской.
Удовольствие от новой жизни портили лишь досадные «мелочи» вроде утренних и вечерних поверок, никчемных инспекций и никчемных маршей на пять и десять миль – но в общем они наслаждались покоем и бездельем.
Все, похоже, были счастливы, кроме Прентиса, которого не покидало чувство мучительной неудовлетворенности. Война закончилась слишком быстро. Его лишили всякого шанса искупить вину за смерть Квинта. А других шансов не было. Из его жизни исчезла цель. Ничего больше не оставалось, как тянуть изо дня в день, наслаждаясь роскошью мирного безделья, которого, казалось ему, он не заслужил. А еще его донимало и раздражало, как рота убивала свободное время в бесконечных, беспорядочных воспоминаниях, в трепе о прошлом.
– …Помнишь день, когда погибли Андервуд и Гардинелла? Когда мы должны были пройти то поле?..
– …Помнишь ночь, когда переправлялись через канал? Как восьмидесятивосьмимиллиметровые вре́зали точно по нам?..
Самым худшим, по всеобщему мнению, был день, когда они попали под обстрел своей артиллерии, – день, когда погиб Крупка и от лейтенанта Коверли не осталось и мокрого места. О том, как это случилось, несколько раз рассказывал Кляйн.
– Его просто разорвало на куски, р-раз, – щелкнул Кляйн пальцами, – и нету. Когда прилетел первый снаряд, мы рванули по улице, забежали за угол того дома, потом второй снаряд, за ним третий – только этот не разорвался. Жуткое дело: мы ждем взрыва, а слышим только: «Бум, блям, блям, блям», вроде того, а это проклятый снаряд прыгает по мостовой. С виду такой маленький, знаете? Раз в пять меньше мяча… катится к тому месту, где мы стоим, и останавливается в футе от Кови. Он протягивает руку, дотрагивается до него и говорит: «Горячий!» Я думал, он смеется. Потом сует пальцы в рот: «Аж обжегся! Обжегся! Обжегся!» – и р-раз – его на куски. Вот так все было.
Скоро в роту вернулись ветераны Арденн, которые лежали в госпитале с ранами или обморожением ног. Прибыло и свежее пополнение – скромные ребята только что из Штатов или Англии, благодарная аудитория для любителей повспоминать. Но истории воевавших в Арденнах всегда были настолько лучше, интересней и страшней («…Помните ночь, когда фрицы шли на нас цепь за цепью? Ночь, когда погиб капитан Саммерс?»), что воевавшим позже трудно было сравниться с ними. Они замолкали так же уважительно, как новички из пополнения, словно тоже не нюхали пороха.
На Уокера это действовало особенно угнетающе. Он сидел и слушал с мрачным, раздраженным видом, явно обиженный тем, что повоевал недостаточно, чтобы было о чем рассказывать, и он лишний на этих посиделках. По крайней мере именно это читал Прентис на его лице, и это было настолько близко к его собственным ощущениям, что он не раз в замешательстве отворачивался, избегая взгляда Уокера.
А потом, когда закончилась первая неделя их пребывания в новом городке, Уокер совершил нечто такое, что сделало его посмешищем. Ротный писарь проговорился кому-то, и не прошло часа, как новость стала всеобщим достоянием, вызывая недоверчивый хохот у каждого, кому ее рассказывали.
– Шутишь!
– Нет. Клянусь богом! Он это сделал!
Уокер пошел к капитану Эгету и подал официальное прошение с просьбой отправить его на Дальний Восток. Ну а дальше, как передавали, капитан не принял его всерьез: «Старина Эгет только посмотрел на него и сказал: „У тебя что, не все дома, солдат?“» – народ на КП издевательски засмеялся, на том разговор закончился, и Уокер быстренько исчез, красный как рак.
Прентис смеялся вместе с другими, когда услышал эту историю, но сознавал, что смеется с облегчением, оттого что Уокер, а не сам он совершил подобную глупую ошибку. Прошло дня два, и где-то около полудня разговор принял неожиданный, приятный для Прентиса оборот. Вспоминали на сей раз Рур:
– …Помните тот день, когда мы нарвались на зенитчика? На железнодорожных путях, тогда еще старину Дрейка ранило в ногу?
Сидели там, вспоминая, все: Финн, Рэнд, Мюллер и Бернстайн, и у Прентиса сжалось внутри от страха, что разговор о том дне может скоро коснуться его собственной ужасной промашки той ночью, когда он задремал за столом, – и страх еще больше усилился, когда заговорил Сэм Рэнд:
– Господи, вспоминаю потеху со стариной Прентисом в тот раз, – начал он, заранее улыбаясь, отчего окружающие заулыбались тоже. – Мы уже были на рельсах, когда зенитка открыла по нам огонь, помните? Мы еще попрятались за кирпичные столбы? Так те чертовы столбы были всего на дюйм шире нас. И вот, помню, Прентис стоит… – поднявшись на ноги, Сэм встал по стойке смирно, держа невидимую винтовку к ноге, – стоит он так, проклятая зенитка лупит почем зря, и капитан Эгет кричит ему: «Эй, Прентис! Воль-но!»
Все вокруг грохнули – даже Финн хохотал, даже Бернстайн, – и Прентису казалось, что он в жизни не слышал столь приятного смеха. Не бог весть что, но все же, и это приятное чувство не оставляло его, пока он шел от дома до столовой на фабрике, испытывая давно позабытое воодушевление. Он неторопливо выпил свой шнапс и двинулся к окну раздачи, из которого шел аромат чабера. Кормили сегодня шикарно: жареной курицей, и он понес дымящийся, доверху полный котелок к столику, где было свободное место рядом с Оуэнсом, маленьким человечком из штабного взвода, с которым он познакомился прошлой зимой, когда их вместе отправили из Орбура в госпиталь.
– Привет! Как дела, Прентис?
– Отлично. Тут свободно?
– Конечно. Садись.
После возвращения в роту он лишь раз-другой перебросился парой слов с Оуэнсом, но сейчас, неспешно наслаждаясь отменным ланчем, сбрызнутым шнапсом и вином, они болтали, как старые приятели. Они продолжали болтать, даже когда покончили с едой: за кофе с сигаретой, потом вместе встали и, повесив винтовки на плечо, присоединились к очереди к крану, чтобы ополоснуть свои котелки.
– Я вот что тебе скажу, – заметил Оуэнс, – не слишком нравится вся эта бодяга, которая тянется последнее время.
Прентис согласился:
– Вообще-то, если и дальше так пойдет, не удивлюсь, если найдется не один парень, который попросит отправить его воевать на Дальний Восток.
Он думал, что его слышит только Оуэнс, но тут краем глаза увидел, как от толпы справа отделилась фигура. Не успел он обернуться и посмотреть, кто это, как его грубо схватили за руку. Это был Уокер.
– Что ты сказал, Прентис? Что ты сейчас нес насчет Дальнего Востока?
Прентис был так ошарашен, что мог только глупо улыбнуться:
– Что?
– Ты меня слышал. – Уокера всего трясло. – Что ты нес насчет Дальнего Востока?
Прентис резким движением высвободил руку, отчего куриные кости из котелка разлетелись по жирному подносу. Кровь бросилась ему в лицо, и казалось, что в огромном, с высоким потолком помещении столовой воцарилась тишина.
– Слушай, Уокер! К тебе это не имеет отношения.
Тишина вокруг была не кажущейся – умолкли все, – Уокер не мог бы пожелать более внимательной аудитории для демонстрации своей ярости.
– Отчего ж сам не попросишь перевести тебя на Дальний Восток? А? Знаешь, отчего ты этого не делаешь? Оттого что ты трус, вот отчего.
– Черт возьми, Уолк…
Он не договорил: в глазах у него покраснело и завертелось. Уокер толкнул его пятерней в лицо, другой рукой рванул за рукав, и Прентис, крутясь, врезался в стену фабрики, куриные кости разлетелись по полу, винтовка соскользнула с плеча и повисла на локте, подшлемник соскочил с головы. Мгновения не прошло, как он освободился от винтовки, принял боксерскую стойку и ринулся вперед, выставив сжатые кулаки, но ударить не успел: его схватили сзади за руки, а двое других оттолкнули Уокера. Повисшая было в столовой тишина взорвалась неистовыми криками и улюлюканьем.
Оуэнс держал Прентиса за одну руку, приговаривая: «Брось, Прентис, не обращай на него внимания!» – Мюллер – за другую. Несколько секунд они с Уокером рвались друг к другу, способные сражаться только взглядами. Прентис рад был, что его удерживают, но понимал, как важно показать, что он рвется в бой.
– Что тут, черт побери, происходит? А ну замолчали все! – раздался властный голос появившегося откуда ни возьмись Люмиса, который переводил полный праведного негодования взгляд с Прентиса на Уокера. – Забыли, ребята, где находитесь?
Кто-то в толпе сказал:
– Уокер начал первым, Лумис. Он как…
– Салага дерьмовый, я начал, – процедил, ощерившись, Уокер сквозь стиснутые зубы, – и еще не закончил.
– Всё, успокоились, – сказал Лумис. – Меня не интересует, кто начал и из-за чего это началось. Вы ведете себя как дети. Господи, если хочется подраться, деритесь, но только не в столовой. Уокер, возвращайся к себе. Это приказ. А ты, Прентис, в очередь, мыть посуду. Остальным разойтись!
Кто-то протянул Прентису его винтовку и подшлемник, кто-то подал его котелок и ложку. Мюллер засмеялся нелепости происшедшего, другие подхватили его смех. Когда подошла очередь Прентиса, вокруг уже говорили о другом. Казалось, ничего не произошло. Но, моя котелок, он сжимался от страха, а направляясь по коридору на залитый солнцем фабричный двор, начал дрожать. Оуэнс и Мюллер были где-то позади, а Лумис еще дальше, в толпе солдат. Что там впереди, не было видно из-за высокой стены, окружавшей фабрику. Подойдя к воротам на улицу, он уже знал, что Уокер ждет его за ними, так что был готов и не показал ни удивления, ни тем более страха, когда ступил на улицу и увидел Уокера, преградившего ему путь.
Уокер прислонил винтовку к стене, рядом аккуратно поставил на землю свой котелок. Он стоял, широко расставив ноги и заложив руки за ремень, и, когда Прентис подошел ближе, медленно потянул их из-под ремня. Ну и конечно, тут же собралась небольшая толпа улыбавшихся зрителей – шесть, не то восемь человек, проходивших по улице и остановившихся посмотреть, что происходит.
Прентис сложил свои винтовку и котелок рядом с Уокеровыми. Затем принял боксерскую стойку и начал неловко приплясывать, скользя и кружа вокруг Уокера. Никто из зрителей не кричал: «Бокс! Бокс!» – боясь, что кто-нибудь вновь помешает схватке, так что все происходило в тишине, разве что сопели бойцы и шаркали по тротуару их ботинки. Уокер держался прямо и слегка подпрыгивал на носках, держа сжатые кулаки у подбородка; стойка Прентиса была более традиционной – пригнувшись, левое плечо выставлено вперед, левая рука делает выпады, – но только потому, что был слишком самоуверен. Он попытался нанести джеб слева, однако не рассчитал дистанцию, и Уокеру нужно было лишь отвести подбородок, чтобы уйти от его легкого удара; затем Прентис сделал шаг вперед и ударил правой, но Уокер подставил руку и сам нанес быстрый удар ему по уху, отчего Прентис оглох на эту сторону. Он отскочил и пару секунд с грозным видом пританцовывал на безопасном расстоянии, затем, зная, что зрители станут смеяться, если не сделает новый выпад, он его сделал, но опять схлопотал по тому же уху. Проклятие, где этот Лумис? Почему никто не остановит драку? Он неловко отскочил подальше, а потом в отчаянии бросился на Уокера, бешено маша правой, но попасть было не суждено, потому что кто-то схватил его за ремень и отшвырнул назад – Лумис – и одновременно кто-то другой схватил Уокера за руки.
– Да что с вами, в конце концов? – орал Лумис. – Не понимаете приказов, сопляки?
Прентис испытал такое облегчение, что едва мог воспринимать ругань Лумиса: он лишь облизывал пересохшие губы и старался успокоить дыхание. На сей раз Лумису не понравилось, что они подрались на улице. Да, он сказал, чтобы они шли из столовой, но только идиот не понял бы, что он имел в виду не сюда, не драться на виду у этой гражданской немчуры. Только сейчас Прентис заметил, что, действительно, с другой стороны улицы за ними наблюдают местные: несколько стариков, молодой одноногий человек на костылях и женщина, которая, зажав уголок фартука в зубах, глядела на происходящее.
– Уокер, отправляйся в расположение взвода, как я сказал. Доложись у меня в кабинете и жди там. Ты, Прентис, отправляйся за ним, но держись от него футах в двадцати пяти позади. Хочу видеть тебя у себя, как только разберусь с Уокером. Всё, двигай, Уокер.
Прентис долго и медленно, соблюдая веленую дистанцию, возвращался к дому, в котором размещался второй взвод, и всячески старался держаться с достоинством. Лумис шел впереди, Оуэнс и Мюллер где-то сзади, остальные свидетели незадавшейся драки тянулись по двое, по трое по улице. Он чувствовал, что лицо у него пылает, и боялся, как бы издалека не подумали, что он плачет. Чтобы не возникало такого впечатления, он достал сигарету и закурил.
Когда он уселся в гостиной перед дверью «кабинета» Лумиса, ожидая, когда тот кончит разбираться с Уокером, ощущение, что все смотрят на него с усмешкой и удивлением, стало совсем мучительным. Кляйн сидел поблизости и чистил ногти, Мюллер расположился на диване у противоположной стены, листая журнал «Янки» и даже не притворяясь, что читает. В передней, невидимые из гостиной, стояли, негромко разговаривая, Финн и Сэм Рэнд, которые, наверно, уже слышали о драке. Один раз ему показалось, что до него донеслось произнесенное Финном «Дальний Восток».
Дверь наконец открылась, и появившийся Уокер, не глядя ни направо ни налево, пошел к выходу под внимательными взглядами ожидающих.
– Заходи, Прентис, – позвал Лумис.
Он сидел за массивным резным столом, который реквизировал для себя и приспособил в качестве письменного; и вид у него был строгий и официальный.
– Закрой дверь, – приказал он. – Полагаю, ты изложишь мне свою версию.
– Я просто разговаривал с Оуэнсом и…
– Что? Не слышу, что ты там бормочешь.
– Я сказал, что я разговаривал с Оуэнсом.
Собственный голос казался тонким и далеким, но причиной лишь частично был звон в ухе, по которому он получил удар; главное же – у него перехватило в горле. Самым большим в жизни позором было бы расплакаться сейчас, на глазах у сержанта Лумиса. Он хотел было сказать: «И мы даже не говорили об Уокере – вот что смешно. Я просто пошутил насчет…» – но, боясь, что голос не выдержит столь долгого объяснения, подведет, сказал: