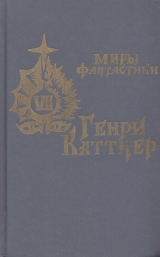
Текст книги "В глубь времен"
Автор книги: Рене Баржавель
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Он сел и набил свою трубку голландским табаком.
– Да здравствует Англия! – завопил Гувер.
Ученые смеялись, целовались, хлопали друг друга по спинам. Эволи, итальянский физик, рыдал. Хенкель, методичный немец, предложил создать комиссию и возложить на нее обязанность составить текст Декларации Всемирного Человека. Все наперебой начали предлагать кандидатуры. Их возбужденные выкрики перекрыл раздавшийся из всех громкоговорителей голос Лебо. Он объявил о том, что легкие Кобана прекратили кровоточить. Он был слаб и все еще находился без сознания. Его сердце билось неритмично. Но сейчас можно было уже надеяться на его спасение.
Действительно великий день. Гувер спросил Хой То, не знает ли он, сколько времени понадобится Люкосу, чтобы провести через Переводчика все фотографии всемирных законов.
– Всего несколько часов, – ответил Хой То.
– Итак, через несколько часов мы сможем узнать на семнадцати разных языках, что обозначает Уравнение Зорана?
– Думаю, что нет, – улыбнулся Хой То. – Мы увидим связный текст, увидим доказательства и комментарии, но значение математических и физических символов все так же будет нам недоступно, как оно недоступно Переводчику. Без помощи Кобана потребуется очень много времени, чтобы найти смысл. Но, без сомнения, нам это удастся и благодаря компьютерам, может быть, очень быстро.
– Я предлагаю, – сказал Гувер, – объявить через "Трио", что завтра мы выходим на прямую связь со всем миром, и предупредить университеты и исследовательские центры, что они смогут записать большой научный текст, который мы передадим на английском и французском языках вместе с оригинальными символами на языке гонда. За несколько мгновений Уравнение Зорана станет всеобщим достоянием. Одним махом будет уничтожена угроза убийства или похищения, которые довлеют над Кобаном, наконец, может быть, удалится эта отвратительная летающая и плавающая военная железная рухлядь, которая следит за нами под предлогом нашей защиты, а на самом деле только и ждет удобного случая сотворить какую-нибудь пакость.
Предложение Гувера встретили рукоплесканиями. Великий день, долгий день без ночи и без туч, с золотистым солнцем, которое прогуливалось вокруг Земли, наполняя верой в успех сердца людей. В тот момент, когда оно исчезло за ледяной горой, охваченные эйфорией ученые и техники продолжали веселиться в баре и ресторане МПЭ-2. Запасы шампанского и водки в этот день были серьезно подорваны. Шотландское виски и бургундское, жизненная вода и сливовица добавили свою порцию оптимизма в глотки, кипящие общей радостью. Даже Леонова против обыкновения выпила немного шампанского.
– Моя дорогая коллега, – обратился к ней Гувер, – я огромный, отвратительный холостяк, а вы – ужасная марксистская худенькая вертихвосточка… Я не буду говорить, что я вас люблю, потому что это было бы ужасно смешно. Но если вы согласитесь стать моей женой, я вам обещаю спустить свой живот и даже прочесть "Капитал".
– Вы ужасный, – ответила Леонова, чуть не рыдая у него на груди, – вы отвратительный…
Симон не присоединился к общему веселью. Проводив Элеа до медпункта, он не составил ее. Войдя в комнату, она сразу направилась к питающей машине, нажала на три белых клавиши и получила один кроваво-красный шарик, который тут же проглотила и запила стаканом воды. Потом с обычным безразличием к присутствию другого человека она разделась, совершила свой туалет и легла, уже наполовину уснувшая, без сомнения, под воздействием красного шарика. С тех пор, как она сняла золотой обруч, она не издала ни звука.
Медсестра присутствовала при последнем эпизоде ее воспоминаний в конференц-зале. Она с жалостью смотрела на Элеа. Лицо уснувшей молодой женщины было воплощением трагедии, всех страданий мира.
– Бедняжка… – произнесла медсестра. – Дать ей пижаму? Она может простудиться.
– Не прикасайтесь к ней, она спит, ей хорошо сейчас, – вполголоса отозвался Симон. – Укройте ее и следите за ней. Я немного посплю и заступлю на вахту в полночь. Разбудите меня…
Он отрегулировал термостат, чтобы немного повысить температуру в комнате, и, не раздеваясь, вытянулся на узкой кровати. Но как только он закрыл глаза, перед его мысленным взором возникли Элеа и Пайкан. Обнаженная Элеа, горящее небо, груды мертвых солдат, обнаженная Элеа, Элеа без Пайкана, изрытая земля, взорвавшееся поле, Оружие в небе, Элеа, Элеа…
Он понял, что не сможет уснуть, и резко поднялся. Снотворное? Питающая машина стояла здесь же на маленьком столике, прямо под рукой. Он нажал на три белых клавиши. Ящичек открылся, и на маленьком подносе появился красный шарик.
Медсестра испуганно смотрела на него: "Вы это будете есть? Это же может быть яд!" Он не ответил. Если это яд, то его приняла Элеа, а если Элеа умрет, то у него не было никакого желания жить дальше. Но он был уверен, что это не яд. Он взял шарик и положил его в рот.
Он взорвался у него между зубами, как спелая вишня без косточки. Ему показалось, что он заполнил весь рот, нос, горло и покрыл их успокаивающей нежностью. Вкус его был не таким уж приятным, но сам контакт, само ощущение безграничной нежности, которое расходилось в нем и проникало во все его тело, пересекало щеки и шею, чтобы достичь кожи, было по-настоящему целительным. Он снова лег. Ему не хотелось спать, напротив было ощущение, что сейчас он мог дойти до самых Гималаев, взобраться на любую вершину.
Медсестра потрясла его за плечо.
– Доктор! Быстрее! Вставайте быстрее!
– Что? Что происходит?
Он посмотрел на часы. На них было 23 часа 37 минут.
– Я же вам говорила, что это яд! Быстро выпейте это! Это рвотный корень.
Он оттолкнул стакан, который она ему протягивала. Он никогда еще не чувствовал себя таким счастливым и отдохнувшим, как будто он проспал часов десять. "Ну, а если это яд, что с ней, с ней?"
Она, Элеа. Она проснулась и лежала с открытыми глазами, уставившись в одну точку. Челюсти ее были сжаты, все тело сотрясали судороги. Симон раскрыл ее и прикоснулся к мышцам рук и ног. Они были сжаты, напряжены, тверды. Он провел рукой перед глазами, но Элеа даже не моргнула. Он с трудом нащупал пульс.
– Что это, доктор? Что с ней?
– Ничего, – мягко произнес Симон, возвращая на место одеяло. – Ничего… Всего лишь отчаяние…
– Бедняжка… Что можно сделать?
– Ничего, – повторил Симон, – ничего…
Он все еще держал ледяную руку Элеа в своих руках. Он начал нежно ее гладить, массировать, затем стал осторожно подниматься вверх, к плечу.
– Я вам помогу, – сказала медсестра.
Она обошла кровать и взяла другую руку Элеа. Но та резко выдернула ее из рук медсестры.
– Оставьте ее. Оставьте меня с ней. Оставьте нас. Идите спать в вашу комнату…
– Вы уверены?
– Да… Оставьте нас…
Медсестра собрала свои вещи и вышла, бросив на Симона долгий подозрительный взгляд. Он даже не заметил этого. Он смотрел на Элеа, на ее неподвижное лицо, глаза, устремленные в одну точку, в которых отражался свет от двух озер неподвижных слез.
– Элеа, – сказал Симон очень тихо, – Элеа… Элеа… Я с вами…
Вдруг он подумал, что она слышала не его голос, а бесстрастный голос Переводчика. А его собственный голос, который шел в ее второе ухо, был всего лишь посторонним, мешающим шумом, который она старалась не фиксировать.
Он очень осторожно вынул из ее уха слуховой аппарат, снял свой микропередатчик, пришпиленный к свитеру и засунул его в карман. Теперь между ним и ею не было ни машины, ни постороннего голоса.
– Элеа… Я с вами… С вами только я… Мы впервые вместе, может быть, в последний раз… и вы не понимаете… именно сейчас я могу вам это сказать… Элеа, моя любовь, моя любимая, я тебя люблю… моя любовь, моя любовь… я хотел бы быть рядом с тобой… на тебе… очень нежно в тебе… успокоить тебя, согреть тебя, пожалеть, я люблю тебя… я всего лишь варвар, дикий отсталый человек, я ем животных, траву и деревья… и я никогда тебя не… но я люблю тебя, я тебя люблю… Элеа, любовь моя… ты прекрасна… ты прекрасна… ты птица, цветок, весенний ветер… никогда тебя не будет у меня… я это знаю, я это знаю, но я люблю тебя…
Слова Симона ложились на нее, на ее лицо, на ее руки, на ее обнаженную грудь, окутывали ее, как мягкие лепестки, как снег теплоты. Он почувствовал, как ее ладонь расслабилась. Он видел, как ее лицо оживилось, дыхание стало ровным, глубоким, спокойным. Он увидел, как веки медленно опускаются на трагические глаза и наконец текут слезы.
– Элеа, Элеа, любовь моя… Вернись от несчастья… Вернись от боли… вернись. Жизнь здесь, я люблю тебя… ты прекрасна, ничто не может быть прекраснее тебя… обнаженный ребенок, облако… цвет, лат… волна, листок… распускающаяся роза… запах персика и целое море… ничто не может быть прекраснее тебя… майское солнце… маленький львенок… теплые солнечные фрукты… ничто не может быть прекраснее тебя, Элеа, Элеа, любовь моя… моя любимая…
Он почувствовал, как рука Элеа сжала его руку, а другая приподнялась, легла на одеяло и необычным жестом, невероятным жестом натянула его на себя и прикрыла обнаженную грудь.
Он замолчал.
Ее губы раскрылись и она произнесла по-французски: "Симон, я тебя понимаю… – затем наступила короткая пауза, и она добавила: – Я принадлежу Пайкану…" Из ее закрытых глаз продолжали литься слезы.
* * *
Ты меня понимаешь… Ты поняла, может быть, не все слова, но достаточно, чтобы узнать, как сильно я тебя люблю. Я тебя люблю… Любовь… Это слово не имеет смысла в твоем языке, но ты его поняла, ты поняла, что оно может означать, что я хотел тебе сказать, и даже если они не принесли тебе забвения и мира, они одарили тебя теплотой, и ты смогла плакать.
Ты поняла. Как это было возможно? Ни я, никто из нас не взял в расчет необычайные возможности твоего разума. Мы всегда все оцениваем, только соотносясь с современным человеческим прогрессом. Думаем, что мы – самые развитые, самые способные, что мы – конечный, блестящий результат эволюции! Может быть, после нас будут лучше, но до нас… это невозможно!
Несмотря на все достижения Гондавы, которые ты нам показала, нам даже не пришло в голову, что вы более совершенны. Ваш успех мог быть только случайностью. Вы были ниже нас, поскольку вы были раньше.
Люди убеждены, что Homo sapiens со временем совершенствуется как вид. Человек сначала ребенок, а потом уже взрослый. Мы – люди сегодняшнего, мы – взрослые. Те, кто жили до нас, могли быть только детьми.
Но, может быть, наступило время спросить себя, а не есть ли детство совершенство, а не является ли взрослый просто ребенком, который уже начал гнить…
Вы – детство человечества, вы – новые, чистые, вы – неизрасходованные, не уставшие, не разорванные, не подорванные, не изможденные, вы… Разве есть то, что вы с вашим разумом не могли бы сделать?
В течение этих долгих недель ты слышала в одном ухе фразы на незнакомом языке с утра до вечера, каждый день, пока ты не спала и даже когда спала, потому что слова, которые я тебе говорил, были просто способом быть с тобой, быть ближе к тебе, моя любовь, моя любимая.
А в другом ухе раздавались те же фразы, но переведенные на язык гонда, и смысл этих слов ты улавливала, как только они достигали твоего слуха, и твой восхитительный разум, сознательный или бессознательный, я не знаю, сравнивал, классифицировал, переводил, понимал.
Ты меня понимала.
Я тоже, я тоже, любовь моя, я понял, я знал…
Ты принадлежишь Пайкану…
* * *
Люкос закончил работу. Переводчик проглотила, ассимилировала и перевела на семнадцать языков текст Трактата Зорана. Но, послушная командам Люкоса, по решению Совета, она пока сохраняла переводы в своей памяти, чтобы записать их, отпечатать и распространить немного позже, когда ее об этом попросят. Она только записала на магнитную ленту перевод на английский и французский. Фильмы ожидали в шкафу момента, когда их начнут транслировать на весь Земной шар.
Время приближалось. Журналисты попросили провести экскурсию по Переводчику, чтобы описать потом читателям и слушателям чудо, которое расшифровало самые древние секреты человеческого знания. В отсутствие Люкоса, который вместе с Хой То продолжал фотографировать в Яйце выгравированные тексты, его помощник, инженер Мурад, провел их в недра машины. Гувер вызвался сопровождать их, а Леонова сопровождала Гувера. Иногда он брал ее малюсенькую руку в свою, или же она сама цеплялась своими хрупкими пальцами за его огромные ладони. Как два влюбленных гонда, не обращая ни на кого внимания, рука об руку они двигались вдоль залов и коридоров Переводчика.
– Вот приспособление, которое позволяет записать изображение на пленку. На этом экране появляются строчки текста. Телекамера их видит, анализирует и преобразует электромагнитные сигналы, которые записывает на пленку. Это очень просто, это старая система магнитофонов, – пояснял Мурад. – Сложнее способ, которым пользуется Переводчик, чтобы высвечивать строчки текста. Это…
Мурад говорил только по-турецки и по-японски, и Гувер раздал журналистам ушные передатчики, чтобы каждый мог слышать объяснение на своем языке. И Луи Девиль услышал по-французски: "…это …дерьмо! Что это такое?"
На одну сотую долю секунды он восхитился такими мощными познаниями Переводчика и пообещал себе выяснить у Мурада, как звучит соответствующий турецкий термин. Он должен был быть звучным и впечатляющим. Но в следующую секунду он уже не думал об этих глупостях. Он увидел, как Мурад что-то шептал на ухо Гуверу, Гувер сделал ему знак, который он не понял, а Мурад дернул Гувера за рукав и показал ему что-то сзади записывающей камеры. Что-то, что Гувер понял сразу, а журналисты, которые смотрели туда одновременно с ним, не понимали.
Гувер повернулся к ним:
– Господа, мне нужно поговорить с глазу на глаз с инженером Мурадом. Я могу это сделать только с помощью Переводчика. Я бы не хотел, чтобы вы слышали нашу беседу. Прошу вас снять ваши слуховые аппараты и выйти, если это не составит вам труда.
Послышались протесты, и разразилась словесная буря, лексика которой была преимущественно позаимствована из слэнга. Обрубить источник информации именно в такой момент, когда она могла стать сенсационной? Не может быть и речи! Ни за что на свете! За кого их принимают?
Гувер стал фиолетовым от гнева. Он завопил:
– Я из-за вас теряю время! Каждая секунда имеет, может быть, фантастическую важность! Если вы будете продолжать сопротивляться, я возьму вас в охапку, брошу в самолет и пошлю всех к черту, в Сидней! Дайте мне это! – он протянул руку. Даже в том состоянии, в котором они находились, журналисты все же поняли, что дело было серьезным. – Я вам обещаю все рассказать, как только сам во всем разберусь.
Они все прошли мимо него и сложили на его широкую ладонь еще теплые слуховые аппараты. Леонова закрыла дверь за последним и быстро вернулась к Гуверу:
– Что? Что происходит?
Двое мужчин уже склонились над внутренностями камеры и быстро обсуждали что-то на своем техническом языке.
– Вы видите этот шнур, – сказал Гувер, – это не от камеры, его кто-то присоединил!..
Приклеенный к шнуру аппарата, таинственный кабель переплетался с ним и входил в отверстие в металлическом корпусе. Мурад мгновенно отвинтил болты и вытащил алюминиевую полированную пластину. Внутренности аппарата скрывали чемодан средних размеров из обыкновенного кожзаменителя табачного цвета. Шнур входил в него, затем выходил, резко поднимался сквозь потолок, подсоединяясь, без сомнения, к какому-то металлическому внешнему предмету.
– Что это? – снова спросила Леонова, сожалея о том, что она всего лишь антрополог.
– Передатчик.
Гувер уже открывал чемодан. В нем находился восхитительный аппарат из проводков, трубочек и полупроводников. Это был не обыкновенный радиопередатчик, а настоящая передающая телестанция, миниатюрный шедевр. Гувер сразу узнал японские, чешские, немецкие, американские, французские детали. Человек, создавший передатчик, был гением.
Передатчик не был подключен в общую электрическую цепь. Необходимую энергию ему давали батарейки и трансформатор. Это ограничивало срок его работы и дальность передачи. Он мог передавать не более чем на тысячу километров.
Гувер быстро объяснил все это Леоновой. Он проверил батарейку. Она оказалась практически полностью использована. Передатчик работал уже давно. Без сомнения, он уже передал на приемник, находившийся где-то на континенте или где-то рядом с его берегами, изображение английского и французского переводов.
Абсурд. Зачем подпольно доставать переводы, если через несколько часов они пойдут на весь Земной шар?
Единственный логичный ответ был страшен: какая-то группа людей или какое-то государство стремилось получить в исключительную собственность Уравнение Зорана. Только в этом случае возникала необходимость помешать распространению Трактата всемирных законов. Они установили передатчик и послали изображение в неизвестном направлении. Далее неизбежно должно было последовать:
уничтожение магнитных лент, на которых были записаны эти изображения,
уничтожение оригинальных записей, на которых был зафиксирован выгравированный текст,
уничтожение самого выгравированного текста, уничтожение памяти Переводчика, которая сохраняла их на семнадцати языках, и убийство Кобана.
– Черт возьми! – взорвался Гувер. – Где пленки?
Мурад быстро повел их в архивный зал, открыл алюминиевый шкаф, схватил одну из коробок – со времен изобретения кино такие коробки служат для хранения пленки. Как всегда, ее трудно было открыть. Наконец ему удалось это сделать, и они увидели ее содержимое: вязкая каша, откуда выходили пузырьки. Во все коробки была залита кислота. Все оригинальные и записанные на магнитную ленту фильмы превратились в вонючую пасту, которая начала течь через все дырки и разрушать сам металл.
– Черт возьми! – повторил Гувер по-французски. Он предпочитал ругаться по-французски. Его совесть американского протестанта в этом случае меньше страдала. – Память? Где блок памяти этой сучьей машины?
Длинный тридцатиметровый коридор, правую стену которого покрывала прозрачная пластмасса и своеобразная металлическая решетка, каждое отверстие которой было размером в одну десятитысячную миллиметра. Каждое пересечение – ячейка памяти. Их было десять миллионов миллиардов. И все же это творение электронной техники, несмотря на свои чудесные возможности, выглядело всего лишь песчинкой по сравнению с живым мозгом.
Войдя, они сразу обнаружили, что к этому шедевру присоединены какие-то нелепые предметы. Четыре лепешки, напоминающие коробки с пленками. Четыре мины, похожие на те, которые защищали вход в сферу. Четыре чудовищных предмета, приклеенных к металлической стенке, которые должны были разрушить ее вместе с Переводчиком, если попытаться их отодрать или даже просто к ним приблизиться.
– Черт возьми! У вас есть револьвер? – Гувер обращался к Мураду.
– Нет.
– Леонова, дайте ему свой!
– Но…
– Давайте! Черт подери! Нашли место и время для препирательств!
Леонова протянула свое оружие Мураду.
– Закройте дверь, – приказал Гувер, – и стойте перед ней, не впуская никого, а если будут настаивать, стреляйте!
– А если это взорвется? – сказал Мурад.
– Тогда вы взорветесь вместе с ней! И вы будете не один!.. Где этот придурок Люкос?
– В Яйце.
– Идем, сестричка… – и он увлек ее как ветер, который дул снаружи.
На поверхности поднялась буря. Солнца совсем не было видно, его поглотили зеленые тучи. Ветер бился обо все препятствия, срывал снег с поверхности, чтобы смешать его с тем, который он уже нес, окутывая все, унося обломки, отходы, брошенные ящики, пустые бочки, антенны, снося все на своем пути.
Охранник около двери не хотел дать им выйти. Путешествовать снаружи без защиты – значит умереть. Ветер их ослепит, задушит, сломает, унесет и оставит умирать в холоде и смертельной белизне.
Гувер стащил с человека его шапочку и натянул ее на голову Леоновой. Затем он взял его очки, перчатки, тулуп и закутал в него тоненькую молодую женщину, толкнул ее на электрическую платформу и наставил на охранника револьвер.
– Открывайте!
Испуганный мужчина нажал на кнопку выхода. Дверь раскрылась. Ветер втолкнул охапку снега и бросил им под ноги.
– А вы? – острым голосом крикнула Леонова. – У вас же нет защиты!
– У меня, – перекрикивая бурю, завопил Гувер, – у меня есть мой живот!
Перед ними и над ними, слева, справа, впереди, сзади все было белым. Платформа, на которой стояла Леонова, нырнула в белый океан, перемещающийся с воем тысяч гоночных машин. Гувер почувствовал, как снег приклеился к его щекам и начал забивать уши и нос.
Здание с лифтом располагалось прямо перед ними всего в тридцати метрах – тридцать возможностей потеряться и быть унесенными ветром. Нужно было катить платформу по кривой траектории. Он думал только об этом, он забыл о своих щеках, ушах, о своем носе, о коже, которая начинала замерзать. Тридцать метров. Ветер резко задул справа и готов был сорвать их с места. Он пошел прямо навстречу ветру и вдруг подумал, что масло в его револьвере должно замерзнуть и оружие может не сработать.
– Держитесь того направления! Двумя руками! Здесь! Вот так! Не сбейтесь ни на миллиметр!
Голыми руками, которых он уже не чувствовал, он взял руки Леоновой и сжал их на перекладине. Затем он на ощупь нашел револьвер, прикрепленный к поясу, снял его, кое-как расстегнул ширинку. Живот его сразу же был омыт зверским холодом. Он засунул оружие в трусы и хотел снова застегнуть брюки, но змейка не поддавалась. Холод пробрался к его ногам, к его трусам и к оружию, которое он хотел засунуть в самое теплое убежище в себе самом. Он прижал Леонову к своему животу, как защиту, как препятствие против бури, обнял ее и положил свои руки на ее руки, сжимающие перекладину. Ветер попытался оторвать их от траектории и забросить неведомо куда. Они могли замерзнуть в десяти шагах от двери.
Буря все еще скрывала дверь лифта. Была ли она здесь, совсем рядом, прямо перед ними, за толстой массой несущегося снега? Или же они сбились с пути и платформа уносила их в пустыню, отдаляя их от жизни?
Внезапно Гувер почувствовал – они прошли мимо цели, они потерялись. Он крепко сжал руки Леоновой и со всей силы пошел прямо навстречу ветру.
Ветер проскользнул под платформу и приподнял ее. Бочки с пивом, которые стояли на платформе, сбросили Гувера на снег. Испуганная Леонова отпустила перекладину. Она почувствовала, как ее уносит ветер, и закричала. Гувер успел схватить ее за запястье и прижал к себе. Покинутая платформа неслась по ветру. Бочки с пивом исчезли в белой буре. Гувер покатился по льду, не отпуская Леонову. Одна из бочек прошла в нескольких сантиметрах от его головы. Ветер нес Гувера и Леонову. Вдруг они ударились о какое-то препятствие, которое издало металлический звук. Это была большая красная вертикальная поверхность – дверь в здание, где находились лифты…
… В лифте было тепло. С них стекал налипший снег и лед. Леонова сняла перчатки. Ее руки были теплыми. Гувер пытался дыханием согреть свои. Они оставались неподвижными и белыми. Он не чувствовал ни своих ушей, ни своего носа. А через несколько минут нужно действовать. Он должен подготовиться.
– Отвернитесь, – сказал он.
– Почему?
– Отвернитесь, черт возьми! Вы так любите много говорить!
Она покраснела от обиды, чуть было не отказалась, потом послушалась, стиснув зубы. Гувер повернулся к ней спиной, кое-как засунул обе руки в трусы и защепил двумя ладонями револьвер. Револьвер выскользнул и упал. Леонова подскочила.
– Не оборачивайтесь!
Гувер запихнул рубашку в брюки и схватил молнию на брюках двумя указательными пальцами, зная, что держит ее, но совершенно ее не чувствуя. Он дернул вверх, но молния ускользнула от него. Он снова и снова повторял это движение, выигрывая каждый раз по полсантиметра. Наконец, его внешний вид стал достаточно приличным. Он посмотрел на индикатор спуска. Они были на отметке девятьсот.
– Подберите револьвер, – попросил он, – я не могу.
Она повернулась к нему:
– Ваши руки?..
– Сразу мои руки! У нас нет времени!.. Подберите эту штучку!.. Вы умеете им пользоваться?
– За кого вы меня принимаете?
Оружием она владела достаточно хорошо. У них был пистолет большого калибра, оружие профессионального стрелка.
– Снимите предохранитель.
– Вы думаете, что?..
– Я ничего не думаю… Я опасаюсь… Все будет зависеть от доли секунды.
Лифт затормозил на трех последних метрах и остановился. Дверь открылась.
Мины охраняли Ос и Шанга. Они обезумевшими глазами смотрели, как из кабины вышел замерший Гувер, волочивший руки, как посторонние предметы, и Леонова, направившая на них огромный пистолет.
– Что случилось? – спросил Ос.
– Нет времени!.. Дайте мне зал, живо!
Ос снова стал флегматичным. Он вызывал реанимационный зал.
– Мистер Гувер и мисс Леонова хотят войти…
– Подождите! – крикнул Гувер.
Он попытался взять микрофон, но руки были ватными, и тот вылетел и упал на пол. Леонова подняла его и поднесла к его губам.
– Алло! Здесь Гувер. Кто меня слышит?
– Маисов слушает, – ответил голос по-французски.
– Отвечайте! Кобан жив?
– Да! Он жив. Конечно.
– Не спускайте с него глаз! Следите за всеми! Пусть каждый следит за своим соседом! Следите за Кобаном. Кто-то собирается его убить!
– Но…
– Я не могу доверять только вам. Дайте мне Фостера.
Он повторил сигнал тревоги Фостеру, потом Лебо. И каждому он повторял: "Кто-то собирается убить Кобана. Не допускайте к нему никого".
Он добавил:
– Что происходит в Яйце? Что вы видите на контрольном экране?
– Ничего, – сказал Лебо.
– Ничего? Как ничего?
– Камера сломана.
– Сломана? Черт возьми! Откройте мины! Живо!
Леонова вернула микрофон Осу. Красная лампочка перестала мигать. Минное поле отключилось. Но Гувер все же опасался. Он поднял колено и протянул свой ботинок Шанга с легкостью, которая была следствием влияние двадцати поколений работорговцев.
– Брось мой ботинок, малыш.
Шанга подскочил и отошел от него. Леонова разозлилась.
– Сейчас не время чувствовать себя негром, – она положила револьвер, взяла ботинок обеими руками и бросила. Не пытаясь вникнуть во все детали происходящего, полностью доверившись Гуверу, она понимала, как важно действовать без всяких промедлений.
– Спасибо, сестричка. Ложитесь все! – и он показал пример. Испуганный Шанга, помедлив, присоединился к нему, Ос тоже, хотя на лице его было написано недоверие. Леонова, стоя на коленях, все еще держала в руках ботинок.
– Бросай его в дырку!..
Дыркой называли верхнюю площадку лестницы, которая объединяла дно Колодца с доступом в Сферу. Мины были на лестнице под ступенями. Леонова бросила ботинок. Ничего не произошло.
– Идем, – сказал Гувер. – Сними мне второй и сама сними свои. Мы должны быть тихими, как снег. Ос, вы не должны никого пускать, вы слышите? Никого.
– Но что?..
Не тратя времени на ответ, Гувер, разведя руки так, чтобы они ничего не касались, уже спускался по лестнице. Леонова шла за ним…
В Яйце лежал мужчина, из его груди торчал нож, на пол стекала кровь. Рядом стоял человек, лицо его было закрыто маской. Двумя руками он держал плазерную пушку, направляя пламя на гравированную стену. Золото таяло и текло вниз.
Леонова держала револьвер в правой руке. Она боялась, что держит его недостаточно уверенно. Она взяла его двумя руками и выстрелила. Три первые пули вырвали плазер из рук человека, четвертая попала в запястье, почти полностью раздробив руку. Удар отбросил мужчину на землю, и пламя плазера прожгло ногу. Он завопил. Гувер устремился к нему и локтем выключил ток.
С ножом в груди лежал Хой То. Человек в маске – Люкос. Гувер и Леонова узнали его сразу, как только увидели. На МНЭ не было ни одного человека, хотя бы немного похожего на него фигурой. Ударом ноги Гувер сбил с него маску, открыв потное лицо с широко раскрытыми глазами. От жесточайшей боли в ноге, которая превратилась в пепел, гигант потерял сознание.
* * *
– Симон! Вы же его друг, попробуйте!..
Симон попробовал. Он наклонился к Люкосу и умолял его сказать, как обезвредить мины приклеенные к блокам памяти Переводчика, для кого он сделал эту бессмысленную работу, был ли он один или вместе с сообщниками. Люкос не отвечал.
С тех пор, как он пришел в сознание, его постоянно спрашивали Гувер, Эволи, Хенкель, Ос, Леонова, но он только подтвердил, что мины взорвутся, если к ним прикоснуться, и взорвутся, даже если к ним не прикасаться. Но он отказался сказать, через сколько времени они взорвутся, и не ответил ни на какие другие вопросы. Склонившись над ним, Симон всматривался в его умное мужественное лицо, в его черные глаза, которые глядели на ученых без боязни, без стыда, без бахвальства.
– Почему, Люкос? Почему ты сделал это?
Люкос молчал.
– Ведь это же не из-за денег? Ты же не фанатик? Тогда?..
Люкос не отвечал. Симон вспомнил их совместную битву со временем, которую они вели, чтобы понять два коротеньких слова, чтобы спасти Элеа. Изнурительная, гениальная работа, безграничная преданность. Как он мог убить человека и возглавить заговор против людей? Как? Почему? Для кого? И для чего?
Люкос смотрел на Симона и молчал.
– Мы теряем время, – напомнил Гувер. – Сделайте ему укол пентотала.
Снмон встал. В тот момент, когда он собирался отойти, Люкос своей мощной рукой, сильной как у четверых мужчин, схватил его за руку, повалил на кровать, выхватил револьвер из кобуры, прижал дуло к своему виску и выстрелил. Удар был очень сильным. Верх его черепа был полностью снесен, и часть мозга розовой струей текла по стене. Люкос нашел способ сохранить молчание.
Руководители МПЭ во время драматического собрания решили, несмотря на все их отвращение, обратиться к Международным Силам, базировавшимся вдоль берегов Антарктиды, чтобы они помогли им найти, засечь и разрушить подпольный приемник. Берег был слишком далеко, и приемник, возможно, находился на одном из кораблей.
Возможно. Но ученые не были в этом уверены. Маленькая подводная лодка могла спокойно проскользнуть незамеченной мимо сторожевых судов. Но даже если это корабль Международных Сил, только сами Международные Силы могли его найти. Можно надеяться только на межнациональное соперничество, которое в этом случае могло помочь ученым.
Рошфу по радио связался с адмиралом Хьюстоном. Хотя их разговор прерывался магнитной бурей, которая всегда сопровождает бурю наземную, Хьюстон все же понял, о чем ему говорил Рошфу, и поднял по тревоге всю авиацию, весь флот. Но авиация ничего не могла найти в суровой антарктической белой каше. Все авианосцы обледенели. "Нептун-1" покоился на дне. Не могло быть и речи о том, чтобы поднять его на поверхность. В ужасе Хьюстон понял, что не остается ничего другого, как обратиться к советским подлодкам. Если Люкос работал на русских, то какой смысл посылать их на охоту! А если он работал на американцев, если Люкос был агентом ФБР, о чем Пентагон и не подозревал, было бы просто ужасно бросить русских против людей, которые защищали Запад и Цивилизацию. А если это сделано в пользу китайцев? Или индийцев? Или африканцев? Или евреев? Или турок? Если это было, если это было…








