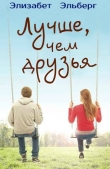Текст книги "Однажды в Париже (СИ)"
Автор книги: Ребекка Кристиансен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Единственными отличительными особенностями в ней были череп, который выглядел маленьким и хрупким, и слегка рассыпающиеся куски на том месте, где должны быть уши. Передняя часть черепа была покрыта завораживающими квадратными складками. Если бы здесь было лицо, внешние квадратные черты обрамляли бы его, но оно и так отчетливо очерчено. У мумии есть лицо? Как бы оно выглядело, если убрать все ленты? Но впрочем, я не хочу знать.
Я потираю руки, чтобы избавиться от гусиной кожи, но это не помогает, и я полностью покрываюсь ею. Затем осознаю, что это место просто кишит мумиями. Куча мумий находятся вокруг меня и чего-то ждут. Так много тел, и их лица смотрят на меня.
– О, боже, почему их так много? – шепчу я Леви.
– Так много чего?
– Мумий.
– Она здесь только одна, Кейра.
– А как насчет всех остальных? – Я указываю на серьезные египетские лица с кошачьим макияжем и лукавыми глазами. Саркофаги. Даже само слово нагоняет ужас. А их здесь так много. За каждым углом стоят сосуды, предназначенные для хранения трупов. Внутри может и не быть мертвых тел, но я не могу переубедить себя, что не окружена мертвецами со всех сторон. Могу поклясться, что призраки разгуливают среди нас. Я оборачиваюсь, и, от того, что за моей спиной мумия, мне становится только страшнее. В помещении находится Анубис с ужасающим и хитрым взглядом. Он держит посох, который указывает прямо на меня, будто накладывая тем самым проклятие. От этого я чувствую, что моим легким не хватает воздуха. Стены надвигаются на меня. Моя голова кажется тяжелой, резко накатывает усталость, и я понимаю, что еще чуть-чуть, и я упаду.
Мне надо выбираться отсюда.
– Кейра, куда ты идешь? Эй!
Огибая большое количество углов, я ухожу в другое помещение. Леви плетется где-то позади меня, будто я веду его в какое-то нужное место. Через арочный проход я вхожу в очередную комнату, – я практически уверена, что это та первая комната, в которую мы заходили, – но это не так. Сквозь окно на фоне черного неба я вижу огни Лувра и осознаю, что мы не можем выбраться отсюда. Что, если мы застряли и умрем здесь?
Леви чуть не стал таким же засушенным телом два месяца назад. Леви хотел присоединиться к ним.
Я не могу дышать. Сижу на полу в углу и не могу понять, как я сюда попала.
– Кейра? – Как из тумана доносится до меня голос Леви. Брат стоит передо мной. Я пытаюсь что-то сказать, но без воздуха я просто… просто…
– Давай, Кейра!
Теперь слезы мешают мне видеть вокруг. Слова не могут выйти из меня, так что слезы заменяют их, пытаясь таким образом помочь мне.
– Мадмуазель? Месье? – говорит какой-то человек на французском. – Она в порядке?
Леви не говорит по-французски и не может ответить. Он молчит, но его глаза, полные беспокойства, пытаются что-то объяснить. Мужчина, задавший вопрос, сконфуженно переводит взгляд с меня на брата, понемногу пятясь назад с намерением оставить нас.
– Помогите! – задыхаясь, шепчю я. – Выход, выход… sortie?
Он указывает направление. Красный знак выхода мигает над нами.
Леви, пытаясь поднять мое тело с холодного пола, хватает меня за руку.
Шагая и позволяя Леви вести меня, я начинаю расслабляться. Черт подери, что только что произошло со мной? Все мое тело гудит, горит и покалывает. Шок доходит до кончиков пальцев на руках и ногах. Что это было?
Почему древние египтяне так одержимы смертью? Так одержимы тем, что будет в загробной жизни, в которой им, возможно, пригодятся их засохшие тела и банки с кишками. Смерть не такая. Мы не проходим сквозь какую-то завесу и не выходим с обратной стороны, чтобы присоединиться к нашим предкам на вечеринке или что-то в этом роде. Смерть постоянна, абсолютна и неизбежна, даже если вы пытаетесь отбросить мысли о ней и не дать им возможность пробраться в ваш разум.
Мы не говорим друг другу ни слова, пока покидаем Лувр, поднимаясь по лестнице, находящейся внутри стеклянной пирамиды. Моя слабость и неспособность функционировать – мы не говорим об этом. Я ощущаю себя очень тяжелой и понимаю, что, скорее всего, это от того, что мы спали всего несколько часов. Однако это мысль не приносит облегчения.
Когда мы выходим на улицу в огромный двор, и ветер обдувает нас со всех сторон, мое тело немного расслабляется. Я все еще дрожу, но здесь, я уже способна дышать. Я могу любоваться фасадом Лувра, представляя, что я нахожусь в том времени, когда Лувр еще был королевским дворцом. Мы садимся на скамейку и любуемся стеклянной пирамидой, пока она сверкает на фоне неба.
– Лувр переоценивают, – говорит Леви. – Пустая трата пространства.
Я хочу привести ему контраргумент, но усталость накатывает на меня, а адреналин и страх истощили меня. Но в тайне я думаю, что мой брат, возможно, прав.
Мы идем обратно к метро, чтобы утащить свои усталые тела в отель. Только когда мы вваливаемся в наш номер, я понимаю, что все это время Леви не отпускал мою руку.
Глава 11
Леви просыпается раньше меня и с самого утра смотрит телевизор. Комната наполнена ярким послеполуденным солнечным светом. Я ощущаю свое тело настолько хрупким, что кто-нибудь при желании смог бы пройти сквозь него. И еще я такая голодная, что могла бы съесть одеяло на кровати вместе со всеми микробами нашего номера.
– Мне надо почистить зубы, – говорю я, вылезая из кровати. – А потом нам надо поесть. Как вчера.
Я достаю из чемодана сумку с туалетными принадлежностями и иду в крошечную ванную. Рядом с зубной щеткой ставлю на полочку увлажняющий крем и мицеллярную воду. Зубная щетка брата находится на небольшом расстоянии от моей, с другой стороны от крема и мицеллярной воды. Если он возьмет не свою щетку, то его стошнит в буквальном смысле этого слова.
Леви достал лекарства – три бутылочки и горка пластинок с таблетками – все это в коробочке, разделенной на дни недели. Я вспоминаю, что все эти медикаменты были в маминых карточках, но не могу вспомнить их названия, даже если мне заплатят. Я проверяю, чтобы в каждом слоте находилось необходимое количество таблеток, спрашивая саму себя, не являются ли эти таблетки единственной вещью, которая удерживает здесь Леви.
Я одергиваю себя и не даю себе думать об этом, потому что не могу быть напуганной.
– Пойдем в МакДональдс, – кричит Леви из соседней комнаты.
– Нет, мы найдем какое-нибудь кафе или что-то подобное, – отвечаю ему. – Я проделала весь этот путь не для того, чтобы есть в МакДональдсе.
– Я не хочу французской-префранцузской еды, – шепчет Леви. – Я просто хочу картофельных оладий.
– Ну, Леви, – вздыхаю я. – Будем есть настоящий французский завтрак, ничего не поделаешь.
Я принимаю душ, Леви – нет. Он начинает зловонно пахнуть, но мне не хочется снова его провоцировать. Он начинает плакать, как только мы выходим из отеля.
Не совсем плакать, если честно. Леви неморгающе смотрит, тайком вытирая глаза. Это меня не волнует. На этот раз я не позволю ему получить то, что он хочет, так как отчаянно желаю запихнуть в себя какую-нибудь сытную и невероятно вкусную пищу: колбасу, яйца, бекон – такого рода завтрак.
Я такая голодная, что не могу толком сосредоточиться на поиске. Все бистро по соседству либо еще закрыты, либо предлагают обыденное меню. Я крадусь по улицам словно зомби, ищущий мозги. Или яйца Бенедикт.
Мы двигаемся по диагонали от отеля, проходим в открытый дверной проем, и чувствую запах. Пекущийся хлеб.
Я залетаю внутрь, будто притянутая магнитом.
Стеклянная емкость для хлеба наполнена счастьем: марципановые шарики, сахарные, в форме животных; печенье разных форм и размеров, с джемом внутри, в виде цветов или глазированное темным шоколадом; громные круги слоеного теста, посыпанные корицей, сахаром и тертым миндалем и еще миллион других вкусных вещей. Букеты из багетов, от некоторых еще идет пар, наполняющий воздух обволакивающим ароматом свежего хлеба. И, конечно же, блестящие от масла круассаны. Их навалили друг на друга, и, кажется, что они карабкаются вверх в надежде, что выберут именно их. Молодая женщина за прилавком, глядя на нас, снисходительно улыбается. Ее щеки с ямочками такие же круглые и красные, как два яблока. Бровь женщины вопросительно выгибается.
– Deux croissants, s’il vous plaît (Два круассана, пожалуйста), – выпаливаю я, глядя на нее. – Deux croissants (Два круассана) и… и… багет, и одно печенье с джемом, и еще одно с шоколадной глазурью, и одну вон ту большую круглую штуку.
Ее глаза округляются, и женщина начинает махать руками:
– Je m’excuse (Извините), – говорит она. – У меня не лучший английский.
Упс. И вот она я, без умолку, болтая на английском.
– Pardonnez-moi (Простите меня)! – говорю я, пытаясь, чтобы это прозвучало так, будто вложила всю душу в эти слова. Я знаю это чувство, когда к тебе обращаются на языке, который ты только учишь.
Она застенчиво улыбается.
– Qu’est-ce que vous vouliez.
Чего бы я хотела? Я показываю на товар и прилагаю все усилия, чтобы на идеальном французском прочитать названия на карточках. Багет – это просто. Круассан – все равно вышло с акцентом. Pain aux raisins – большой толстый круг, покрытый глазурью и изюмом – чертовски тяжело произнести.
Женщина заворачивает в бумагу багет и кладет каждую покупку на красивую фарфоровую тарелку, а не в непрозрачный бумажный пакет, какие дают в Старбаксе. Париж снова обыграл тебя, Сиэтл. Продавщица укладывает все покупки в деревянный лоток и, делая это, смотрит на меня с улыбкой. Я просто ощущаю радость, исходящую от нее. Она определенно мне нравится больше, чем скучающий бариста.
Я вынимаю горстку евро, но продавщица машет рукой:
– Потом платить, – говорит она. – Сначала насладитесь.
Мы садимся за столик, встроенный в эркер магазина. Старое стекло изменяет горожан, проходящих мимо нас. Парочка людей заглядывает в открытую дверь магазина, но никто не заходит внутрь.
Когда я пробую первый кусочек, сердце сжимается в жалости ко всем тем миллионам людей, которые прямо сейчас не едят этот необыкновенный круассан. Он намного больше, чем просто слоеный и маслянистый – это шелк, скользящий по языку.
Я съедаю первый круассан за несколько секунд и принимаюсь за второй. Слезы наворачиваются на глаза, и когда дохожу до шоколада внутри, я смеюсь, тем самым, разбрасывая повсюду крошки. Шоколад! В круассане! Что может быть чудесней?
Леви стреляет в меня взглядом а-ля «ты сошла с ума?». Но от этого я еще больше начинаю хохотать.
– Этатаквкушна! – вырывается из моего рта, наполненного этой невообразимо прекрасной едой.
Глаза Леви сужаются. Его спина начинает трястись.
Он смеется.
Я не могу перестать смеяться и приступаю к поеданию песочного печенья с джемом внутри, которое к тому же покрыто такой гладкой и мягкой глазурью, что, когда кусаю, между зубов слышится звук «пффф». Затем отрываю кусочек от багета, который мог бы показаться скучным, потому что это простой хлеб, но это самый сладкий и воздушный хлеб. Будто маршмэллоу в форме хлеба.
Конечно, нельзя просто так съесть столько много выпечки и при этом не почувствовать тошноты. К тому времени, когда мы опустошили тарелки, мы стонем, собирая последние крошки.
– Это было потрясающе, – выдыхаю я, откидываясь на спинку стула, и благодарю себя за то, что утром надела штаны для йоги. – Чистая, неподдельная прелесть. Разве это было не потрясающе?
– Ага, – подтверждает Леви. – Это была самая потрясная вещь, которую ты когда-либо делала.
Я краснею. В прошлом году я прошла через все фазы выпечки, когда пробовала воплотить в жизнь сложные французские рецепты, но у меня ничего не вышло. Давайте, просто скажем, это было фиаско. Леви целую неделю жаловался на мой слишком подгорелый крем–брюле.
Я иду обратно к стойке, чтобы расплатиться с женщиной за неземные наслаждения. Пока она отсчитывает мне сдачу, хочется сказать, чтобы она оставила ее себе в качестве чаевых. Во Франции чаевые поощряются или нет? Кажется, я не запомнила эту информации из путеводителя.
Я неумело спрашиваю на французском, не хочет ли она оставить сдачу себе. Ее рот слегка приоткрывается. Румяные щеки женщины краснеют еще больше.
– Ох, нет! – бормочет женщина. – Нет, нет, я не могу. – Она высыпает мне монеты и, сжимая мои ладони в своих, размахивает ими в стороны.
– Извините, – шепчу я, опуская голову. – Я… Я не хотела…
– Нет, нет…, – снова повторяет женщина. – Я имею в виду, просто… вы должны забрать свои деньги.
Я улыбаюсь:
– Большое спасибо. Все было очень вкусно.
Она снова подмигивает мне:
– Спасибо вам.
Мы с Леви выходим на улицу, чуть не сбив с ног чудоковатого бизнесмена, молодого, но уже лысого, который заглядывает в пекарню, но все равно проходит мимо.
Весь Париж теперь у наших ног.
– Итак, что мы будем делать сегодня? – спрашиваю у Леви.
Не могу сказать, сердит ли он или просто щурится от солнца.
– Я не знаю, – отвечает брат. – Что-нибудь.
– А не пойти ли нам в какое-нибудь крутое место? – Я начинаю рыться в сумке, чтобы найти одну из стащенных в аэропорту брошюр.
Куча из них посвящены музеям. Музей Орсэ, центр Помпиду, Музей Того, Музей Этого… Я отбрасываю все. После вчерашней ночи у меня совершенно нет настроения, чтобы ходить по музеям. Остаются туры. Долина Луары. Однодневная поездка на юг к голубому Средиземному морю. Однодневная поездка в Голландию. Однодневная поездка через поля Фландрии ко всем военным мемориалам и знаменитым местам битв. Это должно понравиться Леви.
– Было бы круто увидеть окопы, – только и отвечает он.
Возможно, это хоть немного поможет Леви выбраться из раковины. Я представляю, как он встречает каких-нибудь ветеранов, людей, бывших очевидцами тех событий, которые Леви видел только в документальных фильмах. Возможно, он бы задал пару вопросов, а я смогла бы написать маме хорошую новость.
Но потом вспоминаю все те размытые черно-белые фотографии, которые нам показывали на уроках истории. Раздутые тела, замаскированные грязью, и пустые взгляды солдат. Меня пробивает дрожь. Окопы ужаснут меня еще больше, чем мумии.
– Я так не думаю, – говорю брату.
– Это единственная вещь, которая мне здесь так интересна.
– А что насчет Версаля или Эйфелевой башни?
– Я хочу увидеть вещи времен войны. – Он сжимает кулаки и смотрит на меня с негодованием.
– Ну… здесь есть музей войны, Дом инвалидов.
Он глядит на меня, приподняв бровь. Я воспринимаю это как знак, чтобы вытащить наконец путеводитель, и читаю названия некоторых экспонатов, пушек, на которые мне, откровенно говоря, наплевать, пока не натыкаюсь на это: «Гробница Наполеона». Я моргаю, чтобы убедиться в том, что все правильно прочитала.
– Черт подери. Пошли смотреть на гробницу Наполеона!
– Ахах.
– Это значит «да»?
Леви кивает:
– Давай навестим Наполеона Бонапарта. Я уверен, что он будет неимоверно рад нашей встрече.
– И будет приветливым и любезным, – соглашаюсь я.

Мы выходим из глубин метро на станции Дом инвалидов и наконец-то видим стоящий вид. Слева от нас под мостом Александра, самого великолепного моста из всех существующих, лениво течет Сена. Мост Александра – широкое, немного низкое сооружение из белого камня, украшенное белыми столбами, каменными гирляндами и гребнями. По обоим концам моста находятся золотые статуи, стоящие на огромных пьедесталах и сверкающие под внезапными вспышками камер туристов. За мостом находится огромный проспект с нетронутой по обеим сторонам травой, простирающийся к золотому пантеону, куполу, под которым лежит Наполеон.
Еще на горизонте видны неясные очертания Эйфелевой башни, которая кажется мучительно близкой.
Я до сих пор не могу поверить, что мы здесь. Не могу поверить, что это привезла нас сюда.
Я указываю на Пантеон.
– Вот там и находится гробница Наполеона.
Леви хрюкает:
– Неплохо.
– Я бы даже сказала, что он замечательно устроился.
Мы переходим оживленную улицу вместе с кучей других туристов, и, когда спускаемся к бульвару, Леви говорит:
– Это зависит от того, что ты понимаешь под словом «неплохо». Да, сейчас, когда он мертв уже много лет и признан одним из величайших главнокомандующим всех времен, у него хорошее положение, но дважды за свою жизнь он был сослан на далекие острова. Кроме того, вскрытие показало, что Наполеон умер от рака желудка, но многие считают, что его отравили мышьяком.
– Разве так не постоянно происходит? – спрашиваю я. – Легендарные люди умирают при весьма подозрительных обстоятельствах, и каждый начинает говорить, что это было «отравление мышьяком».
– Люди любят заговоры, – отвечает Леви, бросая косые взгляды на купол Пантеона. Отраженный солнечный луч окрашивает его щеку золотым цветом. – Позволь вещам оставаться интересными.
– Некоторые люди думают, что Джейн Остин умерла от отравления мышьяком.
Леви начинает смеяться:
– Кому бы захотелось травить Джейн Остин? Да, она была настоящей угрозой. Определенно.
– Ну, она была величайшим романистом своего времени.
– Едва ли это повод убивать кого бы то ни было. Отравляют только важных людей.
– А разве Джейн Остин – не важный человек? – Кровь начинает закипать, потому что брат оскорбил Джейн Остин напротив Пантеона. Моя жизнь весьма странная.
– Недостаточно важна для того, чтобы быть убитой.
– Некоторые люди, возможно, и хотели бы убить ее. Может, другие писатели. Чтобы потом утверждать, что это они написали ее романы, опубликованные анонимно?
Лицо брата выражает отвращение по отношению к моим словам.
– Ты, на самом деле, думаешь, что Джейн Остин отравили? Я всегда знал, что ты тупая.
– Леви!
– Ладно, ты глупая.
– Я никогда не говорила, что, на самом деле, так думаю, но, боже, Леви, тебе нужно постараться перестать быть таким придурком.
Глупые слезы начинаю обжигать глаза. Я пытаюсь сказать себе самой, что он не имел в виду, что я тупая, что он не хочет ранить людей, говоря подобные вещи, но не уверена в этом.
– Джейн Остин очень переоцененная. Если тебе нравятся ее книги, ты должна…
– Почему ты постоянно осуждаешь людей за то, что им нравятся те вещи, которые не нравятся тебе? – прерываю я брата.
– Я ничего не могу поделать с тем фактом, что ее книги плохие, – отвечает Леви с насмешкой.
– Заткнись, Леви. Я не могу принять твои негативные комментарии, поэтому заткнись хотя бы на секунду.
Таков наш разговор в то время, как мы стоим за билетами, чтобы войти в военный музей. Билетёрша выглядит обеспокоенной, но все равно протягивает нам билеты, говоря коронную фразу: «Добро пожаловать».
Я проглатываю злость. Как обычно.
Военный музей совсем не похож на Лувр. Здесь все открыто, все белое и чистое и, к моему облегчению, огромное количество стендов на улице. Под парящим куполом Пантеона, глядя на красную гробницу Наполеона, я не чувствую страха смерти. Я чувствую себя отстраненной в хорошем смысле этого слова. Чувствую себя спокойной и умиротворенной в то время, пока мы ходим по музею.
Леви блуждает по двору, рассматривая пушки, выставленные на обозрение.
– Ты знаешь «Отверженных»? – спрашиваю я у брата.
– Это не тот фильм, в котором так ужасно пел Рассел Кроу?
– Ага. Но ты знаешь саму историю?
Леви отрицательно качает головой.
– Эти пушки напоминают мне момент, когда революционеры ставили баррикады, чтобы попытаться остановить армию.
– Такое бывает во время революции?
Я киваю.
– Хах, я думал, что это просто выдумка исторического романа.
– Это, в основном, о войне. – И тут у меня возникает идея. – Мне интересно, сможем ли мы пойти посмотреть на такое. Это ведь Париж. Наверняка, где-нибудь показывают «Отверженных».
– Фильм?
– Нет, мюзикл.
Леви стонет:
– Я не хочу видеть пьесу, где все вокруг поют.
– Там есть куча пушек и кровавых ран, – убеждаю его я. – Много людей умирают. Почти все умирают.
Он делает очень глубокий вдох. Я подслащиваю сделку.
– Мы можем поесть блинов на ужин перед тем, как пойти на спектакль.
Он выдыхает воздух с таким звуком, будто лопнул воздушный шар.
– Ладно, договорились.
Этим вечером после того, как мы поели блинов, приготовленных вежливым мужчиной, который не насмехался над нами, мы отправляемся в театральный район. Когда кассир объявил мне цену за билеты, которые продаются в последнюю минуту перед представлением, сердце, проигнорировав все правила анатомии, рухнуло прямо в желудок. Цена за два билета на это шоу превышала цену за ночь в нашем отеле. Это куча еды. Они стоют столько же, сколько однодневное путешествие, чтобы посмотреть на замки Долины Луары.
Мужчина в смокинге принимает наши билеты, и мы входим в театр. Все одеты в нарядные костюмы. Это не означает, что все носят черные галстуки, но, тем не менее, внешний вид других зрителей заставляет меня, одетую в блузку с цветочным принтом, джинсы и вязаный кардиган, почувствовать себя не в своей тарелке. А что уж говорить про треники и резиновые сапоги Леви. Я прохожу мимо столов с сувенирами и едой. Просто хочу, чтобы мы растворились в темноте театра.
Билетер смотрит на наши билеты и указывает наверх:
– Балкон! Вам наверх!
– Ах…
Он показывает пальцем направо. Внизу холла – темный лестничный пролет, на котором можно заметить несколько театралов. Мы следуем за ними на пустынный второй этаж, где второй билетер показывает нам наши места.
Мы сидим так далеко от сцены, что это похоже на небольшой проект диорамы, сделанный четвероклассником. Трехзначный ценник – в евро – за это? Чувство разочарования приходит вместе с ощущением неблагодарности. Это все-таки «Отверженные». Они все еще должны быть захватывающими, несмотря на то, дерьмовые у нас места или нет.
Леви усаживается на свое место и устраивается поудобней. Он ерзает по стулу, вздыхает, пока, наконец, не останавливается на самом неуклюжем положении, съехав на стуле так низко, что видна только его голова, и скрестив руки на животе. Женщина, сидящая на одном ряду с нами, поднимает брови.
– Ты же ничего не увидишь, – говорю я брату.
– Мне без разницы.
– Ладно. – Я достаю пару брошюр и начинаю читать их в слабом освещении. – Будь жалким.
– Это написано в названии пьесы, – говорит Леви.
Я ухмыляюсь:
– Очень умно.
Кажется, будто мы ждем вечность, и Леви сообщает об этом раз двадцать, но, когда гаснет свет, и сцена оживает, больше ничего не имеет значения. Ни плохие места. Ни женщина, сидящая на одном ряду с нами, которая постоянно шикает на нас. Ни мое постоянное раздражение на Леви. Все, что для меня имеет значение, это Жан Вальжан и музыка, вырывающаяся из оркестра, заставляющая мое кресло дрожать и хватающая меня за горло.
Я не помешана на театре и не знаю наизусть ни одного мюзикла, и уж тем более не визжу от одного только упоминания о Стивене Сондхайме. Я лишь однажды видела «Отверженных» в период бурного помешательства на Хью Джекмане. У меня есть электронная версия книги, которую скачала лишь потому, что знала, что она имеет отношение к Парижу, и что эту книгу написал Виктор Гюго, но я никогда даже не начинала ее читать.
Несмотря на все это, смотреть вживую – это потрясающая вещь. Когда Фантина поет «Я видела сон», все тело дрожит, а слезы катятся по лицу. Когда Жан Вальжан бежит от закона, я так сильно сжимаю скрещенные пальцы, что они начинают болеть. Мне кажется, что только моя воля о его спасении – это единственное, что позволяет ему оставаться в безопасности. Я ненавидела Козетту, Мариуса и их роман в фильме, но здесь они заставляют сердце трепетать. И Эпонина… Когда она поет песню о своей безответной любви «Сама по себе», чувства, которые я испытывала, когда была влюблена в Жака, возвращаются. Актриса повторяет шепотом: «Я люблю его», и меня начинает знобить. Она поет последнюю строчку, и щеки начинаю пылать в темноте, хотя я – единственная, кто знает, что этот персонаж посвящен мне.
Все шоу поражает и потрясает, и в этом заслуга не только истории и музыки.
Есть ещё один персонаж, один актер на сцене, который пленяет меня. Он – лидер революции, светлоглазый друг-мошенник Мариуса. Страсть актера заражает меня. Он заставляет меня хотеть сорваться с места и со штыком ринуться в бой. Его светлые волнистые волосы выглядывают из-под шляпы, а костюм демонстрирует всю смелость персонажа. Он безрассудный, слишком оптимистичный, видит только славу битвы, а не неизбежность собственной смерти.
Он очень горяч.
Он умирает под градом пуль. Мне надо шептать самой себе, что это вымысел, и глубоко дышать, чтобы все в моей душе не оборвалось.
Пьеса продолжается и это чудесно, это самая лучшая вещь, которую я когда-либо видела, но потом замечаю, что Леви спит с широко открытым ртом. Я бы уже давно услышала его храп, если бы вокруг не бушевала Французская Революция. Как он смог заснуть под звуки труб и мечей? Я так возбуждена, а он спит как убитый в невероятно шумном помещении. Я заплатила кучу денег за место, на котором он сейчас спит.
Представление заканчивается, и я поднимаюсь вместе с толпой, чтобы аплодировать стоя. Когда все люди стоят, я больше не могу видеть сцену, и это становится проблемой. Когда каст начинает кланяться и махать руками, то больше не могу видеть Анжольраса. Я встаю на цыпочки, но это ничего не дает. Я хлопаю и хлопаю, но к тому времени, когда снова могу видеть сцену, она уже закрыта занавесом, а Анжольрас ушел.
Я бужу Леви, толкнув его пару раз. Он сразу же начинает капризничать.
– Это наконец-то закончилось? – ворчит Леви, потягиваясь после сна. Этим самым он чуть было не ударил пожилого человека, который пытался выйти из зала и находился на соседнем с нами ряду.
Я хватаю его за руку, которой он чуть не ударил мужчину.
– Осторожней! И да, это закончилось. Ты почти все проспал.
– Я увидел достаточно, чтобы понять, что спектакль был не на высоте.
Чувствую себя проткнутым шаром.
– Просто пойдем.
Конечно, это было не так просто. В театре было столько народа, что прошла вечность, пока мы просто смогли покинуть верхний этаж, и пока что речи не шло о том, чтобы спуститься по лестнице в холл и выйти из здания. У меня достаточно времени, чтобы «насладиться» нищетой, но я откладываю это на потом и начинаю сходить с ума, разглядывая список актеров на блестящей шоу-программе.
Мне нужно пару минут, чтобы найти Анжольраса, потому что актеры выглядят намного страннее на своих профессиональных портретах, чем на сцене. На его волосах столько геля, что вместе с кривоватой улыбочкой на лице актер напоминает парня из сороковых. Он выглядит намного спокойнее, чем его персонаж, но есть что-то плутоватое в его улыбке. Его зовут Алек Ридаут, и в его биографии сказано, что он учился в Кембридже и Оксфорде. Вау.
Мне интересно, какой он в жизни. Если бы я была такого рода девушкой, то захотела бы найти его после шоу и разузнать все сама.
Первым импульсом было засмеяться этой мысли. Следующим – сделать это.
Я во Франции. Если не рискну хотя бы пару раз, если не сделаю, по крайней мере, пару вещей, которые пугают меня, к чему все это? Пока мы стоим посреди огромной толпы на лестнице, ведущей в холл, я представляю себе все это. Я – наивная туристка. Он – энергичный британский актер. Я бы скромно попросила у него автограф, мы бы поговорили, а потом он бы пригласил меня выпить что-нибудь, и мы бы вместе провели вечер... под звездами, около Эйфелевой башни, когда она вся горит и переливается разными огнями. Представляя все это, тело возбужденно дрожит.
– Леви, – говорю я здоровяку, шаркающему около меня. – Думаю, пойду искать одного из актеров.
Я получаю в ответ самый тяжелый вздох, который когда-либо слышала:
– Это неимоверно тупо.
– Мне наплевать, что ты об этом думаешь. Я просто сделаю это.
– Я не пойду с тобой.
– Просто подожди меня. – Мы уже спустились в холл. Я осматриваю помещение на наличие хорошего местечка, где Леви мог бы меня подождать. – Что насчет пальмового дерева вон там? Просто стой там. Я буду там примерно через десять минут.
Леви тащится к пальмовому дереву, брови, как обычно, нахмурены.
Я совершенно без понятия, как и где можно встретить актера после выступления, но я делаю глубокий вдох, и, протискиваясь сквозь людей, которые идут к выходу, ищу ближайшего швейцара. Я спрашиваю у него, могу ли встретиться с Алеком Ридаутом.
Швейцар даже не смотрит на меня.
– Выход на сцену, – только и говорит он.
Выход на сцену? Я думаю, что это означает, что мне надо возвращаться назад. И вновь протискиваюсь между людьми и возвращаюсь в пустующий театр. Занавес прячет сцену, но, насколько я вижу, оттуда высовывается девичья голова и улыбается во весь рот, глядя на огромное помещение:
– Боже, вот оно как, быть знаменитым! – говорит с техасским акцентом девушка. Она скрывается за занавесом, но я все еще слышу, как она спрашивает: – Мы можем пойти посмотреть твою гримерку?
В этот момент я ощущаю, будто дух любопытной девчонки просачивается в мое тело. Я поднимаюсь на сцену и проскальзываю за тяжелый вельветовый занавес в мир темноты. И чуть не натыкаюсь на тело поблизости. Кажется, меня никто не заметил. Спотыкаясь, я иду на свет.
Там суетится куча людей. Команда толкает декорации и вешалки с горами костюмов по всем направлениям, а по радио доносится еще миллион новых указаний. Среди всех этих людей я замечаю парочку актеров и начинаю свой надзор.
Кажется, что здесь должно быть множество поклонников, особенно, когда я нахожу коридор, полный гримерок. Имена с программки украшают как открытые, так и закрытые двери. Я ищу Алека Ридаута, и нахожу его имя на совместной гримерке. Дверь открыта. Я заглядываю внутрь.
Трое актеров, на разных стадиях снятия костюмов, вместе смеются и кричат:
– Я чуть было не споткнулся и не свалился с левой стороны сцены, – говорит британский актер. – Думаю, я хорошо притворялся, когда начал бегать, но думаю, Морис понял, что это не так. Он всегда все понимает.
– Ничто не сравнится со штанами, сползающими с моей задницы во время «Еще одного дня». Я был на сто процентов уверен, что они упадут с меня. – Голос принадлежит какому-то американцу.
– А ты как, Алек? – спрашивает еще один британец. Я навостряю уши. – Как твое горло?
– Плохо, – говорит усталый и грубый голос. – Очень плохо.
– Это нехорошо, – мрачно шепчет американец. – Тебе бы не хотелось, чтобы на сцену вышел твой дублер.
– Я не об этом, – ворчит Алек.
– Я просто шучу. Но если ты не хочешь, чтобы мое страшное лицо вышло на центр сцены, тебе немедленно нужно дать немного отдыха голосу.
Прежде чем могу зайти в гримерку с каким-либо планом, высокий и широкоплечий мужчина в костюме революционера выходит из комнаты и натыкается на меня.
– Ух, ты! – Он хватает меня за руку, чтобы поддержать, хотя я совершенно в этом не нуждаюсь. – Ты кто?
– Эм-м.. Я… Я ищу Алека Ридаута?
– Алек! К тебе кто-то пришел! Вперед. – Он толкает меня в комнату. – Только не позволяй говорить ему всю ночь. Его голос скрипуч как у подростка.