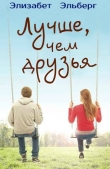Текст книги "Однажды в Париже (СИ)"
Автор книги: Ребекка Кристиансен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Глава 9
Я проснулась с чувством, что я не на своем месте. Я лежу на слишком накрахмаленном, и от этого хрустящем покрывале, в оклеенной полосатыми обоями комнате, наполненной странным оранжевым светом. Телевизор включен и оттуда доносятся французские слова.
Я вспоминаю, где нахожусь.
Я слишком быстро сажусь. Кровь резко приливает к голове.
Леви сидит на соседней кровати, вытянув волосатые ноги и уставившись в телевизор. В эфире «American Idol». Стоп. Я так понимаю – «French Idol»? Безвкусный логотип программы вращается по экрану. «Le Big Star!» («Большая звезда»)
– Который час? – спрашиваю я, потирая глаза. Внутри у меня какое–то непонятное ощущение от того, что я не понимаю, нужно мне сейчас подниматься и позавтракать или же оставаться на месте и поужинать.
– Семь, – отвечает Леви. – Вечера.
Я зеваю и потягиваюсь. В животе урчит от голода.
– Я умираю от голода, – говорю я.
– Я тоже. Ты спала целую вечность.
– Ты должен был разбудить меня.
Он пожимает плечами.
Я иду в ванную и смотрю в зеркало на свое отекшее ото сна лицо. Я подставляю руки под воду и делаю глоток. У воды какой-то странный земляной вкус. Края плиток в ванной в сколах, а порог между ванной и комнатой слегка приподнят. Я чуть не ударилась об него пальцами ног. Ковер в комнате стоптан и изношен. И, господи, может ли солнце светить чуть-чуть ярче?
Я двигаюсь по комнате к шторам, когда внезапно мне что-то бросается в глаза. Окно выходит на самый крошечный балкон, который я когда-либо видела. Это всего пятнадцать сантиметров бетонной поверхности между подоконником и перилами с чугунными завитушками. Я открываю окно. Воздух, пронизанный солнечным светом, теплый, но слегка сдобрен прохладным ветерком.
Мои ноги едва касаются балкона так, как я взгромождаюсь на подоконник. Мы на втором этаже, и с узкой улочкой внизу нас разделяет примерно четыре с половиной метра. Небольшая группа женщин средних лет, хихикая, входит в отель. Они, должно быть, выпили слишком много шампанского за ужином. Мотоциклы и скутеры теснятся на парковочных местах. Здания вдоль улицы располагаются безо всякой логики. Рядом с жилым домом, около еще меньшего по размерам ангара, находится маленький гараж, за ними кучка небольших домиков, а еще дальше – несколько рядов многоквартирных домов. Аллеи и крошечные дорожки располагаются около каждого дома, но, в основном, я вижу только крыши. Некоторые ниже, другие чуть выше, но все они находятся так близко друг к другу, что можно спокойно прыгать с одной крыши на другую. Все они из разных материалов: терракота, оловянных листов, деревянной черепицы, что создает мозаику из текстур. И все это купается в солнечном свете.
– Эй, Леви, – говорю я, крича в комнату, в которой слышится какой-то дурацкий французский джингл2. – У нас довольно приятный вид из окна.
Он переминается с ноги на ногу, стоя позади меня:
– Ага.
– Садись.
– Здесь мало места.
Я двигаюсь.
Леви очень медленно ступает на балкон. Он просовывает ноги в окно и, как краб, заползает на подоконник. Он занимает столько места, что меня весьма болезненно прижимает к оконной раме. Его ноги слишком большие, чтобы опереться на крошечный балкон, так что, он просовывает их через перила. Когда он стал таким крупным? Я вспоминаю события прошлых лет и вижу его маленькие, шлепающие по бассейну ноги, время от времени, пинающие мои во время очередного игрового поединка. Теперь его ноги больше моих почти в два раза. А еще они волосатые, как у хоббита.
Он крутит головой по сторонам, будто хочет перейти дорогу.
– Раньше я никогда не останавливался в номере с балконом. Это круто.
– Ага. Когда мы вернемся в Портленд, тебе нужно будет навестить родителей Джоша на Рождество. У них был отель с балконом, выходящим на бассейн. Помнишь?
Он моргает.
– Я не ездил в Портленд.
– Ты ездил. Мы все там были.
– Нет, Кейра. Ты – идиотка, – вырывается у него. – Я остался дома, и бабушка присматривала за мной. Боже, у тебя самая ужасная память на всем белом свете.
О, мой бог, он прав. Это было около двух лет назад, и это был первый раз, когда мы праздновали Рождество вне дома. Джош умолял Леви поехать с нами, но тот отказался. Брат остался дома вместе с бабушкой, которая присматривала за ним, когда могла. Он должен был поехать в гости к бабушке и дедушке на Рождество, но когда мы вернулись на следующий день, то застали его играющим в Xbox в подвале, а рядом с ним стояла огромная миска сырных шариков. Оранжевые крошки были повсюду, особенно много их было на футболке Леви. Бабушка сказала маме, что Леви отказался ехать к ним и есть вместе с ней и дедушкой Рождественский ужин, и она провела несколько часов в попытках переубедить его.
Он провел Рождество в одиночку.
– Эм… Что ты делал в то Рождество, когда мы уехали? – спрашиваю я.
Он пожимает плечами.
– Смотрел домашние видео.
Я представляю его, сидящим в темном подвале, смотрящем кадры с нами, и его грязная шевелюра вырисовываются на фоне телевизора. Это самая одинокая вещь, которую я только могу себе представить.
– Серьезно?
– Ага. Там была куча ужасных сцен, когда ты пела песни дурацкой мальчишечьей группы, которая тебе так нравилась.
– «To the Starz»? – я смеюсь. – Помнишь, как ты постоянно вставлял «пу» и «бам» в слова?
Леви смеется. По-настоящему смеется.
– Оу, детка, я люблю твои голубые БАМ и длинные светлые ПУ, – поет он.
Я начинаю петь другой их хит «Complicated»:
– Когда ты со мной, я никогда не чувствую себя СТРАДАЮЩИМ ОТ ЗАПОРА.
Мы оба взрываемся от хохота.
– Раньше ты так часто меня бесил, – говорю я, вытирая выступившие от смеха слезы. Откуда они взялись? – Но я думаю, что ты был довольно веселым.
– «Хорошая мысля приходит опосля», – выдает Леви. – Но теперь-то ты признаешь мой поэтический дар.
Солнце начинает скользить за крыши домов. Ночь в Париже начинается, а я как раз просыпаюсь.
– Ну что? – спрашиваю я. – Не пойти бы нам поужинать?
– Да, – сразу же поддерживает меня брат. – Я просто умираю с голода.
Французская еда, мы идем за тобой.
Я считаю, что лучший способ найти хороший ресторан – просто бродить по улицам, пока мы его не найдем. Через несколько минут мы натыкаемся на какое-то блинное заведение. Название ресторана гласит «Crêpes Pour Vous» («Блинчики для вас»). Просто идеально.
– О да. Блины для нас. Спасибо, – говорю я вывеске, в то время как открываю дверь.
Это милое заведение всего лишь с несколькими столиками, переполняющими крошечное помещение, которое по размерам меньше, чем моя комната дома. Стены увешаны постерами, которые не имеют никакой общей тематики. Плакаты еды висят рядом с фотографиями Джима Моррисона и постерами сериала «Друзья», их версии примерно тысяча девятьсот девяносто четвертого года с дурацкими прическами и улыбками.
Прежде чем заглянуть в меню, я скольжу взглядом вокруг и случайно натыкаюсь на парня за прилавком. Он пытается справиться с радиоприемником, хмурясь при попытках повернуть старый переключатель. У него темно–каштановые волосы, которые падают прямо на глаза, и довольно острые скулы, оттеняющие его лицо. Я могу видеть только то, что не скрывает кассовая стойка, но даже это дает мне понять, что парень очень горяч.
Горячий Блинчик поднимает глаза. Его взгляд пронзает меня, как копье, рассматривая мои спутанные каштановые волосы и лицо в форме сердца. Я начинаю ощущать покалывание на тех частях тела, которые, в идеале, должны были бы быть немного меньше – на моих бедрах, животе, дряблых плечах. Я сутулюсь и опираюсь на спинку стула.
О, боже. Мне нужно заказать у него еду. Я умираю с голоду, но в то же время, не хочу выглядеть как огромный толстяк, который запихивает в рот по двадцать блинов. Так что выбор таков: либо этот вариант, либо уйти голодной. Я ненавижу девушек, которые боятся есть перед парнями.
И я была именно такой девушкой, когда мне нравился Жак. К черту все. Я буду есть все, что захочу.
Горячий Блинчик приподнимает бровь. Вскоре он подходит к нам со словами:
– Привет, добро пожаловать в «Crêpes Pour Vous»! Чем я могу вам помочь?
– Привет, эм… bonne soir (прим. добрый вечер), – улыбаясь, говорю я на французском. Мои щеки горят. Я смотрю в меню и понимаю, что я совершенно не представляю, что я хочу съесть. – Эм…
Горячий Блинчик возвращается к радиоприемнику и ставит какое-то разговорное французское ток–шоу.
– Не торопитесь, – бормочет он с акцентом.
Похоже, это дельный совет, потому что здесь Такой. Большой. Выбор.
Десертные блинчики со взбитыми сливками, клубникой, шоколадом и – помоги мне, боже – с Нутеллой. Острые блины со всеми видами мяса и сыра, яйцами и восхитительно выглядящими соусами. Что в такой ситуации должна делать девушка? Горячий Блинчик кусает губы от расстройства из-за неполадок с радио. Мне бы очень хотелось, чтобы этот хмурый взгляд снова был обращен на меня.
– Что ты думаешь? – спрашиваю я у Леви.
– Я хочу обычный блин, – отвечает он. – Нет, четыре простых.
– Простой? Без топпинга или чего-нибудь еще?
Он кивает.
«Привет, красавчик, я бы хотела четыре блина. Нет, к ним ничего не надо. Просто четыре гребаных блина для моего странного братца».
Именно так происходит каждый раз, когда мы с Леви идем в ресторан. Он слишком застенчивый, чтобы разговаривать с официантами, так что мама или я должны точно объяснить, насколько простыми должны быть блюда, но с необъяснимым количеством солений. И всегда неловко объяснять, когда заказ понимают неправильно. Это настоящее испытание. Леви будет задыхаться, громко стонать и, как года два тому назад, он даже может заплакать и развалиться на полу. Что если подобное случится здесь? Он уже кусает губы, смотря на грязный линолеум на полу. И я не знаю, сможет ли мой французский правильно объяснить состояние Леви.
Я глубоко вздыхаю. Леви должен получить то, что он хочет, иначе… Я не хочу знать это «иначе». А еще здесь нет мамы, которая могла бы помочь ему справиться с истерикой. Я подхожу к стойке. Парень моет руки в крошечной раковине.
– Добрый день, – говорю я. – Могу я, пожалуйста… эм, получить четыре блина, простых? С… с ничем.
Он бросает на меня взгляд поверх полотенца, которым вытирает руки, и почти незаметно приподнимает бровь.
– Говорите на английском. Это будет проще для всех.
Фух.
– Но мне нужно практиковать мой французский.
Уголок его рта приподнимается. Думаю, можно расценить это как улыбку.
– Практикуйте на ком-нибудь другом.
Мою кожу покалывает. Он продолжает вытирать руки, как будто это – это оскорбление – для него сущий пустяк.
– Я хочу четыре простых блина на одну тарелку, а на вторую – один с Нутеллой, пожалуйста.
Чертов ужин. Перейду сразу к десерту. Да здравствует, Франция!
Придурок просто пожимает плечами.
Я вздрагиваю, непонятно от гнева или ожидания, когда Блинный Придурок переходит к своему кулинарному искусству. Он наливает тесто на горячую плиту, затем поворачивает деревянным инструментом по кругу, чтобы раскатать смесь тонким слоем. Он использует металлическую лопатку, чтобы одним быстрым движением перевернуть блин.
Он делает блины для Леви, сворачивая их конусом на тарелке, а затем берется за мой и намазывает его Нутеллой. Мне нужно прикладывать усилия, чтобы у меня не потекли слюнки. Он протягивает мне тарелки, и его темные глаза смотрят на меня. Несмотря на его новое прозвище «Блинный Придурок», я чуть не падаю в обморок.
Я расплачиваюсь, хватаю пластиковые ножи и вилки и сажусь рядом с Леви. Блинный Придурок, хмурясь, возвращается к своему радио.
Хотя я настолько сердитая, насколько он меня таковой сделал, указывая мне говорить на английском, я все же не могу не задаться вопросом, каково бы было влюбиться в него. Если бы это был фильм, то это была бы наша первая катастрофическая встреча с ужасным первым впечатлением. Это классика, на подобие «Гордости и предубеждения». Я бы продолжала возвращаться в этот ресторан, мы бы придумывали друг для друга острые ответы и притворялись бы, что у нас обоюдная ненависть. Затем следовала бы парочка совместных нежных моментов, и именно тогда, для меня настало бы время покинуть Париж. По непонятным причинам, я бы не смогла выйти с ним на контакт и сказать, что уезжаю, так что я была бы вынуждена оставить ему письмо, в котором говорилось бы, как я его любила, начиная с нашей первой встречи. На французском. А мой письменный французский намного лучше разговорного. Он будет так тронут и ошеломлен своими чувствами ко мне, что последует за мной в аэропорт, чтобы поклясться в вечной любви. Потом я вернулась бы в Париж, чтобы быть с ним. И жили мы долго и счастливо. Финальные титры.
Я ловлю себя на том, что улыбаюсь этому парню, и мне приходится напомнить самой себе, что все это еще не случилось.
Он поднимает глаза и видит, что я смотрю на него. Я отвожу взгляд, отрезаю маленький кусочек блина и жую его аккуратно, как леди. Потом снова гляжу на парня. Его губы растягиваются в улыбке, как это иногда бывает у Леви, но эта не та улыбка, которая пытается сдержать ликующий смех. Это жестокая, насмешливая улыбка, точно такая же, как у Жака.
Еще один повар выходит из задней комнаты. Он начинает быстро говорить по-французски, о том, что что-то потеряли, и с кучей проклятий. Блинный Придурок отвечает ему, а потом что-то шепчет. Его взгляд скользит по мне. Повар номер два тоже смотрит на меня с точно такой же ухмылкой.
Они смеются. Я слышу, как они говорят пару слов с преувеличенным американским акцентом. «Здра–а–авствуйте».
– Четыре блина с ничем, – говорит горячий парень, чрезмерно произнося каждое слово и произнося в окончаниях «с» (во французском языке «с» в конце слова не читается), хотя я этого никогда не делала.
Я опускаю взгляд и смотрю в тарелку. Я должна швырнуть все это прямо сейчас и плевать на Нутеллу и их тупые усмешки.
– Тебе нравятся блинчики? – спрашиваю я у Леви просто, чтобы отвлечься от них.
– М–м–м, – невнятно отвечает он. Леви никогда не был способен контролировать звуки во время еды. – Они были бы вкуснее, если бы были немного толще.
– Тогда это были бы панкейки.
– Возможно, мне просто больше нравятся панкейки.
О, боже, надеюсь, что этот французский идиот ничего этого не слышал. Мне совершенно не нужно подливать масла в огонь. Американские дети, которые жалуются, что блины совсем не похожи на панкейки Бетти Крокер.
Так как я смотрю на Леви, то вижу, что он ест блины руками. Его нож и вилка лежат на столе.
– Леви, используй столовые приборы!
Эти слова мама говорила миллионы раз. Я осознаю это, но это не останавливает меня от того, чтобы толкнуть нож и вилку поближе к брату.
Леви удивленно сморит на меня:
– Что? Мамы здесь нет.
– Но здесь есть такая вещь, как манеры за столом.
«Пожалуйста, не давай им еще одну причину посмеяться над нами», – добавляю я в мыслях.
Он размахивает своей вилкой и чуть ли не бросает ее. Я наклоняюсь вперед и разрезаю блины за него. Точно так, как это делает мама, будто он вечный ребенок, который никогда не станет нормальным взрослым человеком.
– Вот, – говорю я и опускаю нож на свою тарелку. – Теперь ты можешь их есть.
Он держит вилку в кулаке, накалывает кусочки блина и кладет их в рот до тех пор, пока туда уже больше ничего не вмещается.
Блинные Лузеры начинают смеяться еще громче. У меня остается еще почти половина блина и немного Нутеллы на краю бумажной тарелки, но у меня нет никакого желания доедать все это.
– Давай, Леви, – говорю я, вставая. – Пойдем.
Мой брат хватает руками последние несколько кусочков блина и идет за мной к выходу из кафе. Лузерам больше не над чем смеяться. Прежде чем мы окончательно выходим из кафе, я улавливаю их слова «la p’tite dame et le gros» (маленькая дама и здоровяк). В сопровождении еще большего хохота, разумеется.
Маленькая леди и здоровяк. Всего одно прилагательное может описать целого человека.
Французский язык может быть таким жестоким.
Я всегда наивно надеялась, что французы не смеются над чем-то настолько глупым, как размеры. Я надеялась, что Жак – это единственное дерьмовое исключение из правил французского великодушия. Я всегда думала, что они скорее будут говорить о манерах за столом или о моде, чем начнут насмехаться над чьим-то весом. У Леви три прокола: никаких манер за столом, спортивки и толстовки, которые больше, чем нужно, на несколько размеров, и он неимоверно крупный.
Я ненавижу саму себя, беспокоясь о том, что подумают эти парни. Я ненавижу себя за то, что хотела бы, чтобы Леви соответствовал мне, чтобы я выглядела лучше перед – хм – милыми парнями. Я стольким жертвовала ради парней и для чего? Для того, чтобы я могла себя чувствовать некомфортно, но достойно в глазах лузеров, которые насмехаются над иностранцами?
Я ужасный человек.
Мы гуляем после того, как выходим из «Блинчиков для вас». Улица заполнена ресторанами, и сквозь окна я вижу радостных посетителей. Я чувствую, что мне нужно двигаться, бежать, вытравить из себя того человека, которым я была всю жизнь. Сотрите эпизод в блинной из моего ума.
– Итак? – бормочет Леви. Он уже доел блины, и от них осталась только пара крошек у него на губах. – Что будем делать сейчас?
Солнце только что село. Огни Парижа светятся вокруг нас. Легкий ветерок поднимает волоски на моих руках. Это наша первая ночь в Париже. Мы должны найти что-нибудь интересное.
И вот тогда я вижу плакат на автобусной остановке: «Louvre La Nuit!». Уберите первую букву L и получится «ouvre la nuit» – открыто всю ночь. Слова, которые теперь застряли у меня в голове.
– Леви, – отвечаю я брату, показывая на плакат. – Туда, мы идем туда. В Лувр.
Глава 10
Станция метро называется очень точно – Пале-Руаяль – Мюзе-дю-Лувр, и выходит прямо в подземный холл музея. Мое плохое настроение от предыдущего инцидента ни капли не изменилось. Только теперь у меня еще и кружится голова.
– Черт побери, – говорю я, смеясь. – Леви, это он. Лувр.
– О да, – бормочет он, рассматривая знаменитую пирамиду, которая возвышается над холлом.
Помещение розового цвета, и в нем стоит полумрак, как на банкете. Вокруг толпятся люди, которые фотографируют и позируют. Один мужчина держит огромный iPad и снимает весь холл. Две девушки, тесно прижавшись лицами к друг к другу, держат телефон на расстоянии вытянутой руки. Они постоянно меняют положения головы, вытягивают губы «уточкой», не переставая смотреть на экран мобильного. Это занимает у них несколько минут, прежде чем, они, наконец, делают фотографию, а затем, оценив, удаляют ее и начинают позировать заново.
Я тянусь за своей камерой, но вдруг понимаю, что оставила ее на столике в номере. У меня с собой есть только мобильный телефон. Я беру его и…
Леви закатывает глаза:
– Аа-а-а-а, не фотографируй этой штукой. Если ты превратишься в одного из этих гребаных неудачников, то я не буду с тобой разговаривать всю долбаную поездку.
– Это Лувр, Леви. Я хочу, чтобы у меня осталось что-то на память.
– Так запомни это в голове. У нас есть такая штука как мозг, Кейра, который может запоминать разные вещи. И ты должна попытаться его использовать.
Я держу телефон в руке. У меня нет зависимости от телефона, но я люблю делать снимки важных для меня вещей. Лувр? Необходимо сфокать! А он собирается закатить истерику по этому поводу? Если я послушаю его и мы пройдем через это без его слез, топтания ногами и криков, то я закончу тем, что когда-нибудь буду сидеть у себя в комнате, понимая, что однажды я была в Лувре, но не имею никаких подтверждений, чтобы доказать этот факт даже самой себе. Воспоминания исчезнут, и однажды эта ночь растворится для меня как сон.
Передо мной выбор: сделать Леви счастливым или променять его на фотографии.
Я кладу телефон на дно сумки, и мы с Леви становимся в очередь за билетами. Он прав: если я буду смотреть на Лувр через камеру своего телефона, а не своими глазами, то пожалею об этом.
Я не знаю, происходит ли это под действием впечатления от невероятной красоты искусства и архитектуры, или это связано с перелетом на самолете, но у меня такое ощущение, что я иду по Лувру, будто находясь в тумане во сне. Некоторые люди просто блуждают по коридорам, другие же целенаправленно куда-то идут. Согласно карте музея, которая непонятным образом оказалась у меня в руках, здесь находится примерно миллион залов и выставок, куда мы можем пойти, и всё это крайне интересно: греческие, этрусские и римские древности. Египетские древности. Ближневосточные древности. Отдел, посвященный истории самого Лувра, где можно спуститься ниже и увидеть, что осталось от рва старого дворца. Зал галереи Денон, наполненный произведениями Караваджо и Рембрандта, и отдельное крыло для да Винчи.
Это поднимает мне настроение. Я толкаю Леви и показываю ему на знак с силуэтом Моны Лизы, который указывает путь к Джоконде.
– Пойдем и найдем ее?
Леви пожимает плечами. Я расцениваю это как утвердительный ответ.
Лувр долго очаровывал меня – я отлично понимаю, что не только меня, но и все остальное человечество, – но я всегда воздерживалась от покупки какой-нибудь огромной книги с фотографиями всех коллекций. Я хотела быть впечатлена, когда, наконец, доберусь до музея. Когда мы входим в пещерный зал, пройдя до этого по бесконечной лестнице, я понимаю, что все это того стоило.
На вершине лестницы расположена огромная статуя. Судя по крыльям, это ангел, хотя ему не хватает головы и рук. А еще это женщина-ангел: ее грудь выставлена вперед, а позади развевается платье. Мне сложно убедить себя, что она сотворена из камня, а полы ее одеяния не треплет настоящий ветер. Статуя ослепительна.
Люди толпятся около статуи и обходят ее по кругу. Часть посетителей на пару мгновений останавливаются перед ней, чтобы бегло осмотреть ангела, но большинство просто проходит мимо. Я шагаю вперед. Мне нужно, как минимум, узнать ее имя.
Надпись гласит: НИКА САМОФРАКИЙСКАЯ. БОГИНЯ НИКА. НАЙДЕНА НА ГРЕЧЕСКОМ ОСТРОВЕ САМОТРАКИ.
– Как кроссовки, – монотонным голосом говорит Леви.
Я закатываю глаза.
Рядом с табличкой есть стеклянный футляр, в котором лежат потрепанная каменная рука и пара крошащихся кусков.
– Предполагают, что это должно быть ее правой рукой, – читает Леви надпись около каменных остатков. – И некоторыми кончиками ее пальцев. Откуда они, черт побери, это знают? У нее нет рук!
– Найдено на том же месте спустя восемьдесят семь лет, – читаю я.
– Это ничего не значит.
– Найдено на том же месте, подходит по форме…
– Как это может подходить? У нее нет рук!
– Леви, это просто наука. Очевидно, они провели углеродный анализ, и возраст камней совпал.
– Ты хоть знаешь, что такое углеродный анализ? – спрашивает Леви.
Я не знаю. Но Леви это знать не обязательно.
– Леви, это Лувр, – вместо ответа на его вопрос говорю я. – Они не станут выставлять нечто, в происхождении чего они не уверены.
– Откуда тебе знать?
– Потому, что это – Лувр. К сведению, всего лишь один из самых знаменитых музеев на планете!
– Да, и это значит, что они могут выставлять кучу фальшивых артефактов, и никто не поставит это под сомнение, – возражает мой братец. – Все просто это проглотят, притворяясь настоящими ценителями искусства. Идиоты.
Мне интересно, понимает ли он, что мне крайне неприятно, когда он оскорбляет группы людей, к числу которых я отношу и себя. Это было легко пропустить мимо ушей, когда мы были маленькими, ведь Леви был типичным маленьким братцем, которому не нравилось все, что нравилось мне. Теперь, когда мы практически взрослые, иногда кажется, что это может быть реально.
Я хватаю его за рукав и тяну в сторону.
Остальная часть Лувра не что иное, как огромный зал, весь из камня, одно сплошное произведение искусства. Теперь мы находимся в мире позолоченной лепнины и гениальных фресок. Вдоль стен висят картины. Мы продолжаем быстро двигаться к залу с Моной Лизой, потому что, когда я останавливаюсь и смотрю на что-либо хотя бы дольше секунды, Леви начинает рычать как животное. Это задевает меня, потому что я должна проходить мимо статуй и картин, которые я хочу внимательно разглядеть, и в которых хочу раствориться.
Теперь я понимаю, что чувствует мама, когда она вынуждена проходить мимо красивых вещей. Это мамин книжный клуб, поездки в спортзал, ее время для игры в «Камни Зендара». А еще те вещи, которые ей очень нравятся в антикварных магазинах, или одежда из «Target», которую она возвращает на следующий день после покупки, чтобы оплатить медицинские счета Леви. Должно быть, она чувствует, что вся ее жизнь – это одна большая жертва.
Я прохожу мимо огромного, размером во всю стену, полотна Караваджо, и мое сердце хочет выпрыгнуть из грудной клетки.
Проход к Моне Лизе нам преграждает огромная очередь.
– Что тебе нравится в Моне Лизе? – спрашиваю я у Леви, пока мы стоим в человеческой «пробке».
Леви пожимает плечами:
– Я думаю то, что ее написал сам Леонардо да Винчи. Он величайший гений, который когда-либо жил.
– Ага, – соглашаюсь я. – Но в самой картине?
– Я не знаю. Она выглядит мило. И она просто известна и все такое, – отвечает Леви, искоса поглядывая на меня. – Что еще ты хочешь меня спросить?
– А что еще ты хочешь сказать?
– Ничего, – Леви встает на цыпочки и недовольно спрашивает: – Боже, неужели все забыли, как передвигать свои ноги?
– Ш-ш-ш… – шиплю я.
– Я хочу, чтобы они меня услышали. Тогда они, возможно, начнут шевелиться…
Мой брат дает другим еще больше причин, чтобы ненавидеть американских туристов. Я извиняюсь за брата перед мужчиной, который бросает на Леви недовольный взгляд. Мне хотелось бы объяснить каждому, что у моего брата аутизм или что-то в этом роде, но я не хочу делать это так, чтобы Леви выглядел ненормальным. Я не хочу быть гребаным доктором Пирсоном.
Нам потребовалось двадцать минут, чтобы продвинуться на такое расстояние, с которого была видна картина. Леви стонет, рычит и нервно трогает свои ноги.
– Боже, можем мы просто пойти? – жалуется он.
– Ты не хочешь взглянуть на картину?
– Не так сильно! – Кто-то, проходя мимо, задевает его, и Леви кидает на него недовольный взгляд. – Фу, здесь воняет ржавыми гвоздями и пердежом.
Я фыркаю. Он хмурится еще сильнее.
– Потерпи немного, ладно? Мы почти на месте.
В двадцати футах от нас сквозь толпу я улавливаю проблеск Моны Лизы и окончательно осознаю причины такого людского столпотворения. Ее всепонимающая улыбка заставляет вас замереть на своем пути. Прекрасная – это не то слово. Больше подходит…
– Elle m’arrête, – по соседству, смеясь, говорит француженка своему компаньону.
Она приковывает к себе. Она поглощает меня. Да. Завораживающая. Вот нужное слово. Я представляю себе всю историю, которая, должно быть, прошла перед ее нарисованным взглядом. Она долгие годы смотрела в лицо да Винчи, затем на протяжении веков видела глаза своих коронованных владельцев и бесчисленных смотрителей. Потом глаза воров, а затем, наконец, глаза людей, которые приезжают со всего мира, чтобы взглянуть на нее. Миллионы глаз, должно быть. А может и больше.
Какой эффект произведут эти глаза на Леви? Если он чувствует хоть немного того трепета, который ощущаю я… Я представляю, как исчезает хмурое выражение его лица, как эти карие глаза теряют гнев и разочарование, и его лицо на мгновение становится умиротворенным.
– Ты видишь ее? – шепчу я Леви.
Я смотрю на него. Он выглядывает над головами людей с выражением безразличия на лице.
– Она выглядит точно, как на картинках.
Совсем нет. Цвета темнее и глубже, да и контраст более выразительный. Если Леви этого не видит, значит, она определенно не впечатлила его и не принесла ему никакого покоя.
– Пойдем, – говорит Леви, резко дергая меня за рукав. – Сейчас.
Он очень сильно сжимает мою руку чуть выше локтя. Леви тянет меня, и я поворачиваюсь и бросаю еще один быстрый взгляд на картину. Если я была бы одна, то стояла бы часами перед этой картиной, ни на секунду не отрывая от ее глаз свой взгляд. Но нет, только Леви всегда получает то, что хочет. Он всегда решал, когда нам уходить с площадки, когда стоило прекратить кататься на санках, коньках или плавать. Его терпение заканчивалось, и мама собирала наши вещи, несмотря на то, что я совсем не хотела уходить. Я была единственной, кто испытывал страдания в те времена. Мама всегда старалась минимизировать мучения Леви. А мне постоянно приходилось с тоской наблюдать через заднее окно за весельем других.
Он тащит меня обратно в главную галерею, в которой немного меньше людей. Видимо, все собрались около Моны Лизы. Когда мы оказываемся в холле, Леви замедляет шаг. У него все еще злобное выражение лица, но теперь, когда толпа уменьшилась, ему должно стать лучше.
– Так… – говорю я. – Что мы собираемся делать дальше?
Через некоторое время лицо Леви смягчается, а его сжатая челюсть расслабляется.
– Посмотрим на египетские штучки, – отвечает брат. – Это должно быть интересно, так как у Франции есть стояк на Египет.
Я фыркаю от смеха:
– Это точно.
Отдел с египетскими древностями занимает несколько этажей, один из которых находится под землей. Все комнаты огромные и просторные, стены сделаны из светлого камня. Помещения почти пусты, если не считать парочки заблудших сюда посетителей. Огромный сфинкс возвышается в первом зале.
– Египтяне постоянно улыбаются, – говорю я.
– Расистский подход, – монотонно отвечает Леви.
Я смеюсь:
– Я про искусство. Сфинксы, маски, божества. У них постоянно эта… ухмылочка, понимаешь?
– Они неимоверно жуткие, – говорит Леви.
Сфинкс улыбается, взгляд устремлен вперед, будто он ждет… чего-то.
– Ага, – подтверждаю я, – полностью согласна.
Леви шагает по лестнице в другое помещение с египетскими древностями. Я следую за ним, оглядываясь через плечо. Сфинкс все еще улыбается, смотря вперед. Все еще ждет.
В соседней комнате нас окружают стеклянные шкафы, наполненные одеждой и керамикой. Мой взгляд привлекают высокие тонкие вазы с выгравированными полосками. Табличка с информацией гласит, что они на тысячу лет старше Иисуса. Леви уставился на какую-то стеклянную витрину, стоящую на противоположной стороне зала. Он молчит, когда я рассказываю ему о горшках, изготовленных еще до появления Иисуса, и продолжает рассматривать что-то в витрине.
Это мумия. Ее руки скрещены на груди. По моему позвоночнику пробегает дрожь. Я всегда ненавидела мумии. Любила Древний Египет и ненавидела мумии. Это началось с поездки в шестом классе, когда моя подруга Кэти решила взглянуть на самую уродливую мумию, которую Египет оставил человечеству. На долгие года у меня сохранился в памяти образ высушенной кожи и пустых глазниц. Та мумия была ребенком. Я испытывала двойственные чувства – одновременно испуг и искреннюю жалость.
А эта мумия была другой. Она прекрасно сохранилась и выглядит так, будто ткани мумифицировались только вчера. Если бы вы разжали ее пальцы, то они наверняка оказались бы гибкими, но с железной хваткой. У мумии отлично сохранились бицепсы и мышцы на ногах. Если не брать в расчет стеклянную витрину, то можно было бы сказать, что это просто переодетый человек, который ждет момента, чтобы выпрыгнуть и напугать нас.