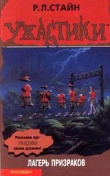Текст книги "Топографии популярной культуры"
Автор книги: "Правова група "Домініон" Колектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Лабиринт в перспективе мифопоэтики
Появление первой жертвы сопровождается кровавой надписью убийцы: «Montréal – pandemonium». Эта надпись получает объяснение: «Пандемоний – столица ада, город павших ангелов на горе из лавы». Таким образом, за социально-криминальным сюжетом возникает символический образ города порока и преступления, «города над бездной и города-бездны» (Топоров 1987: 122) – Вавилона, Содома, Гоморры. Убийства – суть «очищения» греховного города перед началом Евхаристического конгресса, которые принимают форму «ветхозаветного жертвоприношения». Монреаль – это «ад на земле», преисподняя, которая раскрывает свое настоящее лицо в двоящемся пространстве: в наземном преступном Red Lights и связанном с ним городском водостоке-лабиринте, где прячется квебекский потрошитель.
Блуждания героев Добра под землей в поисках логова «Минотавра» – потрошителя приобретают смысл мифологического поиска «выхода из лабиринта», инициации. Два раза Этьен Монестье оказывается под землей в скрытых обиталищах зла – в карцере монреальской тюрмы (скудный свет в камере, идущий сверху, указывает на то, что помещение находится под землей) и в помещении городского резервуара (Матильда уточняет, что этот резервуар находится «под церковью, но она сгорела и в нее не попасть»). Дважды Камий спускается в тоннели подземного Монреаля: с Боайе, которому не суждено быть Тесеем, и поэтому находит «ложный» выход, не достигая центра лабиринта, и второй раз – одна, решая любой ценой спасти Монестье. В процессе этих блужданий появляется связанный с пространством церкви мотив «псевдосмерти», который обычно предшествует «открытию высшей истины и символическому воскрешению» (Ямпольский 1996: 90).
Роль Тесея в сериале принадлежит женщине (Камий), что отражает актуальность гендерной проблематики («женский вопрос», домашнее насилие, материнство и сексуальность). Несмотря на принадлежность картины к формату сериала, большинство визуальных решений в нем вполне кинематографичны, на что обращают внимание и авторы первых журнальных рецензий о фильме (Morissette 2009). Ярким примером сложности визуального ряда сериала является один из кадров 7-й серии. Кадр показывает одну из мизансцен преступления в музее. Камера медленно движется по восковым фигурам; в конце кадра видна неподвижная Камий, которая сидит на краю кровати, рядом с манекенами. Девушка выглядит как одна из них. Данное визуальное решение поддерживает развернутый семантический ряд сериала, строящийся на связи нескольких элементов – труп – кукла – женщина. В контексте этого ряда лабиринт приобретает новое метафорическое соответствие – женское тело. Женское тело сохраняет тайны, материализует женскую греховность, на телах молодых женщин убийца «пишет» свои послания и оставляет свою «подпись». Доктор Боайе «читает» код тела, превращая аутопсию в дешифровку телесных знаков. Женское тело в сериале подвергается всяческой деформации – болезням, абортам, избиению, вскрытию. Монреаль в сериале не просто большой город, это город с мужским лицом и характером. В нем женщина принимает все возможные роли жертвы – в семье, в любви, в обществе. Исходя из этих предпосылок сюжет можно рассмотреть в гендерно-психологическом ключе как поединок Женщины с Городом. Камий Корваль выигрывает маленькие «сражения» на пути к цели – быть замеченной и оцененной в мужском мире.
Лабиринт и интертекст
В комментарии к роману «Имя розы» Умберто Эко отмечает: «Так мне открылось то, что писатели знали всегда и всегда твердили нам: что во всех книгах говорится о других книгах, что всякая история пересказывает историю, уже рассказанную» (Эко 2007: 608). «Музей “Эдем”» – тоже «рассказ об уже рассказанном», и в нем переплетается множество аллюзий и ссылок на разные литературные стили, произведения, сюжеты. В сериале функционирует сложно структурированный пласт из аллюзий и цитат, повторений «ситуации, мотива, материала, литературно окрашенных, узнаваемых» (Ранчин 2004). По мнению специалистов, на историческое формирование франкоязычной канадской литературы оказали влияние три важных фактора: французский романтизм, канадская политическая журналистика и труды по национальной истории (Eрофеев 1991: 569). Все эти три фактора обыгрываются на уровне «литературного» пласта сериала. Произведения французской литературы присутствуют в тексте сериала в разной форме – от аллюзии до прямого цитирования.
Кроме отсылок к литературе натурализма (связь персонаж – город), в сериале можно обнаружить и другую аллюзию «натуралистического происхождения»: после судебного процесса Симон Трамбле (Jean Petitclerc) умирает от отравления газом. В кончине героя угадывается смерть Эмиля Золя, которая произошла после процесса Дрейфуса. А обвинительное письмо Монестье из тюрьмы напоминает письмо Золя «Я обвиняю» – «Я обвиняю убийц Сантини…».
Приезд сестер-провинциалок в Монреаль связан с характерной предметной деталью. Во время первой встречи Камий и Флоранс (Laurence Leboeuf) с мэтром Бельмаром (Jacques L’Heureux) они несут клетку с птичкой, которая потом занимает видное место в доме Феликса Корваля. При своем первом посещении Виктор убивает птичку, а до этого объявляет о мнимой смерти Камий в газете. Связь между судьбой героини и птичкой обнаруживает еще одну интертекстуальную параллель. В литературе французского романтизма подобная метафоризация женской судьбы встречается в «Вечном Жиде» Эжена Сю, где сестры Роза и Бланш сравниваются с «прелестной парой птичек»[12]12
«Итак, прелестная пара птичек, прозванных неразлучницами, может жить только общей жизнью, и она печалится, страдает, отчаивается и умирает, когда варварская рука разъединяет их друг с другом» (Сю 1993).
[Закрыть]. В «Парижских тайнах» гризетка Хохотушка поет вместе с пташками в клетке[13]13
«Несмотря на веселые проделки солнечного луча, обе пташки – и кенар и канарейка – с тревожным видом порхали в клетке и, против обыкновения, не пели. Дело в том, что Хохотушка, против обыкновения, тоже не пела» (Сю 1989: 224).
[Закрыть]. У Дюма влюбленная Жюли Моррель представлена рядом с щебечущими птицами в вольере[14]14
«На пороге, приветствуя графа, стояла Жюли, должным образом одетая и кокетливо причесанная (она ухитрилась потратить на это не более десяти минут!).
В вольере весело щебетали птицы; ветви ракитника и розовой акации с их цветущими гроздьями заглядывали в окно из-за синих бархатных драпировок, в этом очаровательном уголке все дышало миром – от песни птиц до улыбки хозяев» (Дюма 1977).
[Закрыть].
Модель подземного лабиринта отсылает к роману В. Гюго «Отверженные». Париж как город порока и страдания находит соответствие в образе апокалиптического Монреаля 1910 года. Сходство французского и квебекского топосов – в их амбивалентности: промышленная революция и экономический рост, с одной стороны, эксплуатация и нищета, с другой. Образ города обнаруживает двойную перспективу, представленную видимостью и сущностью, материальностью и фантомностью, реальной топографией и мифологией. Можно обнаружить целый ряд соответствий в образах подземного Парижа у Гюго («Отверженные»), Бальзака («Шагреневая кожа») и подземного Монреаля. Подземелья двух городов идентифицируются с катакомбами христиан, в них сочетается символика тьмы и света, герои обнаруживают знаки древних ископаемых – микромодель лабиринта (Ямпольский 1996: 93–96). Мотив древних ракушек трансформируется в мотив фосфоресцирующих ракообразных, которые помогают героям выйти из лабиринта. Если авторы середины XIX века – Бальзак, Мери, Берте – максимально расширяют семантику мотива, доводя его до метафоры памяти, то у Дежардена этот мотив претерпевает обратное движение к семантическому сужению, которое осуществляется уточнением доктора биологического вида ракушек – ostracoda cyrpridina – и его объяснением их «чужеземного» происхождения – «мой кузен регулярно присылает их мне из Японии».
У Гюго и Бальзака лабиринт становится метафорой памяти человечества и потерянного праязыка (Ямпольский 1996: 93–96), а герои сериала проходят через тайные лабиринты слова, чтобы победить вавилонское многоязычие Монреаля и найти ключ к пониманию Другого. Расхождение между словом и правдой, между восприятием и реальностью, между знаком и денотатом оказывается огромной проблемой для героев. Каждый персонаж говорит на своем собственном языке, в котором невербальные средства всегда надежнее вербальных. Самые потрясающие открытия в сериале возникают благодаря нетрадиционным формам письма: тайнописи (рассказ о жизни матери Альфонсин в требнике), стенографии (дневник Люси Бальдюк), эзотерическим надписям (формулы экзорцизма с креста святого Бенедикта), редкой религиозной книге («Жизнь и смерть католических святых»), татуировкам, картам города. Диалоги часто порождают эффект quiproquo. Медицинская терминология Боайе является почти невыносимой для судьи Боте (Benoît Brière). Доктор относится с явным недоверием к патетическому «детективному» лексикону Дажне. Стихам Эмиля Неллигана (Émile Nelligan) – «канадского Рембо»:
Монестье отвечает журналистской гипотезой о новом убийстве. Таким образом, язык как средство коммуникации оказывается дискредитированным и ненадежным – вариант концепции постмодернизма о «кризисе языка» (Седакова 2001).
В сериале разные культурные, литературные и дискурсивные слои комментируют и цитируют друг друга. Размещение детективного сюжета в историческом контексте восходит к целому корпусу текстов последних десятилетий. Возможны параллели с романом «Имя розы» (учения святого Франциска и святого Бенедикта, библиотека как лабиринт познания, концептуализация образа палача).
Хотя постмодернисты далеки от морализаторства и высказывания последних истин, они делают предметом рассмотрения в своих произведениях такое социально-психологическое явление Нового времени, как страх. Страх меняет свое лицо и выбирает самую неожиданную маску – средневековую, имперскую, эзотерическую. Но в действительности это только очередной эскиз к картине его «вечного возвращения». И преодоление этой «эпидемии», этой психологии «осажденной крепости» (Лотман 1998) разные авторы видят по-разному – через игру, смех, память…
Сериал «Музей “Эдем”» тоже предлагает «лекарство» от этой болезни. Финал фильма – цитата из статьи Этьена Монестье, посвященной захвату монреальского Потрошителя: «Потрошитель почти два месяца держал в страхе город, и пострадали не только его несчастные жертвы. Целое поколение молодых женщин, полных уверенности и надежд на будущее, каждый день проводили в страхе и тревоге. Этот страх – враг прогресса, и я уверен, что Потрошитель действовал сознательно. Надеюсь, женщины нового века никогда не станут жертвами столь жутких преступлений». В этих словах кульминация сериала, его цивилизационный смысл, который противопоставляет инертности религиозного фанатизма и социального произвола активность героя Нового времени – рационального, предприимчивого, просвещенного. Герой принимает вызовы преодолеть страх и найти выход из его «лабиринтов» в начале очередного нового века.
В сериале лабиринт становится поливалентной моделью строения постмодернистского текста. Он распространяет свое влияние на разные коды сериала: пространственный, предметный, телесный. Но все его семантические «разветвления» в какой-то мере связаны с многогранным образом Города. Сама фабула также организована по принципу лабиринтной многослойности и многозначности – в ней взаимодействуют криминальный, исторический, мифопоэтический, интертекстуальный слои. Новизна использования модели лабиринта связана с созданием двух амбивалентных концентрических топосов: топоса музея, превращающегося в концептуальное средоточие нарративного и визуального ряда, и топоса Монреаля – большого города, прочно связанного с европейской культурной традицией, но и экзотического в историческом и географическом планах. В них проецирована диалектика хаоса и порядка, одиночество индивида и социальный утопизм, линейность истории и бесконечность бытия.
Этой двойной концептуализацией основных топосов сериала его авторы достигают двойного эффекта: успешно объединяют стилизацию и занимательность популярного формата и семантическую углубленность художественного кинематографа. Таким образом, «высокий» урбанизм классического романа (романтизма, натурализма, викторианской эпохи), свидетельствующий о значимости национальной и европейской культурных традиций, сочетается в сериале с «экзотическими» территориями популярной культуры. На этом скрещении возникает полифункциональный, гетеротипический образ города, в котором «все остальные места культуры обозначаются, отражаются или рефлектируются» (Фуко 2006: 195).
Модель лабиринта оказывается структурообразующим принципом сериального «текста», клубком смыслов, ризоматическим «сгустком» в хаотическом мире, «потерявшем свой стержень» (Делез, Гваттари 2005).
Финальные кадры замыкают фабульное кольцо сериала. Он завершается на той же самой улице перед музеем, но впервые она освещена солнцем и на ней встречаются три пары влюбленных героев. Они смеются, они счастливы. Однако последний кадр выхватывает на мгновение лицо Виктора Дезиле, чтобы напомнить о том, что Зло неистребимо и что выход из лабиринта может оказаться неокончательным.
Литературная ситуация проникновения постмодернистской поэтики в жанр исторического романа рубежа веков (Белова 2013: 8–9) воспроизводится в последние десятилетия и в формате телевизионного сериала. Исторические детективы все чаще демонстрируют постмодернистскую игру аллюзиями и клише на фоне доминирования городского топоса, его превращения в «тотальное пространство», в мир (Кук 2002: 6). Город в историческом телевизионном детективе становится «котлом текстов и кодов» (Лотман 2000: 325), «заколдованным местом», лабиринтом смыслов и сюжетов, где порядок уступает место хаосу. Топос города генерирует ожидаемый динамизм криминального сюжета, предоставляя новые и новые ситуации для его событийного ряда. С другой стороны, он углубляет семантическую многослойность данного сюжета своим историческим, мифологическим, визуально-символическим ореолом.
Литература
Аверинцев С. С. Рай // Мифы народов мира. М.: Олимп, 1992. Т. 2. 364.
Байбурин А. Этнографический музей: семиотика и идеология // Неприкосновенный запас. 2004. № 1. 81–86.
Белова Н. А. Исторический детектив // Вестник угроведения. 2013. № 3 (14). 8–12.
Блекледж О. Телевизионный город – город без референтности // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2010. № 2 (70) (март – апрель). 215–222.
Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Восток. 2005. № 11/12. http://www.situation.ru/app/j_art_1023.html [Просмотрено 31.01.2014].
Дюма А. Граф Монте Кристо. Т. 1. М.: Художественная литература, 1977. http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00322971226482776671/page/38/ [Просмотрено 25.01.2013].
Ерофеев В. В. Литература на французском языке: канадская литература второй половины XIX в. // История всемирной литературы: В 8 т. М.: Наука, 1983–1994. Т. 7. 1991. 569–571.
Зоркая Н. Чары многосерийности // Многосерийный телефильм. Истоки, практика, перспективы. М.: Искусство, 1976. 21–37.
Керн Г. Лабиринт: основные принципы, гипотезы, интерпретации // Лабиринты мира. СПб.: Азбука-классика, 2007. 7–33.
Кук Ф. Модерн, постмодерн и город // Логос. 2002. 3 (34). 1–18.
Лотман Ю. М. Выход из лабиринта. 1998. http://www.philology.ru/literature3/lotman‐98.htm [Просмотрено 5.03.2013].
Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры. Статьи по семиотике и типологии культуры // Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. 377–380.
Лотман Ю. М. О семиосфере. Статьи по семиотике и типологии культуры // Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. 12–25.
Лотман Ю. М. Символические пространства // Семиосфера. СПб., 2000. 297–335
Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. 251–292.
Маркулан Я. К. Зарубежный кинодетектив. Классический детектив: поэтика жанра. М.: Искусство, 1975. http://www.detective.gumer.info/txt/markulan.doc [Просмотрено 22.04.2014].
Оже М. От города воображаемого к городу-фикции // Художественный журнал, 1999. № 24. http://www.guelman.ru/xz/362/xx24/x2402.htm [Просмотрено 23.12.2014].
Поэты Квебека / Сост. М. Д. Яснов. СПб.: Наука, 2011.
Ранчин А. Романы Б. Акунина и классическая традиция: повествование в четырех главах с предуведомлением, лирическим отступлением и эпилогом // Новое литературное обозрение. 03/2004. № 67. 235–266.
Рубцов А. В. Архитектоника постмодерна. Пространство // Вопросы философии. 2012. № 4. 34–44.
Седакова О. Постмодернизм: усвоение отчуждения // Эссе. Poetica. 2001. http://www.olgasedakova.com/ [Просмотрено 25.07.2014].
Сю Э. Агасфер (Вечный Жид). Т. 1. 1993. http://az.lib.ru/s/sju_e/text_ 0050.shtml [Просмотрено 12.02.2013].
Сю Э. Парижские тайны. М.: Художественная литература. 1989.
Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. 121–132.
Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. 191–204.
Щербитко А. В. Роман У. Эко «Имя розы» – традиции и постмодернизм // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Филологические науки. Литературоведение. 2012. Вып. 4. 62–66.
Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Имя розы. СПб.: Симпозиум, 2007. 596–645.
Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна // Философия эпохи постмодерна. М., 1997. 52–74.
Ямпольский М. Б. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М.: Новое литературное обозрение, 1996.
Dictionary of Canadian Biography Online. Vol. XIII (1901–1910), 1994. www.biographi.ca/009004–119.01-e.php?id_nbr=6619 [Просмотрено 23.01.2013].
Le portail officiel de la Ville de Montréal. http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_fr/expo/maires/payette/index.shtm [Просмотрено 22.01.2013].
Montréal en 1910. http://www.musee-eden.radio-canada.ca/montreal‐ 1910/article/68/jules-fournier-journaliste-de-combat [Просмотрено 22.01. 2013].
Morissette N. «Musée Éden», une série d’époque tournée à Montréal // La Presse. 2009. 14 décembre.
Nelligan É. La belle morte // Emile Nelligan et son oeuvre. Montréal: Beauchemin, 1903. 33.
O’Connor T. Bourgeois Myth versus Media Poetry in Prime-time: Re-visiting Mark Frost and David Lynch’s Twin Peaks // Social Semiotics. 2004. Vol. 14. Issue 3. 309–333.
Soja E. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso Press, 1989.
Therrien R. «Musée Eden»: la surprise du printemps // Le Soleil. 2010. 24 février.
МОСКВА В РОССИЙСКОЙ МИДДЛ-ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО 2000–2010-Х ГОДОВ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Евгения Воробьева (Вежлян)
Цель нашей работы – рассмотреть, как представлена Москва в массовом кино и миддл-литературе 2000–2010-х годов, но интересовать она нас будет не просто в качестве описываемого или концептуализируемого исторического и географического объекта. Москва рассматривается нами в качестве пространства повседневных действий, осуществляемых в квазиреальности литературного произведения как в реальности прежде всего социальной.
Актуальный для нас подход к реальности литературного произведения обусловлен самой природой миддл-литературы. Термин «миддл-литература» подчеркивает системное место рассматриваемого явления – между литературой «элитарной», экспериментальной, делающей акцент на новизне, и «жанровой», «формульной», главной интенцией которой является работа с жанровыми ожиданиями массового читателя (см.: Чупринин 2004, а также: Черняк 2010: 17). Миддл-литература – это «качественная» литература, написанная с ориентацией на паттерны классической «реалистической» словесности и при этом избегающая устойчивых жанровых формул. Из этой «паттерновой» ориентации вытекает присущая ей содержательная усложненность и насыщенность «идеями» – философскими, социологическими и прочими объясняющими конструкциями и подтекстными отсылками. В сущности, миддл-литература и занимает место «просто литературы», «литературы-как-таковой» в поле читательской рецепции. В ее фокусе – современная читателю социальная реальность в многообразии ее форм и имеющих хождение на разных ее уровнях проблематизирующих концептов. Коммуникативная стратегия такой литературы заключается (даже при наличии лежащего в основе текста условного допущения) в размещении текста как бы непосредственно в пространстве актуальности, там, где сходятся вопросы и ответы, пересекаются основные линии дискурса. Она «рассказывает историю» и вместе с тем вступает в диалог с читателями, живущими «здесь-и-теперь».
Для этого реальность произведения должна обладать качеством узнаваемости, считываемости. Причем речь идет не о смысловом уровне произведения («что это означает?»), а о непосредственно денотативном («о чем идет речь»?), не о расшифровке переносного смысла «образов», а о прямом распознавании «вещей», складывающих континуум изображенной социальной (именно социальной – в силу того, что любое традиционно-сюжетное произведение предполагает изображение людей среди других людей) реальности. Задача анализа социальной реальности заставляет нас в поисках метода обратиться к инструментарию смежных дисциплин.
Рамка метода: порядок чтения и порядки действий
Социальная реальность литературного произведения, о которой пойдет речь, – результат некоторого процесса. В широком смысле этот процесс можно представить как процесс взаимодействия двух опытов проживания повседневности: повседневный мир, переживаемый и проживаемый героями литературного произведения, находится в точке пересечения воспринятого и пережитого автором и узнанного читателем повседневного опыта во всей совокупности составляющих его привычек, обычаев, рутинных практик и прочих обстающих каждого и обычно не вычленяемых из потока, не замечаемых вещей. Создаваемый таким образом план (или уровень) произведения обычно, как и его прототип, сама повседневность, не замечается – как нейтральный к смыслу, фоновый, нужный для создания «эффекта достоверности». И только по мере того, как произведение отодвигается от нас во времени и опыт читателя перестает совпадать с опытом автора, этот пласт текста выходит на первый план как затрудняющий восприятие и требующий реального комментария. Это уже является совсем другим режимом «работы взаимодействия», чем описанный нами выше. Его можно назвать режимом расподобления, или «вторичным». Нас же будет занимать первичный режим – режим «совпадения».
Для наиболее адекватного определения составляющих этот уровень элементов обратимся к социологии повседневности, а внутри нее – к теории фреймов. Повседневность в этой теории предстает как последовательность фреймов – отрезков, на которые членится социальная реальность (ее поток повседневных (взаимо)действий), – представляющих собой «матрицу совершающихся в пространстве и во времени событий и одновременно – схему их интерпретации наблюдателем»[16]16
Обращаясь к теории фреймов, мы здесь и далее имеем в виду не только работу Ирвинга Гофмана «Анализ фреймов», но и, причем в основном, «практическую» интерпретацию этого понятия, предпринятую Виктором Вахштайном.
[Закрыть] (Вахштайн 2011: 195). Фрейм – это понятие, позволяющее вычленить подобные матрицы внутри нерефлексивного поля практических повседневных действий. Это одновременно и когнитивная схема, позволяющая наблюдателю (и актору) соотнести данный фрейм с идентичными ему, и материальная граница, пространственно-временной «сигнал» начала и конца события (Вахштайн 2011: 196).
Мы исходим из того, что в произведениях миддл-литературы, которые мы и рассматриваем в данном исследовании, фоновый уровень изображаемой реальности возникает как следствие «фреймирования». Мы предполагаем, что автор в этой ситуации выступает как «актор» vs «наблюдатель», ибо позиции актора и наблюдателя в этой системе взаимообразны. Перенесение повседневности из внетекстовой реальности в текст можно тогда интерпретировать как рефрейминг, или трансформацию, – то есть перенесение события из одной системы фреймов в другую (Вахштайн 2011: 196). Чтение оказывается сродни наблюдению трансформированной реальности (общей для всех трех ее акторов: автора, героя и читателя), для которой контекстуальной «рамкой» является само произведение. «Узнавание» тогда основано на совпадении интерпретативных матриц.
Причем процедура узнавания также относится к области практик, как и процедура авторского «фреймирования», и оттого она представляет собой фоновый процесс. Читатель сосредоточен на том, как в «готовом» и «податливом» мире произведения разыгрывается главное – сама история героев. Если же какой-либо из «фоновых» элементов частных фреймов переносится в этот основной план внимания, то автор дает знать об этом переключении режима, оставляя в тексте знаки дополнительной сигнификации, того, что, помимо указания на денотат, элемент произведения должен означать и что-то еще.
Мы сосредоточимся на фиксации фона произведения и его описании, что предполагает особый режим чтения, при котором фон и «основной план внимания» меняются местами. Логика связи основных событий произведения будет элиминирована нами из рассмотрения и сам текст рассмотрен как цепочка микрособытий – локализованных в пространстве эпизодов, где «эпизод» понимается в означенном выше смысле – как отрезок повседневного опыта.
При таком режиме чтения пространство оказывается основной координатой произведения. Фрейм ведь по определению существует здесь и теперь. И, читая, мы передвигаемся от одного «здесь-и-теперь» к другому. Точнее, «теперь» эпизода, то есть его чисто техническая длительность, вложено в «здесь», то есть локус, в котором эпизод происходит. Место спаяно с неписаными (а иногда и кодифицированными) нормами и правилами поведения, режимами действия. Время же в его содержательной составляющей (субъективные длительности и разнообразное «тогда») относится уже к переключениям-сигнификациям.
При таком подходе Москва оказывается как бы таким «местом мест», или «суперфреймом». Сама фраза «я живу в Москве» подразумевает определенное сочетание множества порядков действий, которые в других локусах будут осуществляться абсолютно иначе. Москва задает, и довольно жестко, контекстуальные рамки своего изображения vs поведения внутри себя. Так же жестко она задает метаконтекст для всех происходящих внутри нее коммуникаций, заключая в себе различные тренсформирующиеся друг в друга системы фреймов и режимы изменений. Мы предполагаем, что общий порядок действий («ориентирование» внутри) невозможен, если речь идет о мегаполисе, вне представления актора об общей конфигурации пространства, предполагающей сигнификацию и объединение отдельных локусов. Кроме того, в этой умозрительной рамке имеет место и измерение, связанное с личной и коллективной памятью, координаты «тогда» и «теперь». Таким образом, наша первая задача – выявление этой рамки, определяющей ментальную конфигурацию Москвы в качестве пространства повседневных действий – проживаемого и изображаемого, и составление своего рода общезначимой картины города как целого с его системой маркеров и ориентиров, определяющих его членение на значимые части. Воспользовавшись в качестве продуктивной метафоры термином Кевина Линча (Kevin Lynch), эту конфигурацию можно назвать «ментальной картой» Москвы[17]17
Так понимаемый «город» оказывается в довольно сложных отношениях с концепцией «городского текста» и, в частности, если говорить о Москве – с концепцией так называемого «московского текста», рассматривающей Москву скорее не как «пространство», а как концепт, в пределе – как абстракцию, лишенную материального и социального измерения, что проблематизирует вопрос о существовании «московского текста» (см.: Люсый 2013).
[Закрыть] (см.: Семенова 2009).
Визуальная рамка: карта и конфигурация
Для того чтобы картировать рассматриваемое пространство, обратимся к анализу кинотекстов. Городское пространство в массовом кино визуализируется именно как нечто, что должно быть опознано зрителем. Значит, именно здесь мы и находим релевантный для массового сознания образ Москвы.
Для начала рассмотрим фильм Андрона Кончаловского «Глянец» (2007), который позволит нам выявить общую смысловую и временную рамку, задающую режим визуализации Москвы 2000-х годов. Фильм был создан в тот момент, когда так называемый «русский гламур» с его философией последовательного консюмеризма и культом статусного потребления действительно определял жизненные установки элиты и дрейфовал в более низкие страты. Героиня фильма приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в надежде на обретение «блестящей» жизни и с мечтой попасть на обложку глянцевого журнала. И ей даже удается войти в мир гламура. Но для нашего изложения важна не ее история, а финал и титры.
Финал разыгрывает две параллельных версии судьбы главной героини – крах и успех. Героиня стоит на замусоренном берегу маленького лесного озера и вымученно улыбается. Внезапно она видит себя маленькую и свою мать, еще молодую. Звучит песня «Незнакомая звезда» в исполнении Анны Герман. Смена кадра. В кадре – номера журнала Beauty с портретом героини. Музыкальный фон изменяется: звучит современный кавер песни Утесова «Дорогие мои москвичи». Под нее идут титры – на фоне кадров светской хроники с участием героини и ее богатого мужа, перемежаемых показом производственного цикла глянцевых журналов: печать, продажа, утилизация непроданных остатков. Мелко нарезанный журнальный мусор прессует и брикетирует специальная машина. Затем брикет цветной нарезанной бумаги, распадаясь, падает на землю. В этот момент музыка стихает. Потом дважды каркает ворона, тем самым подчеркивая переход из условного пространства глянца в реальное, куда проникают посторонние шумы. Мы слышим аккорды вступления к оригинальной версии песни «Дорогие мои москвичи», а затем и голос Утесова. Картинка сменяется бегущими титрами на темном фоне. Это – крайняя «рамка» фильма, переключающая зрителя из режима просмотра в режим повседневности
Аутентичная запись Утесова сигнифицируется здесь двояко: во‐первых, это прошлое, во‐вторых, нечто подлинное, противопоставленное симулятивным смыслам культуры потребления. Эти две «сигнификации» усилены еще и интертекстуально. Именно этой песней в этом исполнении заканчивается культовый для изображенного в фильме поколения «московский» фильм «Покровские ворота», и звучит эта песня в «Покровских воротах» тоже на развалинах изображенной в фильме жизни. Дом, в котором происходило действие, разрушается согласно «генеральному плану». Но в «Покровских воротах» это – естественный, встроенный в процесс жизни и героя, и его любимого города акт. «Москва молодеет, я старею», – говорит герой в своем лирическом речитативе, предшествующем титрам. Восьмидесятые, прорастающие многоэтажками, связаны с прошлым светлой ностальгией, ибо Нескучный сад, другие места юности героя все же – на месте, а стенобитное орудие не повредило старинный патефон и даже пластинку.
Судьба Костика явно «рифмуется» с судьбой девушки Гали из Ростова-на-Дону, героини «Глянца». Он тоже приехал «покорять Москву» да так и остался в этом городе, воплощая «основной тренд» своей эпохи. Но контраст с фильмом «Глянец» очевиден. Герой – аспирант, и среда, показанная в фильме, – это среда московской интеллигенции. Таким образом, визуализация современной Москвы предполагает своего рода «рефрейминговое сопровождение»: почти принудительное сравнение того, что происходит перед глазами, с «подлинным видом» пространства действия, с поведенческим каноном «жизни в Москве», находящимся в недалеком прошлом, в персональной исторической памяти каждого. Это прошлое – прошлое позднесоветское, которое задает концептуальную рамку восприятия современной Москвы.