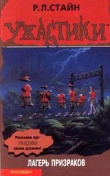Текст книги "Топографии популярной культуры"
Автор книги: "Правова група "Домініон" Колектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Непосредственно с публичным пространством имеют дело художники паблик-арта – современной художественной практики, предполагающей размещение искусства в городском/общественном пространстве. Современное искусство паблик-арт выросло из санкционированного монументального искусства, когда набор памятников демонстрировал доминирующие идеологические взгляды, отражающие наиболее важные общественно значимые события страны, конкретного места и их героев. Прежняя культурная политика, в содержание которой входили визуальные просветительские проекты, в первую очередь была представлена в центре: это и монументальная архитектура, и обязательный набор памятников (идеологических знаков по ведомству истории страны и ее героев). Жесткое зонирование и строгая маркировка пространства (культурно-деловой центр – промышленные зоны со спальными районами) остались в индустриальной эпохе. Социокультурное пространство социалистического города формировалось официальными властными структурами и не предполагало несанкционированных художественных акций.
Современные арт-практики, такие как стрит-арт, акционизм, в разной мере оппозиционны по отношению к официальной культурной политике и одновременно противостоят логике обывательского сознания. Художники активного действия понимают смысл и назначение искусства в традициях Бертольта Брехта. Антибуржуазность Брехта, который резко критиковал буржуазный театр развлечений, прослеживается в современных арт-практиках, полемизирующих с доминирующими установками современного мегаполиса – установками на потребление и наслаждение. В арт-практиках используются брехтовские приемы «отчуждения». Как пояснял Брехт, эффект отчуждения «состоит в том, что вещь, которую нужно довести до сознания, на которую требуется обратить внимание, из привычной, известной, лежащей перед нашими глазами превращается в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную. <…> Чтобы знакомое стало познанным, оно должно выйти за пределы незаметного; нужно порвать с привычным представлением о том, будто данная вещь не нуждается в объяснении. Как бы она ни была обычна, скромна, общеизвестна, теперь на ней будет лежать печать необычности» (Брехт 1965: 113). Критический пафос современных арт-практик на первый взгляд противостоит установкам массовой культуры в ее классическом понимании. Но сегодня становится ясно, что «мишенью для критики со стороны радикального авангарда были не власть и не рынок, а человечество в его тогдашнем актуальном состоянии. Конечно, эта критика распространялась и на актуальную тогда массовую культуру, но во имя более совершенной или, если угодно, утопической массовой культуры, носителем которой должно было стать более совершенное человечество» (Гройс). Современные актуальные художники отказываются от утопии. Работая в реальной городской среде, они обращаются к авангардным технологиям, не заботясь о создании нового человека. Так, брехтовский подход присутствует в работах уже упоминавшегося Тимофея Ради. Художник написал манифест уличного искусства «Все, что я знаю об уличном искусстве». Манифест был создан за сутки на огромной стене цеха высотой не менее 10 метров и длиной примерно 40–50 метров в новом Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге, расположенном на территории действующего завода. Сам Тимофей отмечал в своем блоге, что рабочие, идущие на обед, иногда замирали за чтением. Факт «замирания» и есть реализация «эффекта отчуждения», причем когда позже этот текст был воспроизведен на принтах в Третьяковской галерее, он продолжал «работать» в режиме неожиданности, так как смотрелся инородным в «намоленном» месте классического публичного пространства. Художник писал: «По большому счету, действительно важных вещей немного, сложность заключается в том, чтобы постоянно помнить о них» (Радя 2014). О чем предлагает помнить художник? Во-первых, что «весь наш внутренний мир связан с городом – эта связь происходит через глаза, уши, рот, нос и кожу. Мы по городу ходим и в нем спим. Умираем и живем. По отношению к человеку город играет роль, похожую на роль тела – ты всегда находишься внутри. И ты не всегда помнишь об этом…» (Радя 2013). Во-вторых, предлагая антропоморфную модель города, он напоминает о необходимости новой оптики взгляда на город: «Как люди живут в городах? Как города живут в людях? В другом городе или другой стране замечаешь гораздо больше, все вокруг новое и интересное. Стоит сделать такими свой дом, свою улицу. Изменение привычной, простой, давно знакомой вещи рождает самое сильное чувство». Появление произведений стрит-арта в публичных пространствах воздействует на смену оптики обывателя. Так, московский художник Павел Пухов, работавший под псевдонимом Паша 183, приехав в Екатеринбург и увидев закрытый магазин «Академическая книга», оставил лаконичный арт-объект, своеобразное послание-эпитафию «Все помним – все скорбим».

«Все помним – все скорбим» © Лилия Немченко
Этот плакат на окне неработающего магазина стал своеобразной книгой памяти не только об уходящей натуре, но и о связанной с ней культуре. Избранная риторика отсылает нас к патриотическим текстам на мемориалах, открыткам к Дню Победы и прочим официальным фигурам речи. Однако в данном случае эти слова, воспроизведенные на «мирном» объекте, оказываются способными обнаружить неочевидные утраты: от локально-региональных до глобальных. Магазин «Академическая книга» на улице Мамина-Сибиряка находился рядом с главным корпусом Уральского государственного университета (вуз сейчас тоже сменил название, став Уральским федеральным университетом). «Академическая книга» была местом не только функциональным; это было место встречи и коммуникации представителей академической среды, студенчества, городской интеллигенции. Это было место, где сглаживалась иерархическая разница между научной элитой и обывателями, профессурой и студентами. В нем наглядно (наглядность – свойство публичного пространства) присутствовало интеллектуальное сообщество города. Наличие в городе магазина «Академическая книга» в советское время – указание на наличие и ценность университетского мира. Закрытие магазина – акция не только экономическая, она символически представляет собой акт прощания с эпохой Гутенберга, с демократическим интеллектуальным сообществом, с местом рождения смыслов.
Арт-практики часто выполняют функцию реанимации памяти, причем памяти не абстрактной, а связанной с конкретным местом. Среди таких объектов можно назвать проект Тимофея Ради «Вечный огонь», созданный им на стенах заброшенного военного госпиталя, который во время Великой Отечественной принимал раненых. Проект создавался 22 июня 2011 года, для него были найдены четыре фотографии уральских солдат и два безымянных фото. Еще одним материалом этого проекта были бинты (указание на место госпиталя и атрибут оказания помощи), разная плотность бинтов после их обжигания создавала разные тона рисунка, портреты превращались в динамические фигуры, что создавало ощущение мерцающего, преследующего опыта.

«Вечный огонь» © Тимофей Радя
К этой же прагматике привлечения внимания к месту обращался архитектор Эдуард Кубенский, приготовивший в 2012 году к официальному празднику «Ночь музеев» не санкционированный управлением культуры администрации города проект «Кладбище домов». Погост из 85 памятников (самых дешевых, синего металла) расположился в центре города около Центральной областной публичной библиотеки имени В. Г. Белинского. На каждом памятнике – овал с фотографией уничтоженного дома. На каменной стене – огромный стилизованный овал с указанием 85 адресов с уничтоженными памятниками.
Кладбище расположилось на пути следования нескольких троллейбусных и автобусных маршрутов, на улице, поэтому увидеть его могли и те, кто знал об открытии проекта, и случайные пассажиры и прохожие. Проект сразу вызвал очень противоречивую реакцию и со стороны власти, и со стороны горожан. Власть упирала на незаконное использование «чужой» территории, переводя дискуссию в административно-правовую плоскость, а горожане выражали недовольство по поводу неуместности проекта, так как кладбище в центре города смотрится безрадостно. Авторы кладбища получили желанную реакцию, эти рецепции предвидел Э. Кубенский. Свое сознательное правовое нарушение («захват чужой территории») автор объяснял желанием действенно продемонстрировать ощущение горожанина, у которого изъяли из публичного пространства знакомые объекты, а значит, и его право на архитектурные памятники, право на любовь к своему городу. Обывательское неприятие арт-объекта выступает маркером состояния публичной сферы. Массовый человек желает наслаждения, а современные арт-объекты напоминают ему о нежеланном травматическом опыте утрат, вызывая тем самым чувства тревоги, досады. Полемика вокруг «Кладбища» проблематизировала важный аспект уличного искусства – политический. Внедряясь на территорию города, оно может объединить власть и обывателя, ее поддерживающего. В нашем случае власть опиралась не только на законотворческие акты, но и на жалобы граждан, которые считали арт-объект оскорбительным, непатриотичным, поскольку неясно, как его объяснять детям. Проект Кубенского имел длительную историю, доказывающую перформативность уличного искусства. Удовлетворив требование о демонтаже памятников, Кубенский заменил их таким же количеством флюгеров, напоминающих ветряные мельницы. Новый проект символически указывал на донкихотский характер деятельности современного художника. Следующим действием художника был перенос «Кладбища» сначала в парк усадьбы Харитоновых (в прошлом – парк Дворца пионеров и школьников), а затем к памятнику конструктивистского промышленного искусства Белой башне, одной из главных достопримечательностей конструктивистского Екатеринбурга/Свердловска, центрального объекта альбома по конструктивизму, изданного при поддержке управления культуры администрации города. Символический капитал Екатеринбурга как города с большими конструктивистскими застройками поддерживается именно Белой башней, хотя сама башня находится в плачевном состоянии. Перенос кладбища к умирающему памятнику оказался актом еще более выразительным, нежели первый вариант его существования. Таким образом, акция Кубенского оказывается репрезентативной по отношению к смыслу и назначению арт-практик. Во-первых, она занимает физическое и символическое место в публичном пространстве, меняет его, проблематизирует, дифференцирует. Во-вторых, «Кладбище памятников», превратившееся в «Кочующее кладбище», создавало пространство критического дискурса, характерного для современных художественных практик. В то же время этот проект выполнял вполне традиционные просветительские задачи: привлекал внимание к истории города, выполнял краеведческую миссию.

«Кладбище домов. Екатеринбург на память» © Эдуард Кубенский
Переформатирование публичных пространств в места критических дискуссий (реальных и символических) влияет и на статус художника, который переходит из цехового профессионального поля в поле интеллектуально-критическое. В России актуальные художники играют роль, близкую к роли европейских интеллектуалов, ибо они отвоевывают себе право на высказывание неангажированных политических суждений. Но одновременно они выносят свои суждения в публичное пространство улиц, делая его объектом «для всех».
Экспансия современных художественных практик в публичные пространства меняет и представления о статусе искусства и художника, при этом эстетическое значение искусства остается неизменным. Современные арт-практики работают с городским пространством в разных режимах: от эстетизации до деконструкции, от «очеловечивания» до «остранения». Перформативность, как важнейшая характеристика арт-практик, позволяет пространству становиться полифункциональным, популярным, вопрошающим, неутилитарным, а значит, и свободным.
Литература
Арендт X. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.
Арендт Х. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. М.: Искусство, 1965. Т. 5/2.
Бычков В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. М.: РОССПЭН, 2003.
Гарник Т. Тимофей Радя Street Artist. http://nashural.ru/ural_characters/timofei-radya.htm [Просмотрено 12.07.2014].
Гройс Б. Массовая культура утопии. http://art1.ru/art/massovaya-kultura-utopii/ [Просмотрено 25.10.2014].
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3–4. http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/ [Просмотрено 22.07.2014].
Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. 2010. 2 (70). http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/le1.html [Просмотрено 22.07.2014].
Массовая культура: современные западные исследования. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005.
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2003.
Радя Т. http://t-radya.com/street/13/ [Просмотрено 12.07.2014].
Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2002.
Шапир М. Что такое авангард? // Даугава. 1990. № 10. 3–6.
«МЫ ВЫШЛИ ЗАХВАТЫВАТЬ УЛИЦЫ»: СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ КАК КУЛЬТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГРУППЫ PUSSY RIOT
Арья Розенхольм & Марья Сорвари
В знаменитой пьесе Антона Чехова «Три сестры» (1901) одна из героинь, Ирина, в высшей степени эмоционально обращается к своей сестре Ольге со словами: «<…> Только поедем в Москву! Умоляю тебя, поедем! Лучше Москвы нет ничего на свете! Поедем, Оля! Поедем!» (Чехов 1973: 483). Пространственно маркированное желание сестер жить жизнью более значимой, насыщенной и деятельной выявляет неотъемлемую взаимосвязь между пространственным и социальным изменениями. Если стремление трех сестер к лучшей и более содержательной жизни в конце XIX – начале ХХ века можно сравнить со своеобразным билетом в один конец из российской провинции в являющуюся воплощением Города Москву, то что можно сказать о физической географии и когнитивной карте жаждущих свободы женщин современной России, если они уже живут в Москве?
Этот вопрос мы предлагаем рассмотреть на примере «трех сестер» российской феминистской панк-арт-группы Pussy Riot, проанализировав их мобильность через призму концептов идентичности, пространства и доминантных властных структур, которые отразились в их перформансах. В марте 2012 года три участницы группы были арестованы после проведенного ими в храме Христа Спасителя в Москве «панк-молебна» «Богородица, Путина прогони» и в октябре того же года приговорены к тюремному заключению сроком на два года по обвинению в хулиганстве, совершенном «по мотивам религиозной вражды». Одна из участниц группы – Екатерина Самуцевич – получила условный срок. Две другие участницы – Мария Алехина и Надежда Толоконникова – были амнистированы в декабре 2013 года, за два месяца до окончания срока их заключения[97]97
Участницы группы были освобождены в связи с амнистией, однако сами они назвали данное решение «показательной амнистией перед Олимпиадой», которая была принята с целью снизить остроту проблемы политических заключенных в России.
[Закрыть].
За последние два года опубликовано огромное количество работ и комментариев по поводу деятельности и перформансов группы Pussy Riot. В отличие от большинства писавших об этой группе в России и на Западе, мы не ставим себе целью обсуждение медийной стороны шоу. Отправной точкой нашего исследования является анализ того, какое именно пространство и каким образом используется группой для несанкционированных публичных перформансов, того, что является концептуальным положением протестного искусства Pussy Riot. Согласно нашей гипотезе, группа порождает пространства, которые находятся в сложных и динамических взаимодействиях. Эти творимые и изменчивые пространства вступают также в комплексные отношения со способами, которые акцентируют их непредсказуемость. Деятельность группы в большой степени напоминает то, что Ж. Делез и Ф. Гваттари (Deleuze & Guattari 1988: 21) назвали ризомой, которая «<…> в отличие от деревьев и их корней <…> связывает одну какуюнибудь точку с какой-нибудь другой, а каждая из линий не обязательно соединяется с другой линией того же типа; ризома использует самые различные системы знаков и даже незнаковые образования»[98]98
Все цитаты иностранных авторов даны в нашем переводе, если не указано иное.
[Закрыть]. Ризоматическое мышление в стремлении обозначить открытость и возможность (политической) интервенции резонирует с внутренней нестабильностью и перформативной природой популярной культуры[99]99
В данной работе мы используем оба термина: «популярная культура» и «массовая культура», однако в контексте западных теорий предпочтительным выглядит употребление термина «популярная культура».
[Закрыть]. Здесь мы ориентируемся на понимание «популярной культуры», как о ней пишут М. Лехтонен и A. Kойвунен: «Теория (и понятие) популярной [англ. popular] культуры могли бы претендовать на объяснение чего-либо, некой совокупности социальных и культурных феноменов, некоего рельефа. В противовес этому метатеория (и метапонятие) “популярного” задается вопросом, как получается, что мы можем в первую очередь говорить о чем-то, что называется и концептуализируется как “популярная культура”. В то время как теория “популярной культуры” занимается поисками ответа на вопрос, что такое популярная культура, метатеоретические вопросы звучат иначе. Как вообще возможны понятия “популярного”, “культуры” и “популярной культуры”? Как они формируются? Как они представляют практики, для описания которых используются? <…> метатеоретики хотят рассматривать “популярную культуру” как термин и понятие, которое само по себе нуждается в объяснениях» (Lehtonen & Koivunen 2012: 26–27).
В целом сложность и неоднозначность «популярного» становятся видимыми в особенностях техники бриколажа, подразумевающей повторное использование, обновление, реапроприацию действий и материалов культур элиты и народа (Parker 2011: 155), что наблюдается в движениях стрит-арта в современной России. В дальнейшем осмыслении популярной культуры как бриколажа мы будем опираться на определение популярной культуры, данное в работах Холта Паркера (Parker 2011), где он в большей мере обращается к модели Макса Вебера (потребление и статус), нежели к той, что предлагает марксизм (производство и класс). Хотя почти все определения «популярной культуры» ведут свое начало от определения, данного Карлом Марксом («популярная культура – это культура народных масс»), их слабым местом, по мнению Паркера, является то, что для начала нужно вычленить понятия «народ», «класс», а потом посмотреть, какие практики и объекты связаны с ними. Веберовское понятие статуса, которое базируется на потреблении, помогает понять, каким образом различные статусы порождаются различными «стилями жизни», то есть становятся результатом различных практик и объектов (Parker 2011: 158–160). Как бриколаж образов массовой культуры, так и ризоматическая карта пересекаются с другим структурным элементом, присущим публичным перформансам Pussy Riot, а именно с горизонтальной структурой и с ее множественными идентичностями в качестве элементарных частей феминистских движений в России в недавнем прошлом и любого гражданского общества. Именно этот недостаток горизонтальных отношений в современной России критикуют члены группы Pussy Riot.
Ризоматическое и горизонтальное движения зафиксированы в видеоперформансах группы, которые исполнены в присущем им стиле «бей-беги» и в которых одновременно прослеживается наслаждение определенной экстратерриториальностью в мире официальной власти и официальной идеологии – городские площади как сцена для «массовой» или в бахтинском смысле «неофициальной» культуры (Bahtin 1984: 6–7, 153–154). Начиная с 2011 года группа выступает в местах, между которыми прослеживается комплексное и динамическое взаимодействие[100]100
Это перформансы на крыше троллейбуса («Освободи брусчатку!»), в московском метро, в магазинах одежды и модных бутиках, на показах мод, на крыше стеклянного куба, в котором установлен автомобиль класса люкс («Кропоткин-водка»). С перформансом «Путин зассал» Pussy Riot выступили на Лобном месте на Красной площади в Москве. Перформансы прошли в двух кафедральных соборах – Елоховском Богоявленском и в храме Христа Спасителя. Композиция «Смерть тюрьме, свободу протесту» была исполнена на крыше спецприемника в Москве, где содержались под административным арестом участники прошедшего 5 декабря митинга против результатов выборов в Государственную Думу. А в видеоклипе «Как в красной тюрьме» участницы группы, поднявшись на крышу автозаправки, изображают захват нефтяных объектов, взбираются на нефтепровод и поливают похожей на нефть жидкостью портрет Игоря Сечина, президента госкомпании «Роснефть». После амнистии Pussy Riot продолжили свои выступления. В феврале 2014 года Толоконникова и Алехина вместе с местными активистами приехали в Сочи, где подверглись нападению со стороны казаков с плетками и баллончиками с перечным газом, а потом были задержаны милицией. Участницы группы провели несколько часов в отделении полиции, находившемся рядом с объектами зимних Олимпийских игр. Когда же их в итоге выпустили, они надели балаклавы (своеобразный фирменный знак группы) и исполнили свою песню «Путин научит тебя любить родину» прямо на ступенях отделения полиции.
[Закрыть].
Когнитивные карты на улицах и площадях
По признанию участниц группы, они «<…> осознали, что эта страна нуждается в борцах, в панк-феминистском стрит-бэнде, который пронесется по московским улицам и площадям, мобилизует общественную энергию против дьявольских жуликов путинской хунты и обогатит русскую культуру и политическую оппозицию темами, которые важны для нас: гендер и права для ЛГБТ-движения, проблемы маскулинного превосходства и феминизма, отсутствие четких политических заявлений у музыкантов и творческих деятелей, а также доминирование мужчин во всех сферах общественного дискурса»[101]101
Douglas A. Meet The All-Girl Punk Band Putin Wants Kept In Prison. 2012. 4 Aug. http://ancle4.rssing.com/browser.php?indx=3524631&item=29 [Просмотрено 2.07.2014].
[Закрыть].
Члены группы неоднократно подчеркивают в своей самопрезентации, что важный стратегический элемент их концепции опирается на спатиализацию смысла: борьба за новую Россию – это порождение альтернативных пространственных представлений применительно к их движению художественного протеста. Как нам кажется, группа моделирует существующую ситуацию в России, сопрягая пространство, гендер и художественный перформанс в своем «картографировании» соотношения политических властей в русском обществе. Таким образом, они разыгрывают коллективную «социальную драму» (Turner 1980; Wheeler 2003: 272), которая сплавляет жизнь с искусством, позволяя появляться лиминальным моментам, моментам действий, которые трудно точно определить и которые создают путаницу и хаос. Считающиеся безусловными границы оказываются нарушенными, высвечивая тем самым те границы, которые ранее были невидимыми. Одной из таких ставших видимыми границ является граница, которая пролегает между светским и все усиливающимся клерикальным процессами с их гендерными импликациями, продуцируя, если использовать термин Агаджаняна (Agadjanian 2008: 17), «фундаментальную амбивалентность» того, как российское общество обходится со свободой слова, основополагающим критерием гражданского общества.
Pussy Riot со своим создающим кризис искусством находится в одном ряду со многими другими общественными и художественными движениями «новой картографии» (Cobarrubias & Pickles 2009). Они появились как в России, так и на Западе, создавая новые пути понимания совместных стремлений, которые ведутся разными способами, в разных местах и через разные пространственные стратегии и практики. Пространство оказывает влияние на социальную мобильность, точно так же как движение создает пространства разных типов. Идея «новой картографии» может помочь нам понять динамику многодимензионального движения и сделать видимыми те ключевые точки, через которые проходят и в которых сопрягаются такие элементы, как знание, деньги и медиа. Фокусируя внимание на движении, мы с большей четкостью видим интенсификацию процессов детерриториализации и ретерриториализации (открытия и закрытия), что наблюдается не только в России, но и во всем мире[102]102
Жизнь в своих циклах становления и нестановления есть пространственный процесс – (чередование) между течением и преградой на пути этого потока, что Делез и Гваттари называют территориализацией. Процессы детерриториализации и ретерриториализации – это пространственные проявления современных изменений, происходящих в отношениях между социокультурной жизнью и ее территориальными ареалами. Понятия детерриториализации и ретерриториализации имманентно связаны друг с другом; детерриториализация может описывать любой процесс, который деконтекстуализирует набор отношений, оставляя возможности для новых территориализаций; она сопротивляется кодированию и почитанию социальных институтов. Поток высвобождается, чтобы следовать своим изменяющимся флюидам. Детерриториализация формируется без какого-либо предварительного плана или предназначения вместе с безграничным и многосложным слоем становления – бытия. Явной параллелью детерриториализации является ретерриториализация, которая проходит непосредственно после нее и является попыткой реставрировать, перекодировать и перенаправить объекты восстановленных социальных значений и традиций (Deleuze & Guattari 2005: 19, 33–34, 257; Deleuze & Guattari 1988: 219–221, 291–292, 315).
[Закрыть]. Однако именно в России наиболее очевидна пространственная политика закрытия и повсеместной направленной внутрь ретерриториализации. Здесь идут поиски в прошлом обновленного «духа места» для настоящего; здесь используются в качестве стратегий движения по возрождению анахронического культурного наследия, ностальгия по утерянным социальным кодам и особенно религиозный фундаментализм. Тем не менее этот процесс ретерриториализации создает противодействующее желание порождать новые когнитивные карты для оспаривания закрытия, а также новые «коллажи», направленные на открытие альтернативных возможностей для граждан. Проявлением этого процесса стали многочисленные российские группы активистов, которые вышли на улицы на протяжении ряда последних лет и для которых создание новых карт для общественных действий является единственным способом продолжения политической активности (Epstein 2013; Эпштейн, Поротиков 2014).
Соответственно мы задаемся вопросом, что происходит с женщинами, когда они покидают «отведенное им место» и решают «пронестись по московским улицам и площадям», чтобы стать мобильными самим и мобилизовать других женщин, причем делая это средствами панк-движения. Если, как пишет Дорен Массей, «ограничение женской мобильности в терминах как пространства, так и идентичности в некоторых культурных контекстах является важнейшим средством подчинения» (Massey 1994: 179), то женская мобильность «<…> действительно воспринимается как угроза установленному патриархальному порядку <…>. Одним вызывающим беспокойство в обществе гендерным призывом в такой ситуации может быть – опять же в терминах идентичности и пространства – двигаемся!» (Massey 1994: 11). В этом смысле своим постоянным движением и непредсказуемым выбором его путей Pussy Riot стремятся раздвигать ограничительные барьеры и нарушать систему интерференции между социальными и пространственными изменениями[103]103
«Пространство и место, пространства и места и наше восприятие их (и такие связанные с этим вещи, как степень нашей мобильности) порождаются снова и снова. Более того, они порождаются множество способов, которые разнятся между культурами и меняются с течением времени. И вот это гендерирование пространства и места одновременно отражает и влияет на практики, в которых гендер конструируется и понимается в обществах, в которых мы живем» (Massey 1994: 186).
[Закрыть]. Участники группы сами отходят от предсказуемых точек и путей «расчлененного пространства» (Deleuze & Guattari 1988: 361–362), делая пространство динамичным, то есть путем постоянной мобильности; они покидают отведенное им «гендерно приличное место» ненадлежащим, «непорядочным» способом. Артисты оказываются отвергнутыми общественным дискурсом, который в своей критике не столько обращает внимание на политическое содержание перформансов, сколько осуждает их как аморальные, называя, например, непристойными внешний вид женщин-артистов, их выкрики и телодвижения. Логика мобильности становится формой феминистского сопротивления (Massey 1994: 6–9, 179; Rose 1993), включая как реальное, так и воображаемое пространство; своей пространственной деятельностью Pussy Riot вмешиваются в доминантный дискурс об общественных и политических отношениях. Их постоянная мобильность дестабилизирует, или, согласно Делезу, детерриториализирует, жесткие зафиксированные формы мышления, деконструируя вертикальные оппозиции в горизонтальныe, что прослеживается в серийности (их видеоперформансов) и аффектах (крики и визг) при исполнении панк-поэзии, в физиологических смешениях и изменениях (узнаваемые женские тела и женские лица, но одновременно закрытые балаклавами). Непредсказуемые соединения, создаваемые во время движения, генерируют гетерогенность, подвижность и множественность ризоматических процессов, которые провокативны по отношению к замкнутости и изоляции «Святой Руси».
Неоднозначность номадизма
Отношение группы к пространству, движению и их постоянное перекартографирование, изменение и смена ими общественных пространств – все это близко по сути к метафорической фигуре номадизма, понятия, которое широко используется в критике и культурологии в последние десятилетия (Deleuze & Guattari 1988; Tally 2013: 137; Braidotti 1994). Пространство Pussy Riot качественно отличается от пространства государства; оно по своей структуре разнонаправленное, антицентричное и нелинейное. Пространственное номадическое движение переводится группой Pussy Riot в ментальный и художественный процесс, что наиболее ярко проявляется в использовании ими сетей мобильной связи. Влад Струков обращает внимание на роль этой группы в качестве примера глобального постсетевого медиа с мультиплатформенными системами и гибрида интернет-телевидения: «Pussy Riot обогатили новую логику цифровых СМИ путем размывания границ между различными темпоральностями и условностями цифрового кода» (Strukov 2013: 94). Множественность направлений движения означает, что принципы формирования группы Pussy Riot и ее деятельность – анонимность и взаимозаменяемость участниц, мобильность площадок для перформансов и использование Интернета – определяются пространственно (Leonard 2007: 144–145). Это означает, что процесс нетворкинга и распространения идей Pussy Riot и их перформансов в Интернете не унифицирован, но полиморфичен и противоречив в том смысле, что размещение видеороликов с перформансами группы в Интернете постфактум в виде отредактированных версий «оригинального» перформанса размывает границы между «аутентичным» и поддельным фэйком. И это в полной мере соответствует идее Делеза и Гваттари (Deleuze & Guattari 1988: 21) о том, что «ризома действует благодаря вариации, экспансии, завоеванию, захвату, уколу». И действительно, артисты как будто живут в движении – ментально и физически, что проявляется в их дико сотрясающихся телах и головах во время бесстрашного перформанса, переводящего артистов практически в трансцендентальное состояние.
Номадическое желание, проявляющееся в постоянно перемещающихся перформансах, является основополагающим для осмысления женской субъективности. Следовательно, женщины – участницы панк-коллектива могут быть определены как те самые «интеллектуальные номады», о которых пишет Рози Брайдотти, которые «<…> стремятся к выходу за пределы границ и к их нарушению» и которым присуще «<…> острое осознание нефиксированности границ» (Braidotti 1994: 36). Перформансы также олицетворяют непрерывную самогибридизацию, которая резонирует с «<…> концепцией субъекта-ассамблажа, подрывая понятие “себя” как автор/итарного, единого или контролируемого», как описывает понятие номадического А. Гансер (Ganser 2009: 167).
В своих перформансах на различных площадках группа демонстрирует гетерогенность и разнообразие современных идентичностей. Группа выделяет номадическую стратегию в качестве альтернативной художественной идентичности и основы своего противостояния господствующему контролю. Однако мы не можем не видеть проблем, которые появляются при практическом воплощении этой стратегии.
Вместо создания последовательного представления о том, что же такое Pussy Riot (политически и творчески), происходит размывание понятий. Их передвижения в пространстве, которые выходят за пределы упорядоченной картины, предлагают двоякоe понимание: с одной стороны, их мобильность может быть истолкована как пути побега из господствующей кодификации – кодификации социальных норм поведения, образов мышления, аксиоматических хрестоматийных философий[104]104
Эти направления движения, которые уводят от центральной точки кодификации, перекликаются с определением Делеза «линия полета» («ligne de fluite»), см.: West-Pavlov 2009: 202.
[Закрыть], но с другой стороны, поскольку члены группы не контролируют то, что происходит после их перформанса[105]105
См. интервью Уилера с акционистом Рэем Лангенбахом (Ray Langenbach) в: Wheeler 2003: 272–273.
[Закрыть], они становятся «лиминальными» Другими, а их тела – публичными мишенями коллективного кризиса, который они создают своими перформансами. Будучи лиминальными личностями, они не существуют «ни здесь, ни там»; в лиминальном времени-пространстве, как пишет Тернер, у них нет статуса, ранга или класса. Они словно подчиняются анонимности своей униформы в балаклавах (Turner 1969: 95, 106). Функцией масок в данном случае является обеспечение анонимности в контексте вызывающего агрессивного поведения; балаклавы наделяют участниц группы, по теории лиминальности Тернера, «мощью диких, преступных автохтонных и сверхъестественных существ» (Turner 1969: 172)[106]106
Д. Джалто (Džalto 2013: 5, ссылка 4) считает, что использование участницами группы масок преследует цель «разоблачить другую сторону масок», лицемерных масок, которые носят и за которыми прячутся государственная власть и все общество. В этом его взгляды противоречат взглядам Славоя Жижека, что функция масок – «деперсонализация», с акцентом на том, что важен не сам индивид, а идея.
[Закрыть].
Ризоматическая стратегия перформансов является критикующей и креативной, но одновременно с этим и уязвимой. Их выступления дестабилизируют как пространственный порядок, так и временную протяженность, апеллируя к историям и традициям. Их мобильность отрицает линейный прогресс как в пространстве, так и во времени в пользу микса старых и новых темпоральностей, движения одновременно в русле традиций и современности (Jager 2014: 26). Деятельность группы соответствует лиминальным феноменам, которые представляют «момент во времени и вне его», то есть они представляют момент «внутри и вне секулярного общества» (Turner 1969: 96). Поэтому неудивительно, что Pussy Riot рассматриваются как опасные или оскверняющие окружающее их пространство, то есть общество; лиминальные ситуации представляются как опасные и анархистские (Turner 1969: 109).