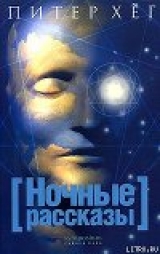
Текст книги "Ночные рассказы"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
– Может быть, – продолжал Дэвид, – вы тогда сможете объяснить мне, почему европейцы всегда представляют Африку как нечто тёмное и опасное. Я имею в виду, что нам обычно изображают Африку как тёмную лесную прогалину, откуда внезапно появляется смерть – в виде дикого зверя или отравленной стрелы. И мне пришло в голову, что вдруг это по сути своей неверно. Считается, что теория должна быть лишена загадок, исчерпывающа и как можно более проста, чего нельзя сказать о теории лесной прогалины.
Теперь улыбка исчезла с лица Джозефа К., и, когда он заговорил, голос его был тих и холоден.
– Это представление, о котором вы говорите, создал я, – сказал он, – и оно тёмное, потому что Африка тёмная.
Одним стремительным движением он дёрнул шнурок, светлые шторы раздвинулись, и за окном оказалась тропическая ночь – чёрная и непроницаемая.
– Вот она – Африка, – продолжал Джозеф К.,– Тьма, которая только и ждёт, чтобы… разорвать всех нас на части. Где-то там, в этой тьме, притаилась огромная змея – река Конго, вытянувшаяся от самой пылающей преисподней и опускающая здесь голову в море, и если есть какой-то смысл в том, чтобы посвящать это путешествие искренности, то не потому, что во тьме можно найти какую-то ясность. Там есть только великое забвение. Но от соприкосновения с этой тьмой в душе остаются шрамы, от которых у некоторых из нас возникает осознание того, кто мы есть, и того, что одиночество – неотъемлемая часть жизни, что мы живём, как и грезим, а именно в полном одиночестве.
В конце своей речи он снова овладел голосом, но тем не менее в салоне наступила напряжённая тишина, которая обычно следует за неожиданным откровением.
Тут Дэвид вдруг наклонился вперёд и задул керосиновые лампы. Сначала салон потонул в кромешной тьме. Потом из темноты за окнами поезда проступил освещённый луною ландшафт, белый и сияющий, словно на верхушках деревьев лежал бесконечный ковёр снега.
– Оборотная сторона света познания, – продолжал Дэвид тихо, – состоит в том, что можно решить, что мир и ты сам отображены верно, а в действительности быть просто ослеплённым источником света и поэтому видеть окружающий мир тёмным и непонятным, при том, что твой собственный нос сверкает на свету. Тот, кто путешествует по Африке в освещённом вагоне, когда вернётся домой, расскажет, что Африка – это таящая смертельную опасность тёмная лесная прогалина.
Некоторое время они сидели в молчании. В проникающем через окно лунном свете лица генерала и Джозефа К. были бледными и гладкими, а служанка была видна лишь как белое платье. Свет не достигал её тёмного лица. Наконец Джозеф К. чиркнул спичкой и зажёг стоявшие на столе лампы. В свете разгорающихся фитилей лицо его сначала показалось суровым, потом смягчилось.
– А ведь вы, – сказал он, словно с интересом отмечая приятную неожиданность, – …умный молодой человек. И вы, действительно, в каком-то смысле находитесь… на пути к истине. Но то, что вы говорите, для европейской публики не прозвучало бы достаточно… убедительно. Видите ли, в этом – вы ведь согласитесь со мной, господин генерал, – нет никакой особенной… изюминки.
– Меня, – холодно заметил Дэвид, – не интересуют изюминки. Как учёного, как логика, меня интересует только истина.
Джозеф К. медленно встал, подошёл к окну и на минуту застыл, глядя в чёрную стеклянную поверхность, в которой салон, лампы и медали генерала повторялись сверкающими золотистыми отражениями. Потом он задёрнул шторы и повернулся к столу.
– Истина – удивительная вещь, – произнёс он тихо. – Удивительная. По правде говоря, меня она тоже интересует. С ней есть только одно неудобство: за неё чертовски… мало платят! И я знаю, о чём говорю, потому что могу в качестве ещё одного вклада во всеобщую искренность поведать вам тайну, а именно, что я здесь не столько в качестве репортёра, сколько потому, что я писатель, к тому же известный писатель. В моём распоряжении была целая долгая жизнь, чтобы познакомиться с разницей между фантазией и действительностью, а для вас, господин профессор, – сказал он, обращаясь к Дэвиду, – я могу приоткрыть дверь в кладовую моего опыта, который в данном случае состоит в том, что мы – те, кто подобно присутствующему здесь господину фельдмаршалу и мне, зарабатывает себе на жизнь тем, что много путешествует, мы, чёрт возьми, не смогли бы выжить с одной только истиной.
Некоторое время генерал сидел молча, потом медленно повернулся к Джозефу К.
– Значит, вы, – сказал он, – считаете себя человеком без чести.
Писатель налил в свой бокал оставшееся шампанское и с явным удовольствием выпил его. Потом он улыбнулся генералу.
– Даже в моём преклонном возрасте, – сказал он, – жизнь не перестаёт меня удивлять. Кто бы мог подумать, что мне будет говорить о чести человек, получивший свои побрякушки, – здесь он махнул рукой в сторону украшенной медалями груди генерала, – за отступления.
Теперь фон Леттов не отводил взгляд со своего противника.
– Я всегда считал, – сказал он с расстановкой, – что принёс своей родине больше пользы, продолжая сражаться на коленях, а не умерев стоя.
– А я, – ответил Джозеф К.,– как человек и как писатель предпочитаю прочно стоять обеими ногами на самом дне, вместо того чтобы болтаться кверху задницей на поверхности. Как старый моряк могу рассказать вам кое-что о сладости осознания того, что дальше тонуть уже некуда. Когда-то, – продолжал он раздражённо, откинувшись в кресле, – могу вам сказать, господа, я написал книгу об одном своём путешествии, которое я предпринял как раз по этим же местам, где мы с вами едем сегодня, и в эту книгу я вложил всю свою душу, она стала настоящим выражением меня самого, и поэтому в ней, конечно же, была и ложь, и правда, и за правду публика грозилась поджарить меня на медленном огне, а за ложь готова была озолотить. С тех пор я всегда старательно подчёркивал, что мои книги – художественные произведения. Тогда я свободен отвергать правду и говорить о ней, что это выдумка, а о лжи утверждать, что она надёжно покоится на фундаменте действительности. Но, твёрдо стоя на дне, господин генерал, я больше не опускаюсь до того, чтобы называть свои вымыслы «воспоминаниями» или «воззваниями».
Даже в тот момент, когда фон Леттов схватил пожилого человека за отвороты пиджака, поднял его из кресла и притянул к себе, лицо генерала было по-прежнему невыразительно и голос не изменился.
– Какие вымыслы? – спросил он.
Повиснув в железной хватке, но без малейших признаков страха, Джозеф К. оперся о стол, чтобы сделать вдох.
– Ваши писания, господин обер-фельдмаршал, в своей… основе – не сдержанный и по-немецки основательный отчёт о том, как вы верою побеждали царства, творили правду, заграждали уста львов, угашали силу огня, избежали острия меча и стали военным героем.[8]8
Ср. Евр. 11: 33–34.
[Закрыть] Нет, ведь главное положение ваших сочинений состоит в том, что негры любят нас, что они гордо, весело, с песней на устах сражались вместе с нами против собственной расы и дохли как мухи ради участия в нашей и, в особенности, в славной немецкой Мировой войне, тогда как правда состоит в том, что они шли в бой, подгоняемые немецким штыком, и с головами, забитыми пустыми обещаниями и религиозным вздором. В истории о добровольной войне чернокожих энтузиастов вы, господин генерал, показали себя большим лжецом, чем кто-либо из писателей.
На мгновение Дэвид испугался, что фон Леттов свернёт пожилому человеку шею, потому что за внешним самообладанием генерала почувствовал волну слепой ярости. Но генерал лишь напряжённо смотрел Джозефу К. в глаза. Потом он отпустил старика, и тот плюхнулся назад в кресло.
– Иногда, чтобы увидеть истинный смысл политики, – сказал фон Леттов, и теперь Дэвид услышал новые нотки в его голосе, какой-то отголосок вековой усталости, – нужно надеть маску военного.
– А также вашу форму, – продолжал торжествующе Джозеф К.,– и эти впечатляющие украшения Weihnachtsbaum?[9]9
рождественской ёлки (нем.).
[Закрыть] Господин генерал, вы – здесь, среди наций, которые дали последний пинок Германии, среди людей, которые терпят немецкую форму только когда видят её за решёткой – или это своего рода продолжение маски? Мне кажется, что вы должны дать нашему молодому другу, нашей… математической овечке некоторое объяснение этому.
Сначала казалось, что фон Леттов с отвращением отстранился от компании, забрался в свой внутренний окоп и никогда не даст ответа. Потом он медленно, как будто читая заранее написанную защитительную речь, произнёс:
– Несколько немецких банков имеют свои интересы в этой железной дороге. Бельгийская сторона просила меня о том, чтобы я присутствовал на открытии. Я получил дипломатический иммунитет, и форму я надел по их просьбе. Таким образом, все формальности соблюдены.
Во взгляде Джозефа К. появилось нечто похожее на искреннее восхищение.
– Потрясающе, – воскликнул он, – ловко! Конечно же, всё это чтобы успокоить акционеров. Умиротворяющее присутствие старого льва. И наплевать, что у него больше нет армии, нет власти, нет зубов, лишь бы он присутствовал и рычал, вызывая воспоминания о резне масаев в Маре, резне жёлтых в Китае – вы ведь служили в Китае, не так ли, господин генерал? – о сомалийцах у Дар-эс-Салама, о кучах трупов соответствующих цветов кожи, так выпьем же за искренность, господа. Официант, ещё шампанского!
Принесли новую бутылку, и принесли её быстро и беззвучно, как и следовало ожидать, и только Дэвид обратил внимание, что принёс её уже другой официант, и что форма на нём была слишком, слишком тесная, и что бутылку он нёс горлышком вниз.
Генерал открыл бутылку и разлил шампанское, и в возникшей вслед за этим паузе Дэвид взглянул на девушку. Её глаза встретили его взгляд, и он понял, что всё это время она наблюдала за ними, при этом у него возникло странное ощущение, что она, ничего не понимавшая, впитала в себя всё сказанное и сделанное в этом вагоне и что он на самом деле говорил всё, обращаясь к ней, или, во всяком случае, имея её в виду, и впервые в жизни Дэвиду пришло в голову, что, возможно, он всегда, даже обращаясь к другим мужчинам, или к аудитории, или к самому себе или в безвоздушное пространство, потаённым уголком своего сознания мысленно обращался к некой невидимой женщине.
Атмосфера в вагоне стала враждебной, и тем не менее в этой враждебности чувствовалось присутствие каких-то объединяющих обстоятельств, как будто у этой троицы и помимо их путешествия было что-то общее, пока что не ставшее явным. Именно Джозеф К., писатель, смог найти слова для выражения этой общности.
– Мы, – сказал он, – следуя призыву Его Королевского Величества, постепенно достигли нового, прояснённого состояния и тем самым подтвердили то, что я сформулировал ещё лет тридцать назад, а именно, что путешествие в сердце тьмы может стать также и продвижением к свету. Только что обнаружилось, что я – не неизвестный репортёр, который докапывается до истины, а известный писатель и специалист в… искажении истины. Выяснилось, что фон Леттов Форбек – не непобедимый тевтон, но, напротив, военнопленный с дипломатическим иммунитетом, своего рода презент для акционеров. И оказалось, что наш юный Давид – отнюдь не лист чистой бумаги с несколькими алгебраическими закорючками, а пытливый молодой воин, который, встретив Голиафа лжи, не… чувствует перед ним страха.
– У меня, – сказал генерал, как будто и он на мгновение несколько подобрел, – есть знакомая, которая утверждает, что правду о человеке можно узнать по его маске. Имеется в виду, – продолжил он, поясняя, и Дэвид вдруг увидел его таким, каким он перед сражением немногословно и убедительно мог излагать план действий, – что выбором маски человек раскрывает истинную суть своей стратегии.
– Этой вашей знакомой, – сказал Джозеф К.,– следовало бы стать писательницей, потому что она более права, чем сама может себе представить. Всё дело в том, что маска – это и есть окончательная правда. И не потому, что она раскрывает то, что за ней скрыто, а потому что за ней и кроме неё обычно ничего нет. Это же можно сказать о чём угодно в жизни. Это можно сказать о вас и обо мне. И конечно же это относится и к литературе. Я сам, – продолжал он, и тут внезапно интуиция подсказала Дэвиду, как иногда случалось при решении математической задачи, что истинная правда об их хозяине, поведавшем, что он зарабатывает себе на жизнь, работая иллюзионистом, состоит в том, что ему самому не хватает иллюзий, – я сам когда-то сформулировал это короче и яснее других – истинная суть повествования никогда не находится внутри него, она всегда снаружи, в его, так сказать, форме. Таким образом, истинная суть этого путешествия – сам поезд и три тысячи километров пути. Полная истина о вас, господин генерал, это ваши медали, а о нашем юном Дэвиде – это его откровенная наивность.
– А вы, господин Джозеф К.,– спросил Дэвид. – В чём состоит полная истина о вас?
– Истина обо мне – это… моё лицо, – ответил пожилой человек. – В наши времена художнику, чтобы выставить себя на продажу, приходится заботиться о своём внешнем виде, и какую же злобную шутку сыграла со мной судьба, хотя, может быть, это и весьма символично: теперь, после шестидесяти семи лет тяжких трудов, невообразимых разочарований и… высокохудожественного пьянства, я наконец вылепил себе лицо, эту интригующую и неотразимую физиономию, которая в театре жизни производит впечатление даже на галёрку, и вот, – тут его голос сорвался на хрип, – я окончательно впал в маразм и не могу вспомнить собственную роль.
– Меня удивляет, – сказал Дэвид задумчиво, – что правда, если она находится снаружи, проявляется только когда люди оскорбляют друг друга, или ведут Мировую войну, или строят три тысячи километров железной дороги. Я хочу сказать: если она находится снаружи, то её должно быть заметно сразу.
И ещё меня удивляет, что мы – или, во всяком случае, вы, господа, – сегодня вечером как будто надели несколько масок одну поверх другой, в то время как Африка, которую, на мой взгляд, представляет ваша служанка, не произнесла ни слова и тем не менее остаётся тем, за кого она всегда себя выдавала. Я начинаю думать, – продолжал Дэвид, почувствовав, что он вдруг разволновался и голос его сбивается, – что этому континенту – в отличие от Европы – нечего скрывать.
Теперь встал фон Леттов.
– Господа, – сказал он, – сожалею, но я вижу, что попал не в ту компанию. В своей жизни я видел и пережил слишком много, чтобы продолжать попусту тратить время с пацифистами и людьми без чести. Я хочу перебазироваться в другое место. Сейчас я понимаю, что мне с самого начала следовало сесть в солдатский вагон, – генерал щёлкнул каблуками и слегка поклонился, сначала Джозефу К., а затем Дэвиду.
В это мгновение сидящая в углу девушка впервые пошевелилась. Она распрямилась, вытянула ноги и сказала: «Этот выход закрыт, генерал».
Услышав её низкий голос и безупречный английский, трое мужчин застыли как вкопанные. Для двоих из них в салоне до этого не было четвёртого человека: негритянка была словно камин, или шторы, или картины, или, скорее, как тьма за окнами. Теперь она материализовалась в помещении, и никакой дух с тёмной лесной прогалины не мог бы появиться более неожиданно.
– Двери, – сказала она, – заперты. Переход, ведущий в другой вагон, снят. – И, когда Дэвид бросил взгляд через плечо, она задумчиво добавила: – Слуги покинули поезд.
Пока девушка говорила, генерал сосредоточенно разглядывал её. И наконец, не отрывая от неё взгляда, он ни с того ни с сего, словно смысл сказанных ею слов благополучно миновал его, пробормотал:
– Она говорит по-английски.
Джозеф К. медленно покачал головой, как будто хотел что-то опровергнуть или же чего-то не мог понять.
Тогда генерал направил на девушку всю свою силу духа, словно луч прожектора.
– Встань, – обратился он к ней не повышая голоса, который теперь был полон угрозы. – Встать, когда к тебе обращается белый человек. Кто ты?
Теперь девушка смотрела только на генерала и, медленно откинувшись назад, приняла непринуждённую и безгранично самоуверенную позу.
– Я Луэни из Уганды, – ответила она.
Дэвид мысленно порадовался тому, что сидел, потому что у него внезапно закружилась голова и вагон начал медленно вращаться, а перед глазами снова возникло вчерашнее видение лежащего на носилках тела, и одновременно пронёсся целый поток воспоминаний о связанных с этим именем жутких рассказах, которых он наслушался за месяц своего пребывания в Конго.
– Луэни, – сказал фон Леттов, – мужчина.
– Луэни, – сказала девушка, – это я.
Трое мужчин не смотрели друг на друга, но в этом и не было необходимости. От сидящей в углу девушки исходила внутренняя сила, которая делала излишними любые сомнения и любые расспросы.
Первым сдвинулся с места фон Леттов, и, словно большое животное из семейства кошачьих, он напал беззвучно. Одним скользящим движением он преодолел разделявшее их расстояние, руки его, белые и напряжённые, взметнулись вверх, и на какую-то долю секунды Дэвид за возрастом и военными наградами увидел молниеносную прусскую военную машину в действии.
Но девушка опередила его. Она не сдвинулась с места, но в салоне что-то сверкнуло, и в её вытянутых руках оказался короткоствольный револьвер, нацеленный в переносицу генерала.
– У него, – пояснила она, – тоже только один глаз, но острый взгляд.
Фон Леттов никогда не понимал африканцев. Но смерть он распознавал безошибочно, и теперь он попятился назад, не сводя с девушки своего единственного глаза, плюхнулся в кресло, и в этом его движении было всё свойственное ему бесстрашие и его умение оттягивать поражение.
– Долго нам ждать не придётся, – сказала девушка. – Скоро мы поднимемся на перевал, и начнётся спуск. Там дорога проходит по высокому мосту над узкой глубокой долиной. Вы ведь искали истину. Вы найдёте её у того моста, во всяком случае истину о том, какова будет ваша следующая жизнь, потому что большую часть опор мы убрали.
На минуту Дэвид попытался представить себе ожидающий их впереди мост, ослабленные болты, медленное вращение при падении и удар о землю. Потом он взглянул на лица своих спутников и увидел много разных чувств: удивление, гнев, решительность и иронию – но никаких признаков страха. Кем бы там они ни были, подумал он, но они не боятся, и в то же мгновение он сам почувствовал удивительную, противоестественную уверенность и прилив тепла, как будто в салоне снова разгорелся камин. Спокойно и без лишних движений фон Леттов налил шампанское в три стоящих на столе бокала, Джозеф К. достал из кармана жилета пенсне, протёр его и надел, а девушка опустила револьвер и положила на колени.
– Выпьем за удачу, – сказал Джозеф К.,– за удачу, которая пока что нам не изменяла. – И они невозмутимо подняли бокалы.– Fortuna, – продолжил он, тем самым снова взяв на себя роль хозяина, – morituri te salutant.[10]10
Фортуна, идущие на смерть приветствуют тебя (лат.).
[Закрыть] – И они посмотрели друг на друга с какой-то новой серьёзностью, которая необъяснимым образом относилась и к африканке с её револьвером, и Дэвид мгновенно понял, откуда происходит это чувство общности.
«Это, – подумал он, – взаимопонимание тех, кому предстоит вместе умереть, это безумная респектабельная вежливость, которая охватывает и палача, и жертв, и будет длиться, пока смерть не разлучит их. К тому же эти трое безумцев настолько хорошо знакомы со смертью, что теперь, когда она оказалась ещё одним пассажиром-зайцем, им это прямо-таки нравится», – и он с трудом подавил в себе желание закричать.
Тут Джозеф К. осмотрел его через пенсне, наклонился вперёд и ласково сказал:
– Думаю, мой мальчик, у вас есть возможность сделать ещё один шаг по направлению к той смутной границе, которая отделяет юность от настоящей жизни. Я имею в виду, что, возможно, вам теперь понятно, что я имел в виду, говоря о нахождении на дне и осознании, что дальше тонуть некуда.
– Тонуть, может, и некуда, – раздражённо заметил генерал, – а вот падать предстоит футов двести.
– Если я правильно понимаю, – вежливо заметил Джозеф К.,– моя бывшая горничная имеет в виду ту долину, где, скорее всего, можно говорить о семистах футах.
«Вы совершенно безумны», – подумал Дэвид, но автоматизм научного мышления всё-таки заставил его внести поправку.
– Разница в пятьсот футов ничего не меняет, господа, – сказал он, – двухсот футов вполне достаточно для того, чтобы падающий состав, при прочих равных условиях, успел достичь почти максимальной скорости падения.
На минуту наступила тишина, во время которой Дэвид представил себе чрезвычайно малое продолжение своей недолгой жизни как короткий холодный отрезок железной дороги впереди поезда.
Тогда Джозеф К. поднял руки, словно призывая большую аудиторию к порядку:
– Господа, события последних минут заставили меня на мгновение потерять присутствие духа. Но теперь я чувствую, что пришёл в себя, и, напоминая вам о том, что теперь более чем когда-либо прежде надо поторапливаться с искренностью, поскольку у нас, – он достал золотые часы из кармана жилета, – поскольку у нас, если это именно та самая долина, о которой я думаю, вряд ли осталось больше трёх четвертей часа до… момента истины, я хотел бы попросить вас, дорогой Дэвид, поскольку вы человек, о котором мы не знаем ничего, кроме того, что у вас приятное лицо и… недремлющее чувство справедливости, рассказать, кто же вы такой.
Не веря своим ушам, Дэвид посмотрел на спутников, но не было никаких сомнений в том, что их невозмутимость была не показной, а вполне искренней. Потом он покачал головой.
– Боюсь, – сказал он, – что не могу сейчас мыслить последовательно, потому что знаю, что ждёт нас впереди. Я думаю, что нам следует использовать это время, чтобы найти какой-то выход из положения, например, спрыгнуть с поезда, – и он с надеждой посмотрел на генерала.
Но фон Леттов с презрением отвернулся.
– В первую очередь, – заявил он, – мы не сможем уцелеть после прыжка в такой местности и при такой скорости. Во-вторых, негритянка господина Коженёвского пристрелила бы нас как собак, прежде чем мы успели бы открыть окно. И в-третьих, я не хотел бы подвергать себя такому унижению, как попытка бегства от арапки.
– Прислушайтесь к мнению специалиста, – сказал добродушно Джозеф К.,– и давайте воспользуемся оставшимся временем, чтобы действительно… жить на коленях. Вы, дорогой Дэвид, вероятно, можете черпать силы, глядя на нас с генералом.
Дэвид взглянул на говорящего, и с беспросветным отчаянием отметил, что в писателе появилась какая-то маниакальная весёлость, как у человека, которого всю его жизнь подвергали унижениям, но который теперь, отбросив все условности, с облегчением обнаруживает в глубинах своей души собственный запас наглости.
– Генерал, – оживлённо заметил Джозеф К.,– всю свою жизнь прожил на краю ада, а я, при моём возрасте и моём здоровье, уже много лет просыпаясь и обнаруживая себя в живых, принимаю каждый новый день с изумлением. Подумайте о нас с генералом, юный друг, или о чём-нибудь столь же нетленном. О математике, например.
Во взгляде Дэвида читалась полная безысходность.
– На самом деле, – сказал он, – в те моменты моей жизни, когда мне действительно становилось страшно, я перечитывал какое-нибудь особенно красивое математическое доказательство, и это, как правило, успокаивало меня. Я думал о том, что в логике, возможно, содержится сама суть жизни, и если пытаться разгадать божественный план мироздания, то скорее уж его можно найти в арифметике, чем в Библии.
Он чувствовал, что попутчики с интересом разглядывают его, и под давлением сознания, что от всей его жизни остались лишь какие-то минуты, он слышал свой голос, не затихая звучащий в помещении.
– И тем не менее я здесь, потому что оставил математику, – сказал он. – Я оставил её, потому что у меня была мечта. Я подумал над тем, что вы сказали, господин Джозеф К., о том, что мы живём и грезим в одиночку, и мне кажется, я не согласен с вами. Моя мечта была всеобщей мечтой – мечтой о великой простоте. Я чувствую, что есть что-то неправильное в том, чтобы рассказывать вам это сейчас, но я всё-таки расскажу: мир представлялся нам предельно простым и цельным. И если мы надеялись, что дело обстоит именно так, то это было связано с тем… с тем, – Дэвид подыскивал слова, – что математика начала походить на падающую башню в Пизе. Огромная конструкция, которая медленно наклоняется, и никто не знает, что делать. Не знает, но надеется.
Вид у него был несчастный.
– И не только математика, то же самое с естествознанием. Такие имена, как Буль и Гильберт, Максвелл или Планк, имена, которые ничего вам не говорят, все они продолжали строить конструкцию, а она росла вверх и наклонялась всё больше и больше. Может быть, это происходит не только с наукой, может быть и со всем миром. Возьмите, к примеру, войну. В этом случае Пизан-ская башня, возможно, не вполне подходящий образ, это скорее как Венеция – всё уже начинает тонуть. И тогда мы создаём мечту, мечту о создании порядка посреди беспорядка, логически последовательную теорию, чтобы возможно было остановить общее падение в грязь. Наверное, никто не решается сказать это прямо, но все мы знаем: это желание, подобное тому, что воздвигло Вавилонскую башню. Желание дотянуться до Бога.
Сам того не замечая, Дэвид раскачивался взад и вперёд, и в глазах попутчиков приятные черты его лица расплылись, и они увидели перед собой человека, который принял на себя падение своей культуры и теперь, от безысходности, собирается пойти вслед за ней ко дну.
– Мы считали, – продолжал он, – что пусть неврологи и психиатры покажут, что человеческая душа – это тоже биология. Биологи и физики должны были свести эту биологию до химии и физики, а математика должна была упростить химию и физику до арифметики. Эту математику мы должны были сами свести к логическому исчислению.
Человеку, – в голосе Дэвида на мгновение зазвучала незыблемая самоуверенность всех европейских естественных наук, – должны были дать исчерпывающее описание в виде ряда знаков и правил их сочетания.
Тут Джозеф К. наклонился над столом, и впервые за эту ночь пожилой человек, казалось, забылся.
– Это, – сказал он восторженно, – именно то, что я всегда знал. Это то, что я предсказал в своих книгах. И это свершится. Писателю-провидцу это ясно. В человеке есть нечто… предсказуемое. Если вскрыть его прошлое, его… тёмные инстинкты, если изучить его тайный внутренний ландшафт, то, в конце концов, все оказывается таким простым.
Он резко встал, поднятый на ноги сильным внутренним волнением, и принялся прихрамывая ходить взад и вперёд по вагону.
– В детстве я часто рассматривал карты, я был… одержим картами, но более всего белыми пятнами. Эти неизвестные места, эти тёмные чуланы мира, откуда исходит… дикое притяжение. Поэтому я ушёл в море. Мне необходимо было туда попасть. И вот ты путешествуешь, путешествуешь, по Азии, по Южной Америке, вверх по реке Конго, и это… это… путешествие внутрь самого себя, это составление гигантской карты, ты становишься… геодезистом в душе. И возникает целый материк, пугающий, тёмный, он требует, требует… к себе своего человека, и начинаешь что-то понимать, что-что неопределённое. И приходит день, когда ты уже всё увидел, когда ты добрался до… стены во Вселенной, дальше уже идти некуда, нет больше ничего нового, на карте нет больше белых пятен. Но остаётся ещё что-то непонятое, в глубине человеческой души всё ещё есть белые пятна, и ты… – Тут он остановился, уставившись сквозь пенсне невидящими, слезящимися глазами в пространство. – Вот здесь-то, – продолжил он, снова овладев своим голосом, – и должна вмешаться наука. Когда мы, художники и исследователи-путешественники, показали публике, что всё можно увидеть, то наука должна доказать, что последние белые пятна, чувство вины, религия и мораль и… любовь, поддаются… как там это называется?
– Логическому исчислению, – сказал Дэвид.
– Да, именно так, логическому исчислению, что все мы – вы, господин генерал, я и этот молодой человек – в действительности одно и то же.
– Я, – сказал генерал, и голос его был ледяным, и на мгновение он забыл про девушку, как будто этот вопрос был важнее вопроса о жизни и смерти, – не чувствую никакого родства с вами – ни химического, ни какого-либо другого. Сегодня мне стало совершенно ясно, что вы бесчестная штатская крыса и трус, которым движет чуждая нашей расе беспринципность!
На мгновение Джозеф К. ошарашенно застыл, моргая, перед этим первым словесным натиском взявшего себя в руки солдата. Потом безгранично доброжелательная улыбка приподняла его усы вверх.
– О, – воскликнул он, – вы снова будите моё любопытство. И какие же благородные и сложные мотивы движут верным сыном своей расы?
– До самой смерти, – ответил генерал, не колеблясь, – я, во всём, что делаю, буду верен германскому духу братства, как это выражено у Гёте:
nimmer sich beugen, kraftig sich zeigen,
rufet die Arme der Gotter herbei.[11]11
Никогда не склоняться, сильным являться,
И сами боги помогут тебе.
(И. В. Гёте «Лила»).
[Закрыть]
– Что касается вашей смерти, – сказал Джозеф К. задумчиво, – то, похоже, ждать уже недолго. А что до Гёте, то вы ещё раз удивили меня, показав, что вы… литературно образованный человек. Но а в том, что касается нашего с вами родства, господин генерал, то тут никуда не денешься. – Здесь он опёрся о стол и склонился к фон Леттову – Через несколько лет наш юный друг подвергнет нас с вами… логическому исчислению. Через несколько лет молодой ординарец в грязном прусском военном лагере, щёлкнув каблуками, протянет через загородку несколько листков бумаги со значками и правилами их сочетания и скажет: «Здесь – генерал Пауль фон Леттов Форбек, принципиальная схема действия!»
– Кажется, я припоминаю, – сказал генерал спокойно, – что прежде вы говорили, что вся ваша суть выразилась в книге о путешествии по Африке. Если уж дело будет обстоять таким образом, то можно будет наблюдать, как через прилавки английских книжных магазинов ежедневно протягивают листки бумаги с несколькими знаками и правилами их сочетания, со словами: «Вот великий писатель Джозеф К.– принципиальная схема действия!»
Казалось, что в первый раз за всё время путешествия пожилому писателю не хватило слов, и во время возникшей паузы Дэвид откашлялся.
– К сожалению, – сказал он, – это маловероятно. – И почувствовав, что все смотрят на него, он оглядел присутствующих, и взгляд его, добравшись до девушки, остановился.
– В Вене, – медленно продолжал он, – я однажды встретился с человеком с очень ясным… пониманием вещей. Он разрабатывал теорему, доказательство, и, когда я увидел это доказательство, мне показалось, что от моей мечты ничего не осталось. Конечно же, он не единственный. Это, как я сказал, было знаком того, в каком направлении всё движется. Но он показал мне Венецию, он показал мне, что всё дело в фундаменте. Он показал, нет, он хотел показать, что, когда имеешь дело со сложными системами, а мы, люди, системы сложные, – тут он почувствовал, что начинает краснеть под взглядом девушки, – то в этом сложном присутствуют переменные, которые не могут быть выведены из исходных данных. Возможно, это означает, что хотя мы прекрасно знали отправную точку этого путешествия, мы всё-таки не могли защититься от непредсказуемого.








