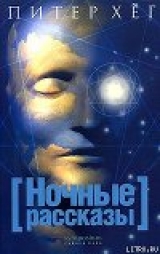
Текст книги "Ночные рассказы"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Мортен Росс сидел на доске, вмурованной в стену, он поблагодарил меня за рукопись. «Это рассказ, – объяснил он мне, – об одном судебном процессе».
«Надеюсь, – сказал я, – что в этом рассказе вы постарались не шокировать общественное мнение».
Тогда он спросил меня, нельзя ли ему прочитать его мне вслух, и даже сейчас я спрашиваю себя, что заставило меня согласиться. То мгновение запомнилось мне лишь солнцем, льющимся из окошка под потолком, и царственной элегантностью молодого человека в его унизительном положении.
И он прочитал мне рассказ о молодой женщине, которой предъявлено обвинение и которой во время судебного процесса приходит в голову мысль, что все участники происходящего, кроме неё самой, являются механическими куклами. Охваченная ужасом, она с осторожностью переходит в наступление и всё чаще и чаще начинает отклоняться от судебного порядка, чтобы при помощи непредсказуемых действий обнаружить ту область, где автоматы не en garde.[18]18
в боевой готовности (фр.).
[Закрыть] И это ей удаётся, и в конце концов она уже уверена в своём деле, она встаёт со скамьи подсудимых, и никто на это не реагирует, обходит сзади судью, который ничего не видящим взглядом смотрит на место, где она только что сидела, и тут она обнаруживает, что все судьи заводятся ключом.
Напуганная, ещё более напуганная, чем если бы все были живыми, она спускается к публике, и публика тоже оказывается механической. Но перед молодым человеком, на которого она ранее обратила внимание, она останавливается, смотрит ему в глаза и понимает, что он живой.
Тут Мортен Росс остановился, а я, должно быть, вопросительно посмотрел на него, потому что он сказал, что дальше пока ничего не написал, но если я приду ещё раз, то он уже закончит рассказ.
«Мне пора идти», – сказал я.
«Мне было бы приятно, – заметил он, – если бы вы снова смогли прийти».
«Я нахожусь здесь, господин Росс, – ответил я, – не для того, чтобы делать кому-нибудь приятно, а чтобы выполнять свой долг». И вышел из камеры.
Третье судебное заседание началось с заявления подсудимого. Медленно и почти что смиренно он в деталях рассказал о своих любовных отношениях с учеником, и, несмотря на объективность изложения, я заметил, как лица судей загорелись красным пламенем отвращения и негодования от этой беззаботной простоты повествования о такой чрезвычайно ответственной теме, от того, как легко этот человек смотрел на опасность морального разложения молодёжи.
Только в толпе публики я заметил сочувствие и весёлость, и этого я не понимал.
Когда государственному обвинителю дали слово для вторичного заявления, голос его был хриплым от негодования. Он сказал, что государство требует ужесточить наказание, ибо уголовно наказуемые и порочные любовные отношения, полные дурного вкуса объяснения обвиняемого, его переполненная исступлённой чувственностью манера письма являются не чем иным, как грандиозной, проводимой с использованием всех средств атакой на целомудрие молодёжи.
Тут Мортен Росс встал.
«Господин государственный обвинитель, – сказал он, – ваша забота о молодёжи делает вам честь, но уверены ли вы в том, что не переоцениваете моё влияние, недооценивая при этом мораль молодёжи? Я хочу спросить вас: а вы сами – что, вас переполняла исступлённая чувственность, когда вы читали мою книгу?»
Здесь я посчитал нужным вмешаться. «Господин Росс, – сказал я, – господин государственный обвинитель представляет здесь не самого себя или свои личные впечатления. В суде он представляет общественное обвинение».
«Ах вот как, – сказал он. – Но тогда хочу спросить вас, господин государственный обвинитель, не переполняла ли вас исступлённая чувственность от имени общественного обвинения во время прочтения книги?»
И так и продолжалось далее. А публика смеялась. Никогда прежде мне не доводилось так часто поднимать голос в суде. Никогда прежде я так не сожалел, что не послушался других и не позволил правосудию усмирять этого человека за закрытыми дверями. Когда я сообщил, что суд прерывает заседание на время обеда, обвиняемый встал, повернулся к публике и прокричал им, что собирается угостить их обедом: «Подождите нас с моим охранником в приёмной, – крикнул он, – пообедаем и выпьем за государственное обвинение, поскольку оно, возбудив дело против меня, обеспечило моему роману такой успех, что я прилично заработал!»
Весь перерыв я бродил по городским набережным, потому что от его слов у меня пропал аппетит, и думал о том, что он превращает суд в театр. На такую книгу надо реагировать уничтожающим молчанием, подобная любовная связь должна караться по закону, но в полном молчании, потому что речь идёт об уничтожении заразы, о том, чтобы искоренить болезнь, которая начинает бурно развиваться, если о ней говорить. Вокруг этого сластолюбца следовало бы создать пустоту и презрение, horror vacui,[19]19
ужас пустоты (лат.).
[Закрыть] говорил я ветру. Но посмотрите, что получилось. Требования точности в суде, необходимость представления всех обстоятельств дела, доводов pro et contra привели к тому, что мы, напротив, подняли со дна грязь, мы распространили заразу, мы сунули голову в осиное гнездо. Теперь книга хорошо расходится, публика смеётся, газеты пишут об авторе. Мы хотели скрыть, похоронить, ампутировать, а вместо этого вызвали любопытство, создали возбуждение, из тлеющих в обществе угольков распутства мы раздули карнавальный костёр.
И в душу мою закралось сомнение, и пошло со мной рядом, и стало задавать мне вопросы о сути справедливости. Так и должно быть, спрашивало оно? Может быть, вы служите не абсолютному правосудию, а непонятному ритуалу? Может быть, Верховный суд не есть окончательная справедливость, а просто самый изысканный общественный бордель?
Только когда я остановился, пришёл в себя и обнаружил, что пытаюсь пощупать, нет ли у меня между лопатками замочной скважины, я понял, что сбился с прямого пути, что в этой стране я тот человек, который не имеет права сомневаться, и когда я поднял глаза, то увидел, что сомнение исчезло, и я снова был в одиночестве.
В тот день, в заключительной части заседания мы встретили обвиняемого новой, сокрушительной чёткостью.
Государственный обвинитель зачитал вслух заключения нескольких литературных критиков о книге. Они были единодушны: «Замаскированное под литературу оправдание распущенности».
«Наши критики, – заявил государственный обвинитель, – тщательно проанализировали литературное качество романа, и теперь есть возможность, проникнув с помощью их научных и психологических знаний в суть вещей, констатировать, что художественные достоинства данного произведения заслуживают заключения автора в психиатрическую лечебницу, если бы он своим порочным поведением не продемонстрировал, что прекрасно подходит для заключения в обычную тюрьму».
На это обвиняемому нечего было ответить, и я заметил, что он начинает падать духом, что теперь его душа мысленно парит над внутренним двором тюрьмы в Хорсенсе, где ей самое место. Но мне этого было недостаточно, мне нужно было посмотреть ему в глаза, нужно было увидеть, как он подтверждает своё поражение в этом зале, и поэтому я снова вызвал его.
«Важно, господин Росс, – сказал я ему, – чтобы вы понимали, что речь идёт о том, к чему вы стремились при написании вашей книги: к достижению литературного качества или созданию банальной порнографии». Он посмотрел на меня откуда-то издалека, медленно возвращаясь в зал:
«А откуда господин председатель знает, – спросил он, – что порнография не может обладать литературным качеством?»
«Существует давняя историческая традиция различать искусство и явную непристойность», – ответил я.
«О, да, мне кажется, я понимаю, – сказал он. – Высокий суд имеет в виду Овидия, который был изгнан из Рима за „Искусство любви”, и то, как из датского перевода „Ромео и Джульетты” была изъята эротика, и процесс над Флобером за „Госпожу Бовари”».
И он умолк и после уже ничего не говорил.
Но его последние слова остались в моей памяти и после окончания судебного заседания, они мучили меня, ему удалось, таким образом, одновременно проявить дерзость и собрать мне на голову горящие уголья,[20]20
Ср. Рим. 12:20.
[Закрыть] это причиняло мне физическую боль, и в помутнённом от этой мигрени состоянии я подготовил, пока шёл по городу, короткую речь, обращённую к нему, речь, основным содержанием которой было то, что, естественно, решения суда являются не только отражением господствующего вкуса, естественно, существует и вечная цель для хорошего и нравственного искусства и, естественно, неизменные этические и религиозные причины считать любовь между представителями одного пола омерзительной, и всё это, решил я, мне самому надо сказать ему. Теперь, когда формальное рассмотрение дела закончилось, ответственность эта лежит на мне одном. Кто ещё сделает это, разве Верховный суд – это не я?
Когда я вошёл в камеру, он без всякого удивления посмотрел на меня и безучастно выслушал то, что я собирался ему сказать. Он предложил мне сесть, но я не стал садиться, я просто пришёл передать ему сообщение, послание истории и морали порочному писателю.
Когда я закончил, он кивнул.
«Вы пришли, чтобы сказать мне это?» – спросил он.
«Я шёл своей дорогой и зашёл по пути», – ответил я.
Он встал, и казалось, что, стоя передо мной, он вновь обрёл боевой пыл первого судебного заседания.
«Я понимаю, – сказал он, – что вы, господин председатель Верховного суда, – человек, который не ищет окольных путей, человек, который в конце своего жизненного пути сможет сказать: „Я шёл прямым путём от колыбели до могилы"».
Мне помнится, что мы топтались друг вокруг друга, как противники на ринге.
«Да, – сказал я, – и я по-прежнему иду вперёд. Вряд ли вы сможете сказать это о самом себе в Хорсенсе».
Он меланхолично улыбнулся.
«Вы осудили меня сразу же, – сказал он. – Значит, действительно у судей на спине ключи».
«А чем закончилась та ваша история?» – спросил я.
«Она никогда не будет закончена, – ответил он. – Но я представлял себе, что мужчина и женщина выйдут из зала суда вместе, и наступит период недолгого оптимизма, который закончится, когда руки девушки нащупают у него на спине отверстие для ключа, и они поднимут головы и, так сказать, обойдут город сзади, и увидят, что он тоже представляет собой кулисы, огромный бездушный механический заговор, фальшивые фасады и призрачные иллюзии».
«И где же заканчивается эта невероятная история?» – спросил я.
«После своего открытия девушка возвращается назад в зал суда и остаётся там, оказываясь на другом процессе, при том что никто не замечает этого, дело идёт своим чередом, и её осуждают за что-то другое, а не за то, в чём обвиняли прежде, и она принимает этот приговор, потому что уж лучше участвовать в механическом ритуале, не имеющем никакого смысла, чем парить в одиночестве, в пустом пространстве. Так что история, господин председатель, заканчивается там, где все мы окажемся, – в суде».
Я почувствовал сильное желание наброситься на него, и все центробежные силы должны были бы отбросить нас друг от друга, но получилось иначе. Мы, наверное приблизились друг к другу, потому что он вдруг оказался прямо передо мной, в лучах солнца, самый красивый и самый обнажённый человек, которого я когда-либо видел, и меня притянуло к нему, словно метеор, который на поверхности планеты должен превратиться в воронку и гору пепла. Но этого не случилось. Вместо этого я поцеловал его.
– Здесь, – сказал Гектор Ланстад Раскер, – отец на мгновение остановился, глядя прямо перед собой, но он не видел нас, своих гостей, он видел что-то другое. ‹И единственно странным, – сказал он мечтательно, – единственно новым и неожиданным было лёгкое покалывание его щетины».
Потом он снова собрался с мыслями. «На следующий день мы обсуждали решение, – сказал он, – и все мы чувствовали, что находимся на пороге новой эпохи. Мы знали, что ожидается смягчение закона о печати и что меняются взгляды на физиологическую сторону любовных отношений. Но гораздо сильнее, чем это предчувствие нового времени, гораздо сильнее этого я ощущал в то утро в зале присутствие чего-то другого: поразительного обаяния обвиняемого.
Порядок в Верховном суде таков, что своё мнение первым высказывает самый молодой судья, и голоса первых шести судей смягчили бы приговор, доведя его до незначительного срока. Я помню, что один из них заявил, что сказанное на этом процессе посеяло в его душе сомнение в уместности судить искусство, и не следует ли обратить эти сомнения в пользу обвиняемого?..
Следующие шесть судей высказали несогласие, они предлагали оставить приговор или ужесточить его. То, с чем они столкнулись в этом деле, им не понравилось, они стремились искоренить зло, и голоса сравнялись. Я догадывался, что так и будет, я предполагал, что сложится паритет голосов.
Я отчётливо помнил вчерашние события, не думайте, что я растворил случившееся в глубинах своей души, не думайте, что я разбился о поверхность молодого человека. Я ясно видел своё собственное падение и понимал, что это падение – не только моё, но и падение всей правовой системы, и вместе со мной, думал я, она снова поднимется, при том что никто ничего не обнаружит, и одновременно я говорил ясно и с энтузиазмом о необходимости ужесточить наказание. Я напомнил им о том, что максимальное наказание – шесть лет исправительных работ, и менее четырёх мы дать не можем, заявил я, и именно такой приговор и был вынесен в тот день, и, когда его зачитывали, я смотрел ему в глаза, и тут моё равновесие вернулось ко мне.
В ту ночь я не мог заснуть, я встал и отправился бродить по улицам. Выпал снег, и, хотя небо было черно, город излучал мягкий белый свет, словно где-то поблизости, из какой-то глухой улочки вот-вот поднимется луна, на мгновение задержавшись в матовой стеклянной бутылке города.
Я шёл по улицам, и на каждом углу меня поджидали фрагменты моей жизни, и мы молча приветствовали друг друга, и снег заглушал мои шаги. Но перед вашими окнами я останавливался. В ту ночь я останавливался перед окнами государственного обвинителя, перед вашими, господин комиссар полиции, и перед вашими, дорогие дамы, и очень долго я стоял под твоими окнами, мой сын, и думал, что вот тут спит моя жизнь, и, собравшись с силами, я пошёл дальше, не встретив никого кроме собственных видений, и наконец я оказался перед зданием суда и вошёл внутрь.
В это мгновение взошла луна, наполняя зал прохладным голубым светом, словно вода, медленно струящаяся в аквариум, и тогда я понял, что в эту ночь состоится слушание моего дела, что Верховный суд спросит меня, а жил ли я на самом деле.
Первым взял слово адвокат, и адвокатом был я сам, и в ту ночь суд в виде исключения разрешил, чтобы были приглашены свидетели, и я привёл тебя, мой мальчик, посмотрите, сказал я судьям, у меня есть сын. И я привёл вас, дорогие дамы, тех, в кого я был влюблён в молодости, – да, вы удивлены, вы этого не знали, может быть, даже не догадывались об этом, – но так всё и было, вас и свою жену я привёл в качестве свидетелей и сказал суду: «Посмотрите, вот женщины, которые были в моей жизни».
«И наконец, – сказал я, – в заключение своей защитительной речи я хочу сказать, что я, насколько это было в моих силах, был хорошим гражданином и честно выполнял свои обязанности».
Потом слово взял обвинитель – и это тоже был я, – и он, как обычно, был доброжелателен, я просто, сказал он, хочу поддержать один из вопросов обвинения: господин Ланстад Раскер, вы когда-нибудь любили? Правда ли это, что вы никогда не любили детей? Разве неправда, что вы, исходя из совершенно самому вам непонятной антипатии, заставили вашу жену переселиться из вашей общей спальни в дальнюю часть дома вскоре после заключения вашего брака?
А увлечения вашей молодости? Не правда ли, что вы так никогда и не ответили на чувства этих пяти женщин? Что вы с неохотой ходили на свидания в пустые квартиры, откуда эти женщины с великим трудом устраняли своих родителей, в квартиры, где эти женщины подготавливали всё для своего совращения, и, как только вы чувствовали прикосновение их рук к своей коже, у вас возникал необъяснимый приступ морской болезни, навязчивое ощущение ненормальности происходящего?
И тем не менее вы, господин Ланстад Раскер, – человек, полный любви, мужчина, которым движет безумная тоска по чувственности. Не правда ли, что эти неудачные свидания низвергли вас в бездну неизмеримого страдания, и вы пошли к аптекарю, который продал вам афродизиаки, неэффективность которых заставила вас решить, что у вас отсутствует естественное влечение?
И тем не менее вы знаете, господин Ланстад Раскер, вы знаете, что вы – человек всепоглощающей страсти. Но вы разлили эту страсть по бутылкам, вы запечатали её и прикрепили ярлыки, отставили их в сторону, чтобы быть уверенным, что никто не потрёт их, вызвав тем самым неуправляемые силы, и поэтому обвинение должно задать вопрос: находятся ли такие поступки в соответствии с законами жизни? Жили ли вы, господин Ланстад Раскер, жили ли вы в действительности?
И я посмотрел на членов судейской коллегии, и они стали голосовать, и был вынесен приговор.
На следующий день рано утром я отправился в Министерство юстиции, к заместителю министра, и подал прошение о временном освобождении арестованного. Ситуация была исключительная, я уже не помню, что я там говорил, но помню, что подумал: неужели лгать действительно так легко? Держа в руках разрешение на освобождение из-под стражи, я забрал из тюрьмы Мортена Росса, преступив тем самым статью 131 Уголовного кодекса, согласно которой тот, кто злоупотребляет своими полномочиями, наказывается тюремным заключением или лишением должности. Тюремный надзиратель был удивлён, но не настолько, насколько он был бы удивлён, если бы знал, что я собираюсь помочь узнику бежать, преступая тем самым статью 108 Уголовного кодекса.
Вы хотите спросить меня о реакции заключённого. Её не последовало. Он спал когда я вошёл в камеру, но когда я осторожно потряс его, он открыл глаза, и я увидел, что сна его нет и в помине.
«Я воспользовался, – сказал я, – окольным путём, чтобы забрать вас, господин Росс», – и показал ему бумаги об освобождении. Он посмотрел на них, а потом встал и оделся передо мной, и потом вышел со мной, и всё это, не сказав ни слова.
– Здесь отец остановился, – сказал Гектор Ланстад Раскер.
В продолжение своего рассказа адвокат Верховного суда стоял, словно он находился в зале суда. Теперь он как будто вспомнил, что три сидящих перед ним человека – это его семья, а не противная сторона в деле, и огляделся по сторонам в поисках стула. Но воспоминания снова захватили его, он выпрямился, и его глаза, словно глаза слепого, вновь стали пристально вглядываться в прошлое.
– Мы, сидевшие за столом, – продолжал он, – в этот миг не могли смотреть друг другу в глаза. Тогда рядом с моим отцом встал повар, и, когда он снял свой белый колпак, я узнал его. Это был писатель Мортен Росс, которому был вынесен приговор, на нём должна была быть надета арестантская роба, он должен был быть обрит наголо и держать в руке лопату, а вместо этого он стоял перед нами – длинноволосый и в форме повара.
От гнева кровь прилила у меня к лицу, и мне пришлось медленно выговаривать каждое слово, чтобы не подвёл голос. «Ты нарушил закон», – сказал я.
Отец пристально посмотрел на меня. «Я люблю его», – сказал он, и я почувствовал, что от отвращения теряю рассудок.
«Невозможно, – сказал я, – любить мужчину».
Тут заговорила моя мать. «Ты ошибаешься, Гектор, – сказала она. – Это очень даже возможно. Я сама много раз это делала».
«Тебе, мама, – сказал я, – следует помолчать». Я оглянулся на сидящих со мной за столом и увидел, что они просто парализованы.
«И что теперь?» – спросил я.
«Теперь мы уезжаем, – ответил отец. – Через час нас заберёт рыбачья лодка и отвезёт во Фредериксхаун. – И добавил тихо: – Мы покидаем Данию».
«А ты, мать, – сказал я, – что ты скажешь на это?» И она, которая, сколько я её помню, всегда выпаливала свои ответы, задумалась. Потом посмотрела на отца, своего мужа. «Это, Игнатио, – проговорила она медленно, – как я понимаю, то, что тебе всегда было нужно».
Минуту отец прямо смотрел на неё, и я предполагаю, что в эту минуту они подводили баланс какого-то счёта, который никогда прежде не сходился.
Потом он оглядел всех нас. «Я пригласил вас, – продолжал он, – приехать сюда сегодня вечером, потому что все вы, сами того не зная, in absentia[21]21
заочно, в отсутствие (лат.).
[Закрыть] присутствовали в ту ночь при вынесении мне окончательного приговора.
Это был смертный приговор. Председатель Верховного суда Игнатио Ланстад Раскер должен умереть и исчезнуть, чтобы, если уместно так сказать, возродиться заново. Мне очень хотелось, мне было необходимо, чтобы вы присутствовали при моих похоронах и моём рождении, потому что это те два момента, при которых рядом с человеком должны быть те, кого он любит.
Я, конечно, знаю, что порождён жизнью. Но в какой-то момент я, должно быть, отвернулся от неё, и тем не менее надо же так случиться – повернуться к жизни спиной, чтобы тебя всё равно – если можно так сказать, сзади – настигла и заполнила любовь».
И тут я встал.
«У тебя, отец, – сказал я, – будет возможность поплакать над жизнью, смертью и любовью в тюрьме Вестре, когда ты будешь отбывать два года за злоупотребление служебным положением и два года за противоестественные половые отношения».
Я оглянулся по сторонам, и на лицах всех остальных не увидел ничего, кроме сомнения – датской национальной болезни. «Господин комиссар полиции, – произнёс я, – примите, пожалуйста, необходимые меры». И медленно, словно выбираясь из вязкой жидкости, начальник полиции нравов поднялся на ноги.
«Господин председатель Верховного суда, – произнёс он, – вы незаконно освободили заключённого. Вам, разумеется, придётся проследовать со мной в Копенгаген, чтобы всё встало на свои места», – и он двинулся к отцу.
В этот момент мой отец обнял повара, движением, которое было одновременно защищающим и нежным, и тогда я впервые в жизни увидел, как мужчина ласкает другого мужчину, и дай Бог, чтобы это было в последний раз. На секунду у меня в глазах потемнело, и показалось, что меня сейчас вырвет, и тут-то – когда моё внимание рассеялось – всё и произошло. Когда я снова открыл глаза, комиссар издал что-то вроде хрипа, качаясь, побрёл назад к своему месту и сел, уронив голову на стол.
За ним обнаружилась моя мать, которая обеими руками держала тяжёлую медную сковороду, до того висевшую на стене.
«У мужчин, – заметила она, – хрупкие головы и куриные мозги».
В это мгновение мне стало ясно, что мне предстоит увидеть обоих своих родителей обвиняемыми в суде и что мне самому придётся давать показания против них, и, возможно, именно тогда, когда я это понял, я стал взрослым. Я поднял руки: «Нам надо, – сказал я, – всё это обсудить», – и мои слова всех успокоили, все как-то осели, а я подошёл к отцу и его любовнику и резко, изо всех сил ударил маленького повара в челюсть. Тот сразу же упал, словно его скелет был каучуковый. Потом я схватил отца за отвороты пиджака. Я знал, что он будет бороться, и я знал, что должен победить его, и что так и будет, что эта схватка столь же проста, как и бои по вечерам в Академическом боксёрском клубе, за тем исключением, что в данном случае на карту было поставлено всё. Но сперва я хотел поговорить с ним, хотел откровенно рассказать ему о том, как страшно для сына потерять отца, ведь в эту ночь я его потерял, и я уже готов был произнести эти слова, я и сегодня их помню. Но я так и не сказал их. Я открыл рот, и мой язык пронзила резкая боль, и в следующее мгновение я оказался на полу, а за моей спиной стояла моя жена, твоя мать, Томас, Элине Ланстад Раскер, присутствующая здесь, а в руке она держала большую зеленоватую бутыль с одним из кораблей моего отца.
Я попытался сесть, и тогда она ударила меня ещё раз. Лёжа на спине на полу, я сказал: «Ты бьёшь меня, Элине», – но она ничего не ответила, и тогда я увидел, что другие женщины тоже встали, в руках у них сковороды, тяжёлые половники и бутылки с кораблями. Я снова попытался подняться, но они опять стали меня бить, и передо мной снова возникло лицо Элине, и я помню, что она сказала. «Мужчин, – сказала она, – надо защищать от них самих».
У меня ещё оставались силы. «Вы понимаете, что делаете, – кричал я, – он предатель, он предал не только меня, своего сына, он предал тебя, мать, и тебя, Элине, и всех женщин», – но они мне не отвечали, и я признаю, что плакал, что потерял самообладание. «Свинья, – кричал я своему отцу, – совратитель детей», – и, должно быть, они продолжали меня бить, потому что помню только, что они завернули меня в лежавший на полу ковёр, и я не мог сопротивляться, и, возможно, меня всё ещё били, возможно, я потерял сознание, потому что, когда я пришёл в себя, всё уже закончилось.
Отца, конечно же, не было, и маленького повара не было, а присутствующие в комнате сидели молча. И все пили – они нашли бутылки, в которых он хотел построить корабли, и теперь они сидели и пили – женщины, моя мать, моя жена, епископ, комиссар, профессора.
Я выбрался из ковра и оглядел их всех, но все они избегали моего взгляда, и я понял, что от этих людей помощи не дождёшься.
Постепенно все разошлись, и наконец в комнате осталась только Элине. Она сидела, положив руки на стол, и смотрела на тёмное море, и не стану отрицать, что в это мгновение я всё ещё горячо, безумно надеялся, что будет дано объяснение или извинение за всё то, чего я не мог понять. Но она не замечала меня, она просто смотрела в ночь и потом тихо проговорила самой себе: «Повернуться спиной к жизни, чтобы тебя всё равно сзади настигла и заполнила любовь».
На мгновение Гектор Ланстад Раскер спрятал лицо в ладонях, и, когда он убрал их, он снова владел собой. Потом он взглянул на свою жену, которая пристально смотрела на него всё время его повествования.
– Скажи, Элине, – спросил он, – я рассказал всё именно так, как было?
– Ты, – ответила она, – рассказал всё именно так, как было.
– Как ты понимаешь, Томас, – сказал адвокат Верховного суда, – мне было очень неприятно, но также и необходимо рассказать тебе это. Осталось только добавить, что я развёлся с твоей матерью сразу же после возвращения в Копенгаген.
– А потом вы когда-нибудь, – спросил Томас, – слышали что-нибудь о моём дедушке?
– Из-за границы приходили письма, – ответил адвокат Верховного суда, – и я отсылал их нераспечатанными назад. Последнее письмо пришло десять лет назад.
Гектор Ланстад Раскер посмотрел на портрет своего отца.
– Для меня, – сказал он, – из самой этой истории не следует никакой морали. Но у меня есть надежда и предположение, что можно создать мораль там, где история заканчивается. Я благодарю вас за ваше внимание.
С этими словами он вышел из комнаты. Некоторое время его бывшая жена сидела не шелохнувшись. Потом она бросила быстрый взгляд на новобрачных и тоже вышла, не сказав ни слова.
Томас встал и подошёл к окну. За его спиной, в кресле, словно кошка, свернулась девушка.
– Наступила ночь, а мы и не заметили, – сказала она.
Томас пошёл к столу и вылил в свой пустой бокал последнее чернильное содержимое бутылки. Потом одним движением осушил его, и рот его наполнился горьким осадком, но одновременно и кисловатым, возбуждающим привкусом земной природы.
– Да, – сказал он, – бывает, что ночь подкрадывается к нам сзади.
Он подошёл к одному из окон, приложил лоб к стеклу и стал смотреть в ночь.








